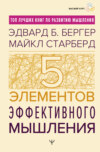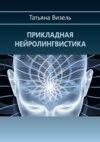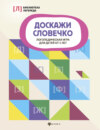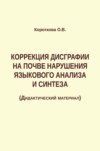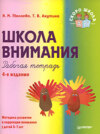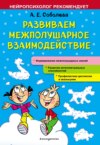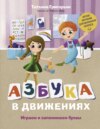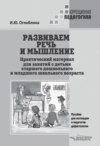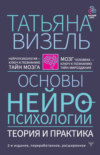Читать книгу: «Приобретение и распад речи», страница 4
Часть II
Приобретение речи
Глава 1
Понятие речевых навыков и их роль в речевой деятельности человека
1.1. Речевые навыки как интегративные единства
Исходные для овладения речью речевые инструменты даются человеку от рождения. При этом они не сводятся к врожденным анализаторным функциям, таким, например, как зрение и слух. Они состоят в наличии в мозге человека природой предусмотренных структур, способных на осуществление различных по степени сложности речевых действий. Для того чтобы они реализовались, необходимо познание объектов, ситуаций и событий внешнего мира. Именно результаты этого познания, обработанные механизмами речи, становятся различными видами речевой деятельности человека. Способность сделать отдельные объекты внешнего мира фактами речи – означает приобрести новую систему познания мира, а именно вторую сигнальную систему, по определению И. П. Павлова.
Особенности мозгового обеспечения речевых навыков
Не требует специальных пояснений тот факт, что, осваивая осмысленную речь, ребенок устанавливает ассоциации между предметом и обозначающим его словом. На этой основе он понимает слова.
В рамках современного уровня развития нейронаук является установленным, что основным условием овладения ребенком знаний, включая развитие речи, является созревание проводниковых систем, связывающих между собой разные зоны мозга. В 2009 году Национальным институтом здоровья США утверждена концепция коннективности, значение которой трудно переоценить. Стало доказанным, что пик созревания проводниковых связей (белого вещества мозга) приходится на раннее детство, а именно на третий-четвертыйгоды жизни (Kuhl P., 1910).
По мере разветвления межзональных связей в мозге меняется картина взаимодействия тех его участков, которые обеспечивают приобретение когнитивного багажа. Применительно к развитию речи наиболее важным является то, что по мере овладения словами присутствие предметов в момент их использования перестает быть необходимым. Слово само становится способным вызвать образ предмета в сознании. Это означает, что образ предмета входит (интегрируется) в слово. Аналогичным образом в вербальные части речевых действий вписываются и другие невербальные стимулы внешнего мира. Таким образом, речевые навыки являются результатом процессов, состоящих во вложении невербальной части речевых действий в вербальную. Эти действия, следуя данному Н. И. Жинкиным (1958) определению речевых механизмов, можно считать еще одним специфическим механизмом, благодаря которому приобретаются навыки.
Важное значение предметного, то есть рукотворного мира, в овладении людьми речью признавали Л. С. Выготский, А. Р. Лурия и др. Л. С. Выготский подчеркивал, что действительность (социум) предстает перед человеком не только в виде естественно-природных стимулов, как для большинства животных, но и в виде созданных им самим объектов действительности. А. Р. Лурия акцентировал внимание на том, что на всех этапах развития человечества человек оперировал с предметами. Это привело к выработке предметного пласта психики. В рамках речевой функции этот пласт явился важной предпосылкой, состоявшей в способности узнавать предметы и их изображения (гнозис), а также совершать предметные действия на основе усвоенных в процессе практики обобщенных схем этих действий (праксис). Оперирование с объектами этого мира сделало психику человека принципиально отличной от психики всех остальных биовидов, обитающих на Земле. Именно благодаря взаимодействию человека с объектами и возникла речь, представляющая собой один из возможных способов их обозначения.
Привлекая внимание к положению Л. С. Выготского о том, что слово является не столько «коррелятом мышления», сколько сознания в целом, А. Р. Лурия считает, что слово отражает внешний мир во всех его связях и взаимоотношениях. Этому посвящена его работа «Язык и сознание» (1955). Представления о слове как о маркере связи его значения и объектов внешнего мира явились для нас мощным основанием для выдвижения обсуждаемых собственных идей.
Кроме того, в лингвистике имеется концепция двойной членораздельности языка. Она состоит в том, что мир звуковых символов, организованных в дискретные ряды слов-понятий, признается приобретаемым на базе овладения предметами (Чейф У. Л., 1985). Первые составляют в рамках речевых актов «означающее» (собственно сами слова), вторые – «означаемое» (предметы и символы).
Предметный мир составляет в целом сумму объектов, без которых речь как средство реализации языка не могла бы быть осмысленной. Слова, обозначающие действия, качества, состояния, грамматические средства связи слов – результат воплощения в словесной форме качества предметов, их состояний и взаимодействий.
Представляется, однако, что в признание важности предметного мира в освоении речи можно привнести определенные дополнения. Они состоят в том, что ассоциативного взаимодействия между раздельно существующими предметным и словесным планами объектов жизни недостаточно. Такой способ, требующий наличия объекта оречевления в доступном сенсорному восприятию пространстве, является неэкономным и не всегда осуществимым. Он предполагает нахождение человека в конкретной ситуации и подыскивание вербальных средств ее оречевления. Людьми был найден способ избежать этого. Человек стал запоминать образы оречевляемых объектов и использовать их вместо реальных. Со временем это привело к тому, что образы предметов стали вписываться в слово, интегрироваться в него. В результате стало образовываться интегративное невербально-вербальное единство в виде слова, содержащего в себе образ предмета. Такое слово стало способным воплощать и передавать информацию самостоятельно, вне обозначаемых им объектов. Это ярко демонстрируют особенности определенного этапа речевого развития ребенка, когда он, для того чтобы понять слово, перестает нуждаться в том, чтобы видеть, осязать, обонять обозначаемый им предмет. В этот период на вопрос «как разговаривает кошка?» он отвечает «мяу-мяу», несмотря на отсутствие кошки в обозримом пространстве.
Аналогичным образом осуществляются вложения (интеграции) в слово не только предметов, но и предметных ситуаций и событий. Появляется способность пользоваться фразовой речью. При этом речевые действия строятся не на основе установления ассоциативной связи между словами и обозначаемыми ими объектами, а с помощью речевых навыков, посредством которых речевая деятельность осуществляется как бы сама собой.
Такое же условие является необходимым и для овладения детьми словами. Подгоняя слова под предметы и, напротив, предметы под слова, ребенок одновременно извлекает их общие и дифференциальные признаки, то есть овладевает символическим понятием класса предметов.
Чтобы речевое действие по использованию слов стало осмысленным, символы неречевых объектов должны в них вложиться (интегрироваться). При этом зона мозгового обеспечения таких действий перестает быть речевой в строгом смысле слова. Она становится интегративной, способной к реализации не только самого слова, но одновременно и неречевого символического компонента, присутствующего в ней в виде «островка» памяти на него.
Помимо собственно предметов во внешнем мире существуют и невербальные стимулы более высокого порядка, к которым принадлежат буквы, цифры, математические, химические и прочие знаки, художественные образы. Это символы, которым большое значение в становлении психики человека придает Эрнст Кречмер (1998). Они позволяют опираться на усложненные афферентации и овладевать более совершенными видами речи.
Роль функциональных трансформаций в приобретении речевых навыков
Превращение развернутых речевых действий в навыки сопровождается рядом функциональных трансформаций. Их закономерности, не применительно к рассмотрению речевых навыков как отдельных феноменов речевой способности, отражены в ряде работ, посвященных приобретению речи в онтогенезе, в частности в работе А. Р. Лурия «Очерки психофизиологии письма» (1950). В ней описаны основные изменения способов действий при овладении письмом. По мере того, как действия становятся увереннее, отпадает необхимость в ряде ранее обязательных звеньев и, прежде всего, в проговаривании, необходимом на более ранних стадиях освоения письма. Письмо становится актом, не требующим той степени развернутости, которая была необходима вначале, то есть оно трансформируется в навыки письма.
Функциональные трансформации как феномен различных преобразований в психике человека описаны также в нейрофизиологической литературе такими авторами, как Н. П. Бехтерева, Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. Кинсборн (М. Kinsbourne) и др. В основе выдвигаемых ими положений лежат эмпирические наблюдения, состоящие в том, что:
1) звенья какой-либо высшей психической деятельности, сыгравшие свою роль в ее приобретении, редуцируются;
2) по мере созревания функции происходит ее постепенное усложнение по содержанию и одновременно упрощение по структуре, обусловленное концентрацией ролей нескольких звеньев в одном, основном.
В результате обозначенных преобразований речевых действий в коре мозга специализируется зона, где слово и внешний стимул могут объединиться и стать симбиотическим целым. Это похоже на рождение ребенка, который является новым существом, но в котором присутствуют элементы генофонда обоих родителей. Подобные трансформации представляется возможным обозначить как развитие по принципу вложения. В результате их осуществления в мозге должна специализироваться особая территория, предназначенная для локализации речевых инструментов, представляющих собой интегративные единства. Они позволяют на основе использования речевых навыков осуществлять беглую разговорную речь, составляющую основной пласт речевой способности в целом. Имеются основания считать, что области представленности в мозге разных видов речи, состоящей из навыков, располагаются в переходных зонах между территориями мозгового представительства вербальной и невербальной частей речевого действия.
1.2. Виды речевых навыков
Виды речевых навыков различаются в зависимости от того, к какому виду речи они относятся.
В составе импрессивной речи значимы два вида речевых навыков, относящихся к разным уровням:
1) исполнительному, подразумевающему способность расслышать слова;
2) языковому, подразумевающему способность понимать слова, употреблять слова, изменять слова по форме, строить фразы.
В составе экспрессивной речи также значимы виды навыков, осуществляющие акты говорения разного уровня:
1) членораздельные – артикулирование в рамках повторения слов;
2) говорение слова вслух от себя, то есть спонтанное их артикулирование.
Спонтанное артикулирование – условный термин, не употребляемый в литературе. Он используется нами в целях подчеркивания его принципиального отличия от артикулирования в рамках повторения слов, при котором выбор артикулем может опираться на их акустические образцы. В отличие от этого, спонтанное артикулирование требует способности выбора артикулем самостоятельно и путем операций кодирования смысла своей речи. Такую закономерность можно сравнить с той, которая лежит в основе различий между ходьбой и танцем.
В литературе по механизмам речи, как в норме, так и в патологии, различий между повторным и спонтанным артикулированием не проводится. Между тем это является принципиально важным для оценки состояния экспрессивной речи в целом. Далее это будет раскрыто подробнее.
Роль речевых навыков гностико-праксического уровня ограничивается членораздельным восприятием речи или ее двигательным обеспечением. Они как бы «поставляют» высшему понятийному уровню, то есть фонематическому, материал для смысловой обработки.
Если не приобретается способность четко расслышать звучащую речь с помощью речевого слухового гнозиса или произнести что-либо членораздельно с помощью артикуляционного праксиса, то высший фонематический уровень владения языком остается без тех речевых стимулов, которые подлежат смысловому декодированию и кодированию. Другие речевые механизмы принадлежат языковому уровню и употребляются в рамках осмысленной речи.
Из сказанного выше вытекает, что каждая этапная функция играет свою собственную, самостоятельную роль и их последовательность составляет иерархически организованную линию, ведущую к функции высшего уровня. Следовательно, эволюционные изменения, которые функция претерпевает по вертикали (от этапа к этапу), в отличие от тех, которые происходят по горизонтали, не являются средством структурного и локализационного упрощения (сворачивания) осваиваемой функции.
В отличие от речевых навыков произнесения и понимания слов механизмы называния предметов и грамматического структурирования не зависят непосредственно от гностико-праксической базы речи.
Речевые действия, относящиеся к гностико-праксическому уровню, не являются смысловыми. В частности, повторять речевые стимулы можно неосмысленно. Однако для реализации речевого замысла необходим смысловой механизм. Основным средством достижения разных навыков уровня языка, как уже говорилось, является фонематический слух (ФнСл). Без участия ФнСл ни один вид речевых действий на смысловом уровне не приобретается. Из этого следует, что главной и первичной речевой зоной является только третичная кора левой височной доли, что согласуется с мнением П. Мари. На базе фонематического слуха осваиваются и механизмы грамматического оформления речи. Применительно к морфологическому разделу грамматики выделен раздел фонологии, называемый морфонологией (Н. С. Трубецкой).
На рисунке 2 показано, что роли ФнСл (обобщенно Фонемы) многообразны.

Рис. 2. Функциональные роли Фонемы
Видно, что каждая из обозначенных ролей фонемы специфична для соответствующей системы (кода языка).
Для понимания особенностей созревания различных видов речевых механизмов и приобретаемых с их помощью речевых навыков важна направленность функциональных интеграций. Так, при приобретении речевого механизма понимания слов, то есть фонематического слуха, образы стимулов внешнего мира интегрируются в область потенциального механизма понимания слов, то есть направленность функциональных интеграций от внешней части речевого действия к внутренней.
Принципиальным является и то, что в период овладения речью состояние проводящих путей важнее, чем самих речевых зон коры; после приобретения речевых механизмов, достигших статуса интегративных единств, роль проводников уменьшается или вовсе исчезает.
Произвольная развернутая речь, не сводимая к использованию беглых разговорных конструкций, осуществляется за счет отдельных друг от друга частей: языкового механизма (фонематического слуха) и стимулов внешнего мира. Однако это возможно только при условии, что пласт речевых навыков присутствует. Без этого с помощью речи нельзя выразить себя, свою индивидуальность, донести до собеседника свои собственные мысли и чувства, актуальные в данный момент. Однако такая задача решается только произвольным путем. Когда говорящий останавливается и задумывается, какими словами выразить свою мысль точнее, ярче, он прибегает к произвольному поиску речевых средств, которые накладываются на речевые навыки. Таким способом в специальной профессиональной, деловой речи, в словесно-художественном творчестве появляются индивидуально построенные высказывания. В поэзии и даже в художественной прозе речевые шаблоны, клише – помеха. Они снижают художественную ценность произведения, которая требует полной свободы в выборе речевых средств и составления множественных комбинаций, приводимых данным автором. Творчество, по выражению Н. А. Бердяева, это бездонная и непонятная свобода. Различия в используемых видах речи, обусловленные языковыми индивидуалиями, отмечены еще А. Куссмаулем, считавшим, что речь не есть просто функция коры мозга, она зависит от степени интеллигентности, сообщающей ей индивидуальный характер. Степень и особенности владения выразительными средствами речи составляют речевой (языковой) портрет человека. Варианты таких портретов описаны также и в более поздней литературе (Визель Т. Г., 1989).
Алгоритм приобретения речевых навыков, состоящий в сворачивании речевых действий, становящихся в высокой степени освоенными, ярко демонстрирует то, что в первую очередь редуцируются невербальные компоненты речевых действий.
Так, ребенок, освоивший навыки понимания и говорения слов, не нуждается более в том, чтобы во время их реализации называемый объект присутствовал. Это возможно потому, что обобщенный образ предмета интегрируется (вписывается) в звуковой образ слова. По утверждению Л. С. Выготского, человек мыслит словами и образами одновременно, а такое возможно только в том случае, если образы предметов присутствуют в самом слове. Правоту сказанного подтверждает то, что повреждение зрительной коры, поставлявшей на этапе освоения слов невербальные образы предметов, не приводит к неспособности осмысленно пользоваться словами. Еще более ярко сказанное демонстрирует то, что локализация очагов поражения, приводящих к той или иной форме афазии, не выходит за пределы речевой модальности.
Помимо этого, эволюционные трансформации, обеспечивающие сворачивание высказываний, не могут по достижении ими статуса навыков не приводить к изменениям их мозговой организации. Поскольку структура речевых навыков становится свернутой, территория их мозгового представительства неизбежно должна стать уменьшенной по размеру. По выражению Н. П. Бехтеревой, она должна минимизироваться, как и любое высоко упроченное действие. При этом освобожденные участки являются высокоценными, поскольку они «обучены работать». Это делает их способными в случае необходимости выполнять заместительные роли, в отличие от тех участков мозга, которые «обучены» не были.
Кроме того, имеются основания полагать, что интегративные единства в виде речевых навыков могут занимать именно переходные зоны мозга, поставляющие невербальный и вербальный компонент навыка. Это основано на данных Е. П. Кок относительно локализации в мозге очага поражения, лишающего способности называть предметы словом и расположенного между височной областью (слово) и затылочной областью (предмет).
Появление в мозге областей, реализующих речевые навыки, освобождает речевой инструмент от осуществления ассоциативных связей между частями каждого акта речи. Он остается востребованным лишь в рамках новых умений. К ним относятся сугубо произвольные акты речи, метафоры, метонимии, синонимы, подтексты, иностранные языки и пр. Из этого следует, что навыки как основа (фундамент) необходимы не только для целей речевого общения, но и для словесного творчества. Они являются материалом («кирпичиками») сложных комбинаций индивидуальной речи, таких как: разного рода неологизмы, новые языки (компьютерные, эсперанто), речевые обороты, употребляемые в рамках звукового символизма (Бальмонт К. Д., Брюсов В. Я., Хлебников В. и др.). При этом владение речевыми навыками, приобретенными при участии зрелого речевого механизма, в этих случаях также необходимо. Новые языковые явления осваиваются и создаются людьми, хорошо владеющими речью, то есть свободно пользующимися речью.
Следовательно, участие зон мозга, поставляющих внешние стимулы, столь необходимое на начальных стадиях речевого развития и в рамках специальной неупроченной речи, не является актуальным при условии, что освоены основные алгоритмы реализации типовых высказываний. Это еще раз подтверждает, что свернутые по структуре речевые действия должны иметь также и свернутую локализацию. В свою очередь, такое возможно в тех областях мозга, которые способны заменить две или более зоны, функционирующие ранее раздельно.
Таким образом, феномен функциональных интеграций знаменует усложнение способа выполнения какого-либо действия, поскольку он становится составным, и одновременно его упрощение за счет сокращения числа операций.
Наконец, сказанное выше позволяет сделать вывод, что с приобретением речевых навыков структура речевых функций становится составной, включающей три основные части. Каждая из них занимает отдельную территорию в мозге и выполняют свою специфическую роль (рис. 3).
Видно, что территория мозга, занимаемая речевой функцией, включает территорию ее вербальной части (средства оречевления замысла), территорию невербальной части (внешние стимулы) и территорию навыков того или иного вида речи.

Рис. 3. Универсальная структура представленности в мозге речевых функций
Удивительно, что факт наличия в мозге человека минимальных по территории областей локализации речевых механизмов разных функций в виде интегративных единств в настоящее время практически не принимается во внимание, хотя он был замечен издавна. Имеется в виду, в частности, что он был учтен авторами первой неврологической классификации афазий Лихтгейма-Вернике (Lichtheim-Wernicke). В контексте приведенных выше рассуждений представления этих авторов о мозговых центрах вполне согласуются с допущением существования интегративных и ограниченных по занимаемой площади зон локализации областей речевых механизмов.
Серьезным подтверждением этого являются также сведения, приведенные И. М. Тонконогим и А. Пуанте в работе «Клиническая нейропсихология» (2007). Эти авторы упоминают, что об «органах» и «центрах» речи писал еще Ф. Галль, а несколько позже также Л. Лихтгейм и К. Вернике. При этом И. М. Тонконогий и А. Пуанте высказывают принципиально важное для нас мнение о том, что такие центры соотносимы с понятием «модулей». Концепция модульности также не нова. Она принадлежит американскому философу и психолингвисту Алану Фодору (Alan Fodor), который опубликовал ее в работе «Модулярность разума» (Modularity of mind) в 1983 году. Модули, по определению А. Фодора, это «функционально-специфические, ориентированные на определенные стимулы автономные подразделения, которые оценивают переработанную информацию, приходящую с нижних уровней наверх, а не сверху вниз»7. При этом констатируется, что каждый отдельный модуль обрабатывает ограниченную, но наиболее существенную информацию. Это полностью совпадает с нашими представлениями о том, каким образом приобретаются зрелые речевые механизмы, представляющие собой свернутые по структуре и локализации интегративные единства. Имеется в виду то, что они являются результатом подъема действий по оречевлению мысли с нижних уровней на высшие, не отсекая нижних, а используя их как базисные ступени.
Теорию модулярности, как и предлагаемую нами концепцию существования в мозге областей локализации речевых механизмов, следует оценить как высокоэффективную, объясняющую природную тенденцию к экономии пространства мозга и повышению его надежности. Еще более ценно утверждение А. Фодора о том, что теорию когнитивных модулей можно расширить за счет отнесения к ним таких специфических функций, как агнозии, апраксии, афазии и амнезии, описанные еще в первых наблюдениях П. Брока. Тут же присутствует утверждение, удивительно совпадающее с нашим собственным, о том, что модули достаточно просты, занимают сравнительно небольшие кортикальные области и могут быть построены с существенным избытком, чтобы быть защищенными от повреждения мозга, особенно от небольших поражений8.
С этими утверждениями совпадает указание И. А. Скворцова (2014) на наличие в мозге человека элементов-концентраторов, то есть особых нейронов-регуляторов. Автор пишет: «Повреждение некоторой части сети может не приводить к существенному функциональному нарушению, если сохранены элементы-концентраторы. Вместе с тем поражение небольших локусов сети, затрагивающее элементы-концентраторы, приводит к дискоординированности, разрушению сети и выпадению функции».
Данная концепция наличия в мозге человека системы автономных друг от друга модулей и нейронов (элементов-концентраторов) расценивается нами как существенная поддержка собственных выводов об эволюционных трансформациях речевой функции и локальной представленности в мозге разных зрелых речевых механизмов.
Появление когнитивных модулей и нейронов-концентраторов, как уже упоминалось, не отменяет работы мозга вне их (при условии их сохранности). Мозг способен обеспечивать разные виды невысоко освоенной речи, а также словесно-художественного творчества, выходящие за пределы модулей и элементов-концентраторов. В этих случаях мозговые зоны, поставляющие образы внешних объектов такой речи, не перестают функционировать и, следовательно, остается возможность их использования, выходящая за пределы высоко упроченной речи.
Приведенные выше положения о наличии в мозге когнитивных модулей и элементов-концентраторов оправдывают представления о возможности существования в нем отдельных, ограниченных участков, организованных по типу «центров», против чего имеются множественные возражения и, в частности, со стороны А. Р. Лурия, который пишет, что «нельзя локализовать высшие психические функции в специальных, узкоорганизованных участках коры мозга или „центрах“».
Однако узкая мозговая локализация речевых навыков, а соответственно и модулей и нейронов-организаторов не означает локализацию всей функции и, в частности, всех видов речи, в рамках которых они приобретены. Это лишь часть функции, являющаяся наиболее экономной и обладающая наибольшей устойчивостью. Мозговое обеспечение речевых навыков рассматривается нами именно в таком аспекте.
К сказанному можно добавить, что каждый вид приобретенных навыков становится инструментом для приобретения последующего вида, более высокого по функциональной иерархии.
В составе импрессивной речи это:
• неречевой слуховой гнозис (НрчСлГн) – различение неречевых бытовых и природных звучаний;
• речевой слуховой гнозис (РчСлГн) – различение речевых звуков, а также контроль за правильностью звукопроизношения; членораздельное восприятие звуков речи и слогов в слове;
• фонематический слух (ФнСл) – понимание значения слова, а на его основе и понимание смысла предложений и текстов.
• В составе экспрессивной речи это:
• оральный праксис (ОрПр) – воспроизведение произвольных движений органами оральной полости;
• артикуляционный праксис афферентный (АртПр афф.) – звукопроизнесение;
• артикуляционный праксис эфферентный (АртПр эфф.) – повторение слов и предложений;
• артикуляционный праксис спонтанной речи, условно – спонтанное артикулирование (СпнАрт) – произнесение слов и фраз «от себя».
Сопоставительный анализ структурных и функциональных особенностей предшествующих функций и тех, которые приобретаются на их основе, является важным, но при этом остается практически не обсужденным. Он состоит не только в том, что низшие по функциональной иерархии функции лежат в основе приобретения высших, но и в том, что они остаются неизмененными. Каким же образом это возможно? По всей очевидности, в рамках развития вверх передается не сама базисная функция, а принцип, по которому она осуществляется. Переданный принцип, сообщенный более высоким и сложно организованным структурам мозга, включает их в работу. Получив «команду» действовать, они автоматически усложняют способ функционирования, реализуя то, что заложено природой в их функциональные возможности. В результате их работа становится более сложной, чем работа мозговых структур предыдущего уровня.
Такая закономерность передачи принципа функционирования и одновременно сохранения своей функциональной роли объясняет то, что мозговой механизм одного навыка не становится мозговым механизмом следующего:
• неречевой слуховой гнозис не превращается в речевой слуховой гнозис, а тот затем в фонематический слух – это отдельные самостоятельные речевые механизмы;
• оральный праксис не становится артикуляционным праксисом;
• фонематический слух не становится памятью на слова, необходимой для накопления словаря;
• память на слова не становится способностью к морфологическим операциям словообразования и словоизменения;
• способность к изменениям по законам морфологии не становится способом построения фразовой речи.
Самые первые, базисные ступени способов функционирования структур мозга делают очевидным, что без овладения слуховым гнозисом (речевым слухом) невозможно приобретение основного инструмента понимания слов – фонематического слуха (ФнСл). Вне этого условия ФнСл не сможет стать состоятельным в решении задач смысловой обработки воспринимаемой на слух речи. Эстафетный характер созревания высших психических функций вообще и речевых в частности обязателен.
Для объяснения закономерностей созревания речевых функций и освоения нового на этапе зрелой речи необходимым является также обращение к сложившимся к настоящему времени представлениям о проводящих путях мозга. В качестве наиболее значимого нами выделяются следующие положения.
• Нейроны и глиальные клетки, объединяясь в цепи, выполняют роль проводящих путей между разными зонами мозга. Одни из них имеют вертикальное направление, другие – горизонтальное, представленное:
а) ассоциационными проводниками, связывающими отдельные участки коры в пределах одного только полушария;
б) вертикальными проводниками, связывающими уровни мозговой организации речи;
в) комиссуральными проводниками, соединяющими полушария.
• Наиболее массивными из горизонтальных проводящих путей являются те, которые связывают полушария мозга (мозолистое тело). Внутри полушарий горизонтальные пучки проводящих путей имеют определенную иерархию, определяемую этапом речевого развития, на котором они востребованы.
• Вначале созревают связи между первичными (ядерными) полями коры, то есть корковыми концами анализаторов. Это обеспечивает развитие ощущений (зрительно-слуховых, тактильно-зрительных и пр. на нейросенсорном уровне). Затем вступают в действие связи между отдельными участками гностической и праксической коры. Появляется способность к более сложным актам – представлениям (к узнаванию предметов и к действиям с ними).
• В последнюю очередь созревают проводящие пути между самыми высокими по иерархии зонами перекрытия одних участков коры другими, когда формируется функция воображения (способность мыслить вне конкретных стимулов действительности).
• Несмотря на то что основная часть проводников созревает достаточно рано, в течение всей жизни происходит дозревание новых нервных волокон, обеспечивающих приобретение ассоциаций, необходимых для овладения новыми видами деятельности. В основном это проводящие пути на уровне высшей по функциональной иерархии коры.
Таким образом, по мере созревания более высоких по иерархии проводящих путей мозг становится способным к все более сложным способам обработки информации.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе