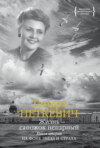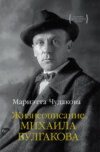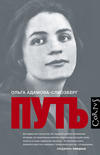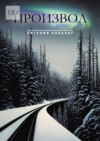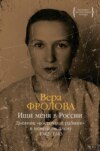Читать книгу: «Жизнь – сапожок непарный. Книга вторая. На фоне звёзд и страха», страница 8
Глава четвёртая
Едва Шадринск остался позади и мы с Димой начали прикидывать ближайшее будущее, как обнаружилась обескураживающая несводимость наших взглядов. Во всяком случае, на два главных для меня вопроса.
Только психологическим казусом можно было счесть Димино неодобрение моих планов продолжать работать в театре. Довод приводился самый удручающий: «Актёры – народ легкомысленный». «Да Дима ли это? Что с ним? – недоумевала я. – Ни единым словом не обмолвиться об этом раньше – и вдруг? В Москву на биржу, как он писал и как говорил в Шадринске, мы должны поехать вместе, чтобы я устроилась в театр. Как понимать этот сбой?»
Вторым нерешаемым вопросом была встреча с Борисом. Едва я заикнулась о том, что считаю необходимым объясниться с ним и с Александрой Фёдоровной, как Дима восстал:
– Прошу тебя – не надо. Никакой надобности встречаться с ними нет.
Дима ведь знал, в какой критический момент Александра Фёдоровна укрыла меня. Я была убеждена, что он скажет: «Разумеется, объяснись. Сними с души тяжесть, станет легче». Самолюбие? Ревность? Не без этого. Но есть же что-то безусловное? Принять точку зрения Димы значило перестать быть собой.
В Москве Дима повёз меня куда-то на окраину, к хозяйке, у которой снимал комнату в свой первый приезд. Пробиться через его предубеждения было нелегко, но мне это удалось. К вечеру следующего дня, бог весть с каким стеснённым сердцем, я позвонила Борису.
– Куда бежать встречать? – нетерпеливо спросил он.
– Я приеду сама.
Сиял Борис, лучилась размягчённая и счастливая Александра Фёдоровна. Всё дышало простодушием радости ОСВОБОЖДЕНИЯ сына. Более неподходящего момента для моих излияний нельзя было придумать. Потребность быть прощённой граничила с кощунством.
– Ты отдаёшь себе отчёт, малыш, в том, что происходит? Отдаёшь? Мы оба на свободе! Я – вольный человек! Смотри на меня. Как я тебе? А? – весело громыхал Борис. Заглядывал в глаза, проламывался в моё закрытое сердце. – Ты что? Я же – вот. Разве не видишь? Ну где ты? Где? Очутись рядом. Да пойми же: я благодаря тебе, ради тебя выжил! Дошёл до тебя – единственной!
Слишком это оказались разные вещи: читать объяснения в письмах – и приноровиться к другому человеку в его собственном доме, в счастливые дни освобождения.
Борис маневрировал, одну тему сменял другой. Не закончив рассказывать, как получил документы об освобождении и, выйдя из зоны, даже не оглянулся на неё, переключался на разговор о том, что с ним было, когда он узнал об объявленном на меня всесоюзном розыске. Подробно рассказывал, как, заставив себя хладнокровно проанализировать ситуацию, пришёл к выводу, что финт гэбистов с их «челюстным инстинктом» и мёртвой хваткой был не более чем шантаж: они якобы рассчитывали психологически «раскрошить» меня. Во время чаепития он продолжал рассказывать, как заезжал в Микунь проститься со скульптурами и картинами, которые создавал там для Дома культуры. Моё смятение росло, я чувствовала, что близка к обмороку. К счастью, Александра Фёдоровна вышла из комнаты, и Борис наконец решился:
– Слушай, ты о Диме? Да? Ты что, в самом деле не понимаешь, что это ошибка? Твоя ошибка. Я тебе писал об этом. Ты просто отупела от того, что натворила. Очнись, я тебе говорю. Никогда тебя не упрекну. Ни единым словом. Прими мою клятву: клянусь!!!
– Дима – мой муж. Я его люблю.
– Нет! Нет! И – нет! Ты сошла с ума! Такое случается. Постепенно ты обретёшь разум.
– Я пришла сюда не для того, чтобы ты разговаривал со мной как с больной…
Тем не менее разговоры вокруг да около всё продолжались, пока не вернулась Александра Фёдоровна, чем-то напуганная:
– Тамара, тебя к телефону. Мужской голос. По-моему, пьяный.
Звонить сюда мог только Дима, и то непонятно как. У хозяйки, где мы остановились, телефона не было. Телефонного номера Бориса он не спрашивал. Самым же невероятным было представить Диму пьяным. Так же невероятно, как и себя.
Звонил Дима. И он был – пьян:
– Ты скоро придёшь? Я не могу больше ждать, Тамарочка. Пойми: не могу…
– Пожалуйста, Дим, не торопи меня. Тебе не о чем беспокоиться! Прошу, дай мне время.
Борис разъяснений – не спросил. Молча давал понять: я – палач не только его любви, но и его Ма.
В своё время он не разрешил объяснить Александре Фёдоровне, почему мне пришлось уехать с Севера. И на этот раз всё осложнял его запрет: «Ничего не смей говорить Ма. Я всё расскажу ей сам». Их дружное «Ну наконец-то!» при моём появлении яснее ясного говорило, что Борис своего обещания не выполнил, ничего Александре Фёдоровне не рассказал. Может быть, скажет сейчас?
– Мама, сядь. Есть разговор.
Раз «мама, сядь», значит сейчас и скажет… Нет, ничего подобного! Он обратился к нам обеим:
– Давайте-ка обсудим, други мои, сообща, на что мне нацеливаться, чем, по вашему просвещённому мнению, следует заняться? Писать? Рисовать? Стать учителем? А может, и того проще: тапёром куда наняться?
Александра Фёдоровна необычайно живо подхватила важную тему:
– Если хотите знать, что думаю я, то прежде всего Борюнька должен закончить художественное училище. А затем? Затем – иллюстрировать книги. У него это получится превосходнейшим образом. Как ты считаешь, Томочка?
Моя жизнь проживалась преимущественно в обстоятельствах абсурда. И сейчас, принимая участие в том, из чего себя исключила, я выглядела пародией на самоё себя. Ум заходил за разум. Мелькнуло даже: «А может, они в сговоре?» Но, глядя на счастливую Александру Фёдоровну, я всё равно не могла бы решиться встать и выговорить: «Я пришла, чтобы объясниться. Ваш сын не разрешает сказать, что я вышла замуж».
Я ожидала милости – от Бориса! От реального, свободного Бориса. Эта милость задержалась в пути, но вот-вот, сейчас схлынет волна дикой неправды… Надо переждать!
Пробило двенадцать ночи. Последние секунды, чтоб перехватить инициативу, избавиться от гибельной одури вины… А он всё продолжал:
– Первое, что мы сделаем: поедем на юг на теплоходе «Россия». А до того пойдём в Третьяковку. Я буду блистать знаниями, а ты будешь в меня влюбляться!
Я понимала: это страдание в той фазе, когда оно уже оборачивается наглостью. И тогда наконец смогла возмутиться. Поднялась и твёрдо заявила:
– Хватит! Я ухожу. Возникнет надобность поговорить, сделаем это когда-нибудь.
Браваду его как рукой сняло. Он тут же измученно, чётко сказал:
– Ты уже разгромила меня и всё вокруг. Ты это уже сделала. Так погоди немного. Совсем немного, раз этого не отменить.
– Че-го ты хо-чешь?
– Выслушай меня до конца.
– Что ещё не сказано? И – зачем?
– Затем, чтобы помочь мне устоять на ногах… Ма я об этом рассказать не могу. Ни сейчас, ни потом. Она не вынесет. А ты – должна выслушать! Должна! Понимаешь? Пока ты не выслушаешь меня, я ещё не на свободе… Вынь меня оттуда. Дай руку! Помоги! Ты помнишь зону Сольвычегодска? Знаешь, что последние шесть месяцев я провёл в этой страшной зоне? Не знаешь только, что я там пережил. Я берёг тебя, не писал. Но раз так… Это чистейшей воды случай, Томушка, что я сейчас в Москве, что могу тебе всё рассказать. Прошу, сядь.
Стрелки на часах показывали далеко за полночь. Я хотела быть не здесь, а возле Димы. Но это беспощадное, пригвоздившее к месту слово Бориса: «Должна»… Каким образом он каждый раз отыскивает эти глубинные пункты недоразвитой натуры? Его просьба выслушать не возымела бы надо мной силы, если бы я сама не несла в себе этого порабощающего должна!
Во всех подробностях Борис стал рассказывать о спровоцированной охраной кровавой бойне между русскими и узбекскими уголовниками. О том, как они добивали друг друга кусками водопроводных труб, свезённых к кухне; как русские подожгли барак с узбеками, из которого стали вываливаться живые факелы; как в безумии предсмертного метания люди догорали в зоне, а с вышек косили из пулемётов тех, кто кидался к заградительной проволоке; как окровавленного Бориса пожалел какой-то уркач, втащил в чужой барак со словами: «Ты ж одной ногой на воле, падло, спрячься». И как утром именно его вызвал к себе командир охраны. Приказал пойти в уцелевший от пожара отсек барака и переписать оставшихся в живых узбеков. Идти предстояло к тем, кто готов был зарезать первого же русского.
– Там находились вконец озверевшие люди… Я распинался перед ними, Том, что-то доказывал. До сих пор не понимаю, как они дали мне выйти оттуда…
Бориса бил озноб. Меня тоже. Я понимала состояние ввергнутого в жуть человека, его потребность рассказать об этом другому, но поражалась, как расчётливо Борис выбрал время для страшной исповеди. И сама, с безупречностью точно выверенного прибора, отмечала, что теряю и Диму, к которому так стремилась, и Бориса, который по-гэбистски «крошил» ненавистную ему часть моей жизни. Страшная история о бунте уголовников прикрывала нашу с Борисом схватку. Всем, что было дано Богом, что было генетически заложено в нас, мы бились за жизненно необходимое для каждого. Не пресекая этого хлещущего отчаянием и недобрым умыслом потока, я проигрывала битву. А пресечь исповедь Бориса означало для меня тогда предать всё, чем мы были связаны не только с ним, но и с Димой, с Александром Осиповичем, с Хеллой, с Колюшкой.
Подспудно я ещё пыталась сообразить, где находится район, в котором мы с Димой поселились. Я помнила номер трамвая, на котором приехала, название остановки и дом напротив нее. Транспорт, понятно, уже не ходил. Было около трёх часов ночи. Я окаменело дослушивала нечеловеческую историю Бориса.
– Бога ради, оставь меня, иди к Ма, – попросила я наконец пощады.
В половине шестого утра, перед тем как кинуться к первому трамваю, я лишь на минуту вышла из комнаты. Вернувшись, увидела на столе исписанный почерком Бориса листок бумаги. Я могла бы присягнуть, что до той минуты листка там не было. «…Ты просишь, чтобы я сразу приехал к тебе, дорогой мой человек? Так и намерен сделать. Только несколько дней побуду с Ма. Спасибище тебе за всё. Откликаюсь на твою любовь и нежность. Всё у нас с тобой сложится самым распрекрасным образом. Уверен в этом. Ни в чём не сомневайся. Жди меня…» Нетрудно было догадаться, что это письмо к дочери Цили Борисовны – Вере. Она приезжала в Микунь к матери, освободившейся из лагеря, и Борис писал её портрет.
Ход? Такой нечистый? У-у, как жгуче он стеганул по душе. Сорвав с вешалки пальто, я со всех ног бросилась к входной двери… Дорогу мне преградила Александра Фёдоровна:
– Что происходит, Томочка? Пожалей меня. Объясни. Борюнька не в себе… Ему без тебя нет жизни. И ты сама не своя. Мне страшно за вас обоих.
Я выбежала за дверь. Она за мной. И уже там, на лестнице, из меня, более всего желавшей оберечь приютившую меня Борину Ма, вырвалось самое из всего беспощадное:
– Я не смогла полюбить Борю, Александра Фёдоровна. Не смогла. Мы с ним связаны. Он друг, но я деревенею, когда он прикасается к моей руке. Ничего не могу с собой поделать. Он не разрешал вам говорить, но я вышла замуж. Простите меня – вы. Я перед вами виновата больше, чем перед ним. Простите, если только сможете…
…На секунду я задержалась, ожидая её упреков, гнева… Но, готовая бежать вниз, как вкопанная остановилась, услышав нечто непредвиденное:
– Боже мой! Так же, как у меня с его отцом? Днём душа в душу, а подходил вечер – я стыла.
– Александра Фёдоровна, простите меня…
– Простить? Не знаю. Не сейчас, – спохватилась она. – Не пиши мне. Если сумею, напишу тебе сама… Только не убегай так. Попрощайся с Борюнькой. Он плачет…
Перескакивая через две-три ступени, я убегала сломя голову… Бежала по безлюдному горбу переулка, в противоположную от трамвайной остановки сторону, чтобы сбить Бориса с пути, если он захочет остановить меня. Видеть его было невыносимо. Я понимала: в этом неврастеническом хаосе он заранее заготовил место для оперативного, вполне житейского «не ты, так она».
Услышала, как Борис всё-таки мчится следом, кричит: «Стой! Стой!» И не приведи господь ему тогда нагнать меня, а мне – остановиться!.. Я забежала в какой-то двор. Из него – в следующий. Сообразила: проходной. Теряя силы, спряталась за какой-то поленницей, упала на землю… Гул его бега… Заминка… Затем долгое тупое ничто… Тишь… Конец безобразию… По незнакомым улицам я в конце концов выбралась к трамвайной остановке.
На звонок Дима тут же открыл дверь. У него вырвалось испуганное:
– Что с тобой? На тебе лица нет.
Он понял, чего мне стоила эта половина суток.
Для того чтобы сердце водворилось на место, мне надо было хоть ненадолго прилечь. Я собирала остатки сил, чтобы скорее снять с Димы муку и боль, которые ему причинила. Я знала, какие ему нужны и какие сейчас скажу слова. Только ещё один, второй вдох…
Надо было много лет знать Диму, многое с ним пройти, чтобы содрогнуться, когда он не заплакал, нет, а – зарыдал. Сквозь эти мужские рыдания, которым я никогда прежде не была свидетелем, прорывался один вопрос:
– Что я теперь буду делать?
Я опоздала на доли секунды! Не успела! Он прощался со мной. И все-таки я просила простить меня за то, что заставила его страдать, за то, что, попав в водоворот чужой боли, передержала все сроки его терпения; что, не сориентировавшись, в каком конце Москвы мы сняли комнату, не знала, как добраться ночью до дома… Просила его успокоиться… Безуспешно. Ни нежность, ни предельная открытость до него не доходили. Я пыталась ещё что-то удержать, вернуть:
– Ты – родной! Мы вместе. Вдвоём. Я только тебя и люблю.
Не соскользнула только к униженному: «Чиста перед тобой!» Его выбрало моё измученное сердце. Он – близкий человек. Он должен был чувствовать всё это сам. Обязан был верить мне.
Что-то во мне, уже опустошённой, посторонне усмехнулось, когда он неожиданно произнёс:
– Ты раздета. У тебя нет обуви… Как ты будешь без меня?
О-о! Что-то обо мне? Не померещилось ли? Замечены стоптанные туфли? Но при чем же тут они, Боже? Я утратила представление о том, что произойдёт через час, к вечеру, завтра. Ждала, что в любую минуту он может собраться и уехать. Ни о чём больше с ним не заговаривала.
Дима справился с собой. С какого-то момента обрёл внешнее равновесие. Но что-то в нём наглухо защёлкнулось. Во многом уже – навсегда. Я сокрушила его. Он – меня.
– Во сколько пойдём на биржу? – спросил он на следующее утро.
На бирже, в атмосфере той же деловитой оборотистости, я чувствовала себя увереннее, не в пример прошлогоднему опыту. Все нужные документы – трудовая книжка, репертуарный лист, фотографии в ролях – были на руках. К концу третьего дня я имела уже несколько предложений в театры, правда без обещания жилья. Рассчитывать на него в те годы могли актёры, имевшие звания «народных», «заслуженных», или в городах, где власти благоволили к театру.
Я не смогла бы объяснить, почему мне хотелось попасть в Приволжье. Но когда главный режиссёр Русского драматического театра города Чебоксары Евгений Алексеевич Токмаков вместе с приглашённой туда из Ленинграда Ниной Николаевной Гороховской подошли ко мне, мы с Димой остановили свой выбор на этом городе. Театр имел ранг второго пояса. В городе была филармония, где для Димы могла найтись работа. Чтобы исключить все недоразумения, мы сразу поставили обоих режиссёров в известность о наших «обстоятельствах» и были немало удивлены их спокойной реакцией. Однако, побывав на поруках у шадринского директора, я осмотрительно заявила, что окончательно отвечу «да» или «нет» только тогда, когда личное согласие даст директор театра. На следующий же день нас заверили, что в телефонном разговоре получено добро. Я подписала договор.
Случилось и наше с Димой примирение. Без объяснений. Без слов.
* * *
Выйдя замуж, моя сестра Валечка жила теперь в Москве. Адрес я знала по переписке. Не без труда разыскала ее жильё возле Окружной дороги, недалеко от Измайловского парка. Дом находился на территории лесопильного завода, где работал свёкор сестры. Семья была большая: родители Валечкиного мужа Аркадия, два его брата, их жёны, дети.
Михаил Михайлович, Валин свёкор, был потомственным рабочим, из тех, которые руководствовались примерно таким разумением: государству положено спрашивать с человека трудовое усердие, а его святое дело – это доверие оправдать. Свекровь сестры, Мария Александровна, была учительницей начальной школы. Такая же труженица, как и муж, она следила за успеваемостью всех своих внуков и внучек, строго контролировала выполнение домашних заданий, смотрела, чтобы они были вовремя накормлены.
Квартира их состояла из большой комнаты, где семья обедала, а Мария Александровна проверяла стопки ученических тетрадей, и пары каморок-спален для двух братьев с семьями (третий жил отдельно). Дощатый дом зимой промерзал настолько, что на стене, возле кроватки родившегося у Вали сына Серёжечки, образовывалась наледь и проступал снег.
Бедность являлась логическим продолжением честности и скромности этой семьи. Даже меня, проведшую годы в лагерях, сразила заводская душевая, в которую повела меня сестра. На полу там булькало озерцо грязной воды, через которое была перекинута скользкая доска. Проржавевшие изнутри стояки сотрясал железный озноб, когда воде с урчанием и напором удавалось пробиться к головкам душевых установок. Сестра невесело предупредила меня:
– Ой, не становись на эту доску, поскользнёшься. И ты, и я ноги переломаем.
После Ленинградской блокады, мытарств по детским домам и заводским общежитиям сестра обрела в этой семье приют и какой-то род защиты. Нежность, ласковое слово здесь были не в ходу. Но, несмотря на строгий нрав дома, любовь к Аркадию и его к ней согревала ей душу. Свекровь она звала мамой, свёкра – отцом, но постоянная напряжённость сестры выдавала боязнь в чём-то не совпасть с ними, в чём-то оплошать.
Если я пыталась завести разговор о нашем прошлом, о нашем доме, Валечка мгновенно закрывалась. Арест отца, мой арест, война, блокада, голод, смерть мамы и Реночки перечеркнули воспоминания о её промелькнувшем детстве. Она отгораживалась от бывшей жизни:
– Ой, Тамуся, ничего не помню. Ничего не знаю… Не хочу ничего вспоминать.
Я сидела возле сестры, смотрела, как она играет с годовалым малышом Серёжечкой, как он улыбкой во всю ширь беззубого ротика поощряет её старания, и с трудом сдерживала слёзы.
– Ты так и не нашла сына? – спросила сестра.
– Не нашла, Валечка. Пишу во все города, всем знакомым, какие только есть. Безрезультатно.
– Мне тогда так не понравился твой Филипп. Как ты могла? Ты же у меня такая умная… А сейчас что?
– Сейчас? Сейчас я вышла замуж, – успокоила я её.
– Что он за человек?
– Очень хороший человек.
– Как его звать?
– Дмитрий Фемистоклевич.
– И отчества такого не выговорить. Давно ты его знаешь?
– Давно. Десять лет. Вместе прошли лагерь. Хочу тебя познакомить с ним. Он сейчас в Москве.
– К себе я вас пригласить не могу.
– Понимаю. Но ты можешь приехать к нам. Мы сняли комнату.
– Некогда мне. Потом как-нибудь, – отвела разговор сестра. – И театр этот твой…
Сестре, хлебнувшей лиха после детдома на строительстве газопровода, было трудно признать службу в театре чем-то серьёзным. Как на ветру, из стороны в сторону металась между нами любовь и привязанность, но и в 1954 году я со своей лагерной биографией оставалась для сестры реальным осложняющим моментом. И это многое определяло.
* * *
Едва мы приехали в Чебоксары, как пригласивший нас главреж признался, что ничего о наших анкетных данных директору по телефону не сообщил. Это было равносильно удару. Чебоксары – столичный город Чувашии. Вот директор и скажет: «Только таких нам здесь и недоставало…» А переезд в другое место мы и по деньгам не осилили бы. Я была в полной растерянности.
К директору вызвали сразу. За столом скромного кабинета сидел на удивление приветливый, с добрым лицом человек лет сорока, в белой рубашке апаш. Тут же поднялся навстречу:
– Ну, дайте, дайте на вас посмотреть. Уж столько наслышан о вас, сгорал от нетерпения.
Скованная страхом, я заторопилась:
– Вам главного обо мне не сказали. Я… сидела по пятьдесят восьмой статье!
И чуваш-директор без паузы, словно ответно – ракеткой по мячу, отбил опасное признание вопросом:
– А тех, кто сажал вас, ещё не засудили?
Услышать от официального лица такой текст в 1954–1955 годах было потрясением, с трудом укладывалось в голове. Моментально вспыхнувшее благодарное чувство к директору, Николаю Алексеевичу Элле, я сохраняла всю жизнь.
Приказ о зачислении в труппу был тут же подписан. Окрылённая, я неслась по коридору к Диме:
– Остаёмся!!! Остаёмся!!!
Удачно всё сложилось и у Димы. После Баку он уже не мечтал работать с профессиональными музыкантами и певцами, а здесь это получилось само собой. Впервые после освобождения он был принят на работу концертмейстером в республиканскую филармонию. Как всегда и везде, его тут быстро оценили, превозносили, называли «наше чудо».
Посмотрев спектакль русской труппы прошлого сезона – «Вей, ветерок» Яна Райниса, – я поняла, что попала в театр «благородных кровей». Поэтичная, слаженная постановка, декорации, музыкальное оформление, актёрский состав (особенно Тамара Павлова и Анна Григорова) – всё пришлось по душе.
Непререкаемым авторитетом в театре пользовался главный режиссёр Евгений Алексеевич Токмаков. Думаю, ему было лет шестьдесят пять. Выпестованный школой МХАТа, он на равных с художественными требованиями предъявлял к труппе и этический счёт. Похоже, он намеренно пригласил очередным режиссёром ленинградку Нину Николаевну Гороховскую. Её творческий почерк никак не совпадал с его мхатовским академизмом. Но он с любопытством следил за её репетициями, а она безбоязненно вступала с ним в спор и властно требовала от «своих» актёров выполнения намеченного ею рисунка ролей и выверенных на репетициях мизансцен.
Был в театре и третий режиссёр, Михаил Иванович Дагмаров. Его «попустительский» метод работы полностью противоречил установкам обоих коллег. Где-то к десятой-двенадцатой репетиции он мог сказать: «Поваляйте-ка дурака сами. Порепетируйте без меня, надо изгнать из этой комедии академический холодок». Брошенные им, мы пробовали домыслить что-то по отдельности, похулиганить. Затем он появлялся, кое-что менял в наших импровизациях, и спектакль получался на диво живым. «Доверяйте себе так, как я доверяю Вам, дорогая сороконожка. И не задумывайтесь, на какую из своих сорока ног ступать прежде», – написал он мне на одной из премьерных программок.
Основательность Русского драмтеатра так притягивала, что актёры стремились задержаться здесь на длительный срок. И действительно оставались на десятилетия, а часто и на всю жизнь. На собраниях труппы отношений с дирекцией не выясняли, а спокойно и заинтересованно обсуждали насущные проблемы, репертуар, план гастролей. Болезненно-остервенелый дух собраний, на которых, отстаивая уважение к себе, актёры в уральском Шадринске рвали душу, был тут вообще непредставим.
Стоит сказать, что здание театра для русской и чувашской трупп было одно. Как раз в тот год из Москвы в Чебоксары вернулся курс чувашских актёров, окончивших ГИТИС. Эти молодые, театрально образованные люди и составили костяк труппы. Существовали мы дружно, миролюбиво. С интересом смотрели спектакли друг друга и по репертуару национальной труппы складывали представление об истории чувашского народа и его фольклоре. В русской труппе было пруд пруди молодых героинь, хороших актрис, и – удивительное дело – для всех находились роли, все оказывались занятыми в спектаклях.
Первой моей ролью по приезде в Чебоксары была сверхположительная инженю Галя в пьесе Минко «Не называя фамилий», смелой по тем временам сатирической комедии. Постановщик – Нина Николаевна Гороховская. Я не предполагала, что зал может, затаив дыхание, ждать, как проявит себя дебютирующая на сцене актриса. Какие-то секунды я без текста отыгрывала ситуацию, когда человек приходит в чужой дом, а там никого нет. И едва произнесла первую застенчивую реплику, как публика дружно зааплодировала. Так с ходу, можно сказать – авансом, я была принята зрителями города на Волге. И в свою очередь, полюбила обе труппы драмтеатра, сам город и чебоксарцев.
* * *
Рассылая бесчисленные запросы в адресные бюро крупных и небольших городов, в горздравотделы страны, я продолжала разыскивать сына. Получала кипы справок: «Не проживает», «Не значится», «Не числится».
Взбудоражил ответ из Управления милиции Мурманской области: «В настоящее время проживающим не значится, выбыл неизвестно куда без выписки». Значит, там Бахарев был! И теперь снова маневрировал, менял места жительства, прятался. Списываясь с другими северными знакомыми, я расспрашивала, не встречал ли его кто, не слыхал ли о нём. Случалось, кто-то сообщал: видели его в Саратове, слышали, что он живёт в Кинешме. Но и оттуда приходило всё то же: «Не проживает».
Нашего с Димой прошлого здесь никто не просил замалчивать. Но оно само расправлялось со мной без всякой пощады. Тоска по сыну приняла в Чебоксарах маниакальную форму. Схожую с той, которая преследовала меня во время Ленинградской блокады, когда прервалась связь с мамой и сёстрами. Тогда мне всюду виделась одна Валечка (даже в обличье мальчика), и никогда – мама или Реночка. В Чебоксарах мне повсюду и во всех виделся сын.
Я выходила на берег широкой, раздольной Волги, по которой в одну сторону тащились баржи, гружённые дровами, налитые нефтью, а в другую везли астраханские арбузы, прочую снедь. Пахло водой, рыбой, кожей, Историей. Всё на реке было голосистым, протяжным, ошалевшим и при этом отлаженным. Там легко дышалось. Туда влекло. К пристани причаливали пассажирские пароходы. В каждой сходившей на пристань семье с ребёнком мне мерещился сын: «Это они. Возвращаются из отпуска с Юрочкой». Я ускоряла шаг, подбегала. Люди оказывались незнакомыми.
Ночами гудки плывущих по реке пароходов озвучивали оторванность и тоску по сыну. Позже, когда нас переселили на частную квартиру, возвращаясь с выездных спектаклей далеко за полночь, я упрямо направлялась не к дому, а к вахте театра – узнать, нет ли для меня письма из адресного бюро какого-нибудь города с вестью о семье, скрывшейся с моим сыном. Безуспешность поисков сводила с ума. Наличие этой чёрной дыры лишало смысла события, чувства, слова и даже творческие устремления. Любая мысль о будущем упиралась в тупик: «Тогда, когда найду сына». Подлинная жизнь должна была начаться только с той минуты.
Может, было бы чуть полегче, если бы у нас было собственное жильё вместо меняющихся комнатушек в здании театра и череды частных углов. Меня терзала душевная потерянность, пугало и отчуждение Димы. Возвращение в профессию, восторженное признание и успех вернули ему прежнюю самодостаточность. Я радовалась, гордилась им, но недоумевала: как можно меня не любить, если я предана ему и всё на свете вижу совместным? В каком-то испуге, неумно и бестолково пыталась вернуть хоть что-то из нашего прежнего. Уходя на спектакль, оставляла ему записки: «Знаешь, Дим, впервые в жизни я столкнулась с трудностью постижения души другого человека. Прежде мне это без труда давалось. Откуда взялась напряжённость между нами, двумя людьми, которым не в чем упрекнуть друг друга, когда речь идёт о человеческой порядочности, долге?.. Тебе не кажется, что ты слишком экономен и скуп, расходуя себя? Профессиональный навык беречь силы для концертов и работы? Работа, своевременный отдых, сон – это всё? Так закопать себя в режим, так беречь себя, так не хотеть больше узнавать ни себя, ни жизнь! И это – после нашего „взаперти“!.. Возьми мои силы. Возьми их и – трать, Дим. Мне некуда их деть. Распоряжайся ими. Только – бери, ради бога. Нам их с лихвой достанет на двоих». Но ничего не менялось.
Не так давно, рассматривая любительские фотографии чебоксарской поры, я с удивлением обнаружила, что мы с Димой на них всегда рядом. Выглядим улыбчивыми и беззаботными в компании актёров. Возможно ли, чтобы внешне это смотрелось так, если память хранит страдание и недоумение?
У Димы был отпуск. Он поехал со мной на гастроли в Кинешму. Мы плыли на пароходе по Волге. Было свежо. Пассажиры прятались по каютам. На палубе, на носу парохода я стояла одна. Смотрела, как учащаются речные повороты, как Волга в некоторых местах сужается. Едва стало темнеть, на береговых склонах появились бакенщики с фонарями. Один за другим зажглись бакены. Я знала, что Дима не обеспокоится моим отсутствием, не подумает принести мне что-то накинуть на себя. Он не баловал житейским вниманием. Оно как-то исключалось из отношений. Чего же я всё-таки в Диме не поняла и недопонимаю сейчас? Чего-то, наверно, недослушала в его рассказах о себе. Он нередко вспоминал своё детство, проведённое в Греции, а затем под Майкопом, куда семья переехала в начале тридцатых, тепло рассказывал о матери и братьях. Про кусок земли, на котором отец выращивал табак, он говорил: «У нас была плантация». Это определение – «плантация» – чем-то трогало… Он, видимо, изверился в людях из-за того, что жена в Баку не дождалась его освобождения и вышла замуж… Или я своим московским «ослушанием» нанесла непоправимый удар по его эллинским представлениям о роли жены в семье?
* * *
После одной из стоянок ко мне подошёл наш молодой актёр Володя Кадочников:
– Знаете, что я сейчас проделал? Шаг в шаг шёл по берегу за Дмитрием Фемистоклевичем. Изучал походку вашего сиятельно-обаятельного супруга. За первый урок поставил себе четвёрку с минусом. На большее не потянул.
Девяностопятилетняя одесситка Зайка огорчалась, когда я приезжала одна:
– Что ж ты без своего Димочки? Таких сияющих глаз никому больше не отпущено.
Таким его видели окружающие. Таким его знала и я. Только такой «мой» куда-то подевался.
Записок я Диме больше не писала. А когда, не сдержавшись, заметила: «Ты будто не знаешь, что такое забота, ласковое слово», – его ответ вверг в ещё большее недоумение: «Мне кажется, я всё время о тебе забочусь и всё время говорю тебе нежные слова».
В Нижнем Новгороде пароход имел длительную остановку. Нина Николаевна Гороховская с мужем (во многих спектаклях он был моим партнёром) пригласили нас с Димой пообедать. Из широких окон ресторана была видна Волга, поймы, дали. И, глядя на этот простор, муж Гороховской тихо произнёс:
– Вот мы и урвали кусочек жизни.
– А вы разделяете это чувство? – повернулась ко мне Нина Николаевна. – Давно хочу вас спросить: такое впечатление, будто вы извиняетесь за то, что живёте на свете.
Осторожные и чуткие вопросы окружающих часто причиняли боль. Мы сами до конца не понимали, что с нами произошло, что происходит и можно ли ещё что-то поправить.
* * *
Александр Осипович, к которому я продолжала периодически ездить, очень постарел. Ему было трудно ходить. И осенью в непролазную грязь, и зимой в мороз он обязан был в положенное время отмечаться в районном центре. Он делал это исправно, пока наконец милиционер не сжалился над ним и не стал заезжать к нему сам.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе