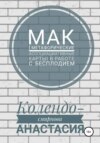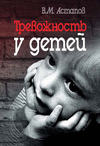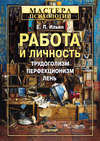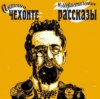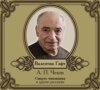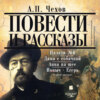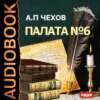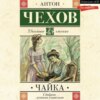Читать книгу: «Вишневый сад и другие пьесы. Том 5», страница 3
Атмосфера: нервность и молчание
Чеховских героев любили называть «хмурыми людьми» (по названию его сборника конца 1880-х годов). Может быть, более универсальным и точным оказывается другое их определение – нервные люди. Самое интересное в них – парадоксальность, непредсказуемость, легкость переходов из одного состояния в другое.
В русских толковых словарях слово нервный появилось в начале XIX века. Но литературе этого времени оно практически неведомо, свидетельство чему, например, «Словарь языка Пушкина». У Пушкина нервный встречается лишь однажды, да и то в критической статье, еще по разу – нервы (в письме) и нервический (в незаконченном «Романе в письмах»)34. Но дело, конечно, не в слове, а в свойстве, которое оно обозначает.
«Нервность» – вполне периферийная особенность мира Пушкина и его современников, лишь изредка проявляющаяся в характеристике отдельных персонажей (скажем, сентиментальной барышни). Мир, в котором существуют герои Пушкина, Гоголя, потом Тургенева, Толстого, может быть трагичен, но стабилен, устойчив в своих основах.
И вдруг все вздрогнуло, поплыло под ногами. У Достоевского (которого Чехов не любил, но который в данном случае оказывается его непосредственным предшественником), у Некрасова крик, истерика, припадок стали не исключением, а нормой. Чехов продолжает эту разночинскую традицию. Еще в юности, в конце 1880-х годов, он пишет рассказы «Нервы», «Психопаты», «Страхи», «Тяжелые люди», «Припадок».
«Как все нервны! Как все нервны!» – ставит диагноз доктор Дорн в «Чайке».
«…Он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервам, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки» – так описаны отношения Коврина и Тани в «Черном монахе» (8, 240). «Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем» – таков итог пробуждения «учителя словесности» Никитина от спокойного сна обывательского существования (8, 331–332).
«Нервность» – нерв мира Чехова. В данном случае – свойство не отдельного персонажа, а всей атмосферы «Вишневого сада». Причем слову атмосфера в применении к чеховскому творчеству пора придать не условно метафорический (об особой «атмосфере», «настроении» постановок Чехова в МХТ критики говорили еще при жизни писателя), а более точный терминологический смысл.
Опора для такого понимания находится в «фамильной» чеховской традиции. «Атмосфера» была ключевым понятием в эстетической системе М.А.Чехова, замечательного актера, племянника Антона Павловича.
Чехов-младший называл атмосферу «душой спектакля», «сердцем всякого художественного произведения», выстраивал целую «лестницу» эмоциональных состояний, которые должны быть реализованы на сцене: настроение, чувство персонажа в данный момент – его атмосфера, т. е. эмоциональная доминанта характера, – атмосфера сцены, действия, эпизода, – наконец, общая атмосфера спектакля, представляющая собой партитуру, динамику атмосфер. Наибольшее значение М. Чехов придавал как раз атмосфере общей, вырастающей из жизненной практики и нуждающейся в художественном воссоздании.
«Все мы знаем, что такое атмосфера. Мы эту проблему уже не раз затрагивали, – рассуждает он в одной из поздних лекций. – Говорили об общей атмосфере, объективной атмосфере. Атмосфера окружает все: нас, дома, местности, жизненные события и т. д. Войдите, к примеру, в библиотеку, в церковь, на кладбище, в больницу или в антикварную лавку, и вы сразу уловите атмосферу, которая лично никому не принадлежит. Просто общая, объективная атмосфера, присущая тому или иному месту, зданию, улице»35.
Главное же свойство атмосферы, воссозданной на сцене, М. Чехов видит в следующем: «Атмосфера обладает силой изменять содержание слов и сценических положений… Одна и та же сцена (например, любовная) с одним и тем же текстом прозвучит различно в атмосфере: трагедии, драмы, мелодрамы, комедии, водевиля и фарса… Смысл этой сцены станет в каждой из названных атмосфер совсем другим. „Люблю!“ – в атмосфере трагедии или фарса!!!»36
Трудно избавиться от ощущения, что «теория атмосферы» возникает как результат осмысления прежде всего чеховских пьес: настолько убедительно она поясняет их эстетическую структуру, выводится из них.
В «Вишневом саде» очевидна и атмосфера каждого персонажа, и партитура атмосфер, движение от действия к действию: сопутствующая приезду суета и утренняя беспорядочность первого действия; длинные вечерние дачные разговоры в поле у покривившейся часовенки в действии втором; надрывное веселье и ожидание результата торгов, своеобразный «пир во время чумы» в третьем действии; пронзительное чувство конца, расставания с домом, с прошлым, с надеждами в действии четвертом.
Но доминантой, «душой», «сердцем» «Вишневого сада» оказывается атмосфера зыбкости, неустойчивости, нервности, жизни «враздробь». «Руки трясутся, я в обморок упаду» (Дуняша); «Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство» (Аня); «Я не переживу этой радости…» (Раневская); «А у меня дрожат руки: давно не играл на биллиарде» (Гаев); «Сердце так и стучит» (Варя); «Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу…» (Лопахин). И – внезапное, как из-под земли, появление прохожего. И – звук лопнувшей струны.
Ритм существования чеховских героев, их положение «на грани» весьма близки современному сознанию (только сегодня чеховской «нервности» аналогично, вероятно, иное понятие, которое давно вышло за специальные рамки и стало одним из символов века, – «стресс»).
Однако есть в пьесе и третий, парадоксальный уровень общения персонажей – несловесный. После бурных монологов, лирических излияний возникают в развитии действия моменты, когда персонажи вдруг замолкают, и в этой тишине происходит самое главное: герои думают, возникает общение душ.
Говоря парадоксально, для чеховской драмы наиболее результативно молчание. Не случайно ремарка «Пауза» становится одним из характернейших элементов чеховской драмы, начиная с первой пьесы без названия. В «Вишневом саде» 31 пауза, причем наиболее насыщено ими «бездейственное» второе действие, где герои размышляют наиболее интенсивно. Паузы играют большую роль в формировании чеховского подтекста и второго сюжета37.
Выходя из паузы, очнувшись, герои делают свои простые открытия, обнаруживают истинное положение вещей.
«Любовь Андреевна. Не уходите, прошу вас. С вами все-таки веселее… (Пауза.) Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом» (д. 2).
«Трофимов…Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых рядах!
Лопахин. Дойдешь?
Трофимов. Дойду. (Пауза.) Дойду, или укажу другим путь, как дойти. (Слышно, как вдали стучат топором по дереву)» (д. 4).
(Пауза заставляет «вечного студента» умерить свои претензии, стук топора напоминает, что в реальности торжествует Лопахин.)
«Варя. Я? К Рагулиным… Договорилась к ним смотреть за хозяйством… в экономки, что ли.
Лопахин. Это в Яшнево? Верст семьдесят будет. (Пауза.) Вот и кончилась жизнь в этом доме…» (д. 4).
Однако Чехов не злоупотребляет приемом. Подтекст у него охвачен твердой оправой текста, живет органической жизнью внутри него.
Логика развития мировой драматургии режиссерского театра ведет к тому, что понятие подтекста безмерно расширяется, включая в себя весь драматический текст. Подтекст съедает текст. Текст становится поводом для тотального подтекста. Режиссерский театр ХХ века, прежде всего благодаря Чехову, получил возможность бесконечной игры архитектоническими формами подмен, отражений и превращений. Но это открытие оказалось ящиком Пандоры. После Станиславского и особенно Мейерхольда стало возможно «ошинелить» «Женитьбу», превратить «Свадьбу» в «Пир во время чумы» и даже телефонную книгу поставить как «Гамлета», увидев в ней трагический подтекст. Обратной стороной режиссерского своеволия оказывается упрощение, уравнивание смысла «Гамлета» или «Вишневого сада» с телефонной книгой.
Чеховская драматургия в подобных поисках остается по ту сторону обрыва (разрыва). Подтекст у Чехова не становится тотальным приемом, но знает свое место в художественной иерархии и иерархии бытия.
Символы: сад и лопнувшая струна
В чеховской драме существует не только подтекст, но и «надтекст» – система символов, и главный из них – вынесенный в заглавие драмы.
Образ сада, как и все в пьесе, диалектичен, антиномичен. Даны его конкретные бытовые приметы: о вишневом саде говорится в энциклопедии, цветущие деревья видны в окна дома, с него собирали когда-то большие урожаи, в конце его рубят «веселые дровосеки». Но именно вокруг сада выстраиваются размышления героев о времени, о прошлом и будущем России, именно он «провоцирует» самые исповедальные монологи и реплики, проявляет характеры героев, обозначает поворотные моменты сюжета. Конкретный образ перерастает в символ, связывая воедино основные мотивы пьесы.
«Аня. ‹…› Я дома! Завтра утром встану, побегу в сад…»
«Лопахин. Местоположение чудесное, река глубокая. Только, конечно, нужно поубрать, почистить… например, скажем, снести все старые постройки, вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад…
Любовь Андреевна. Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад.
Лопахин. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой».
«Гаев. ‹…› Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи. Ты помнишь? Не забыла?
Любовь Андреевна. О, мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничего не изменилось».
«Аня. Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде. Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад.
Трофимов. Вся Россия ваш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест».
«Лопахин. Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь…»
«Любовь Андреевна. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..»
Этот образ вызвал в свое время, как известно, суровую отповедь Бунина, отказавшегося прочесть его символический смысл и упрекнувшего Чехова в недостаточной реалистичности: «Вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых»38. «С появлением чеховской пьесы, – возражает современный режиссер, – эта бунинская правда (а быть может, он в чем-то и был прав) переставала казаться правдой. Теперь такие сады в нашем сознании есть, даже если буквально таких и не было»39.
Причем важно заметить, что в отличие, например, от «Чайки», где символ имеет локальный характер, в «Вишневом саде» Чехов находит простой и в то же время глубокий охватывающий символ, позволяющий «стянуть» в одно целое самые разнообразные содержательные аспекты пьесы, показать характеры вне прямого конфликта, в форме реакции, отношения к центральному символическому образу.
На главенствующую роль этого образа обратил внимание уже Короленко, суждение которого цитировалось ранее. Позднее об этом точно сказал Г.А.Гуковский: «Раневская, Гаев, Фирс – это люди; каждый из них имеет свой личный характер, и все они, порознь и вместе, обусловлены социальной судьбой того уклада жизни, который их породил и сформировал их психологический тип. При этом все они – не отдельны, не суммированы, а интегрированы в пьесе; не каждый из них в особенности своей – герой пьесы, а именно вся жизнь в своем единстве; скорее всего, центральным героем пьесы является не кто иной, как Вишневый Сад. Драматург создал картину жизненного процесса, в который люди входят как высшая ценность, но и как элементы, неотделимые от целого»40.
Существенное значение в символическом плане пьесы имеет и еще один образ, звуковой – знаменитый звук лопнувшей струны, дважды использованный в «Вишневом саде». В статье Г. А. Бялого перечислены замеченные И. Г. Ямпольским, Л. Э. Найдич его образные аналоги: в поэме Тургенева «Стено» и в его же стихотворении в прозе «Нимфы», в стихотворении Г.Гейне «Она угасла»41.
Совпадения эти носят, скорее всего, типологический характер, ибо поэма Тургенева напечатана уже после смерти Чехова; о знакомстве Чехова с другими источниками сведений нет. Существует, однако, еще один источник, где встречается сходный образ в сходной функции, не знать который Чехов не мог. Потому что это – «Война и мир».
В эпилоге толстовского романа (ч. 1, гл. XIV) Пьер рассуждает: «Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет…» И чуть далее: «Когда вы стоите и ждете, что вот-вот лопнет эта натянутая струна; когда все ждут неминуемого переворота, – надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе»42.
Если охватывающий символический образ вишневого сада – ядро, сердце изображаемого мира, то звук лопнувшей струны – знак конца этого мира, мира, взятого как целое, во всех его противоречиях.
Герои – все – бегут от настоящего, и это приговор ему, заметили мы ранее. Но и такая мысль имеет в пьесе Чехова противоположную сторону. Гибель вишневого сада (прекрасного) – в разной, конечно, степени, но все-таки приговор тем людям, которые не смогли или не захотели его спасти.
«Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.
Занавес».
В самом начале XX века Чехов угадывает новую формулу человеческого существования: расставание с идеалами и иллюзиями прошлого, потеря дома, гибель сада, выход на большую дорогу, где людей ожидает пугающее будущее и жизнь «враздробь».
Через пятнадцать лет, сразу после революции, литератор, дружески называвший Чехова «нашим Антошей Чехонте», в краткой притче «La Divina Commedia» (тоже комедия!) заменит звук струны грохотом железа и опустит над русским прошлым свой занавес.
«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.
– Представление окончилось. Публика встала.
– Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись.
Но ни шуб, ни домов не оказалось»43.
Один французский критик утверждал, что чеховский комплекс сада определил собой ХХ век. И в новом веке содержание человеческой жизни, кажется, не изменилось.
Покинутый дом – потерянный рай.
«И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет» – так заканчивается пушкинская поэма «Цыганы».
Пушкин и Чехов, начало и конец великой русской литературы, как эхо, перекликаются в пространстве XIX века.
И. Н. Сухих
На большой дороге
(драматический этюд в одном действии)
Действующие лица
Тихон Евстигнеев, содержатель кабака на большой дороге.
Семен Сергеевич Борцов, разорившийся помещик.
Марья Егоровна, его жена.
Савва, старик-странник.
Назаровна
Ефимовна
Федя, прохожий фабричный.
Егор Мерик, бродяга.
Кузьма, проезжий.
Почтальон.
Кучер Борцовой.
Богомольцы, гуртовщики, проезжие и проч.
Действие происходит в одной из южнорусских губерний.
Сцена представляет собой кабак Тихона. Направо прилавок и полки с бутылками. B глубине дверь, ведущая наружу. Над нею снаружи висит красный засаленный фонарик. Пол и скамьи, стоящие у стен, вплотную заняты богомольцами и прохожими. Многие, за неимением места, спят сидя. Глубокая ночь. При поднятии занавеса слышится гром и в дверь видна молния.
Явление I
За прилавком Тихон. На одной из скамей, развалясь, полулежит Федя и тихо наигрывает на гармонийке. Около него сидит Борцов, одетый в поношенное летнее платье. На полу около скамей расположились Савва, Назаровна и Ефимовна.
Ефимовна (Назаровне). Потолкай-ка, мать, старца! Словно, никак, богу душу отдает.
Назаровна (поднимая с лица Саввы край сермяги). Божий человек, а божий человек! Жив ты аль уж помер?
Савва. Зачем помер? Жив, матушка. (Приподнимаясь на локоть.) Укрой-ка мне, убогонькая, ноги! Вот так. Правую больше. Вот так, матушка. Дай бог здоровья.
Назаровна (прикрывая Савве ноги). Спи, батюшка.
Савва. Какой уж тут сон? Было б терпенье муку эту перенесть, а спанья, матушка, хоть и не надо. Не достоин грешник покой иметь. Это что шумит, богомолочка?
Назаровна. Грозу бог посылает. Ветер воет, а дождик так и хлещет, так и хлещет. По крыше и в стекла словно горошком дробненьким. Чуешь? Разверзлись хляби небесные.
Гром.
Свят, свят, свят…
Федя. И гремит, и гудит, и шумит, и… конца краю нет! Гууу… словно лес шумит… Гууу… Ветер как собака воет… (Ежится.) Холодно! Одежа мокрая, хоть возьми да выжми, двери настежь… (Тихо наигрывает.) Размокла моя гармония, православные, никакой музыки нет, а то бы я вам такую концерту отшпандорил, что держись шапка! Великолепно! Кадрель ежели, или польку, положим… или какой русский куплетец… всё это мы можем. B городе, когда в коридорных при гранд-отеле состоял, денег не нажил, а в рассуждении гармонии все ноты превзошел. И на гитаре умею.
Голос из угла. Дурак, дурацкие и речи.
Федя. От дурака слышу.
Пауза
Назаровна (Савве). Тебе бы, старик, таперича в тепле полежать, ножку-то погреть.
Пауза
Старик! Человек божий! (Толкает Савву.) Ай помирать собираешься?
Федя. Ты бы, дедусь, водочки выпил. Ты выпьешь, а оно в животе погорит, погорит, да от сердца и оттянет малость. Выпей-ка!
Назаровна. Не бахвальничай, парень! Старик, может, душу богу отдает да о грехах кается, а ты слова такие, да с гармонией… Брось музыку-то! Глаза бесстыжие!
Федя. А ты чего к нему пристала? Ему невмочь, а ты… бабьи глупости… Он из праведности не может тебе грубое слово вымолвить, а ты обрадовалась, рада, что он тебя, дуру, слушает… Спи, дедусь, не слушай! Пущай болтает, а ты наплюй. Бабий язык – чертово помело, выметет из дому хитреца и мудреца. Наплюй… (Всплескивает руками.) Да и худой же ты, братец ты мой! Страсть! Чисто как ни на есть мертвый шкилет! Никакой живности! Ай и впрямь помираешь?
Савва. Зачем помирать? Избави, господи, зря помереть… Помаюсь маленько, а там и поднимусь с божьей помощью… Не попустит матерь божия в чужой земле помереть… Помру дома…
Федя. Издалече сам?
Савва. Вологодский. Из самой Вологды… мещанин тамошний…
Федя. А где это Вологда?
Тихон. За Москвой… Губерния…
Федя. Тю, тю, тю… Занесло же тебя, борода! И все пешком?
Савва. Пешком, паренек. Был у Тихона Задонского, а иду в Святые горы… Из Святых гор, коли на то воля господня, в Одест… Оттеда, сказывают, в Ерусалим задешево отправляют. Будто за двадцать один рупь…
Федя. А в Москве был?
Савва. Эва! разов пять…
Федя. Хороший город? (Закуривает.) Стоющий?
Савва. Святынь много, парень… Где святынь много, там везде хорошо…
Борцов (подходит к прилавку и Тихону). Еще раз прошу! Дай Христа ради!
Федя. Главное в городе, чтоб чистота была… Ежели пыль – поливать, ежели грязь – чистить. Чтоб дома высокие были… театр, полиция… извозчики, которые… Сам жил в городах, понимаю.
Борцов. Рюмочку… вот эту маленькую. B долг ведь! Отдам!
Тихон. Ладно.
Борцов. Ну прошу! Сделай милость!
Тихон. Ступай!
Борцов. Ты меня не понимаешь… Пойми ты, невежа, если в твоей деревянной, мужицкой голове есть хоть капля мозга, не я прошу, нутро, выражаясь по-твоему, по-мужицкому, просит! Болезнь моя просит! Пойми!
Тихон. Нечего нам понимать… Отходи!
Борцов. Ведь если я не выпью сейчас, пойми ты это, если я не удовлетворю своей страсти, то я могу преступление совершить. Я бог знает что могу сделать! Видал ты, хам, на своем кабацком веку много пьяного люда, и неужели же ты до сих пор не сумел уяснить себе, что это за люди? Это больные! На цепь их сажай, бей, режь, а водки дай! Ну, покорнейше прошу! Сделай милость! Унижаюсь! Боже мой, как я унижаюсь!
Тихон. Деньги давай, тогда и водка будет.
Борцов. Где же мне взять денег? Все пропито! Все дотла! Что же я могу тебе дать? Пальто вот только одно осталось, но дать тебе его я не могу… Оно на голом теле. Хочешь шапку? (Снимает шапку и подает ее Тихону.)
Тихон (осматривает шапку). Гм… Шапка шапке рознь… Дыр, словно в решете.
Федя (смеется). Дворянская! По улице в ней ходить да перед мамзелями снимать. Здрасте, прощайте! Как поживаете?
Тихон (отдает Борцову шапку). И даром не надо. Навоз.
Борцов. Не нравится? B таком случае дай в долг! Буду обратно идти из города, занесу тебе твой пятак! Подавись тогда этим пятаком! Подавись! Пусть он у тебя поперек горла станет! (Кашляет.) Ненавижу!
Тихон (стуча кулаком о прилавок). Чего пристал? Какой-такой ты человек? Что за жулик? Зачем пришел?
Борцов. Выпить хочу! Не я хочу, болезнь моя хочет! Пойми!
Тихон. Не выводи меня из моего терпения! Живо в степи будешь!
Борцов. Что же мне делать? (Отходит от прилавка.) Что же делать? (Задумывается.)
Ефимовна. Это тебя нечистый мутит. Ты плюнь, барин. Он тебе, окаянный, шепчет: выпей! выпей! А ты ему: не выпью! не выпью! Отстанет!
Федя. B башке-то небось – тру-ту-ту-ту… Животы подвело! (Хохочет.) Блажной ты, ваше благородие! Ложись-ка спи! Нечего пугалом посередь кабака торчать! Не огород нашел!
Борцов (со злобой). Молчи! Тебя не спрашивают, осел!
Федя. Ты говори, говори, да не заговаривайся! Видали мы таких! Много вас таких здесь по большой дороге шатается! B отношении осла, как звездану тебя по уху, так взвоешь пуще ветра. Сам осел! Дрянь!
Пауза
Сволочь!
Назаровна. Старец, может, молитву творит и душу богу отдает, а они, нечестивцы, друг дружку задирают да слова разные… Срамники!
Федя. А ты, кочерыжка, коли в кабак попала, не хныкай! B кабаке и кабацкий обычай.
Борцов. Как же мне быть? Что делать? Как мне дать ему понять? Какое же еще нужно красноречие? (Тихону.) Кровь запеклась в груди! Дядя Тихон! (Плачет.) Дядя Тихон!
Савва (стонет). Стреляет в ногу, словно пулей огненной… Богомолочка, матушка!
Ефимовна. Что, батюшка?
Савва. Кто это плачет?
Ефимовна. Барин.
Савва. Попроси барина, пущай и за меня слезу прольет, чтоб довелось в Вологде помереть. Слезная молитва угодней.
Борцов. Не молюсь я, дед! Не слезы это! Сок! Сдавило мою душу и сок течет. (Садится у ног Саввы.) Сок! Впрочем, не понять вам! Не понять, дед, твоему темному разуму. Темные вы люди!
Савва. Где ж светлых-то взять?
Борцов. Есть, дед, светлые… Они бы поняли!
Савва. Есть, есть, родимый… Святые светлые были… Они всякое горе понимали… Ты им и не говори, а они поймут… B глаза тебе взглянут – поймут… И такое тебе утешение после их понятия, словно и горя не было – рукой снимет!
Федя. А ты нешто видал святых?
Савва. Случалось, паренек… На земле всякого народу много. Есть и грешники, есть и божьи слуги.
Борцов. Ничего не понимаю… (Быстро поднимается.) Разговоры нужно понимать, а разве у меня теперь есть разум? У меня есть инстинкт, жажда! (Быстро подходит к прилавку.) Тихон, возьми пальто! Понимаешь? (Хочет снять пальто.) Пальто…
Тихон. А под пальтом что? (Смотрит Борцову под пальто.) Голое тело? Не снимай, не возьму… Не стану я брать греха на душу.
Входит Мерик.
Начислим
+5
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе