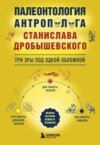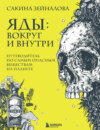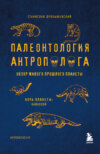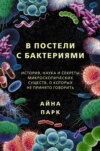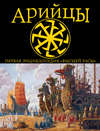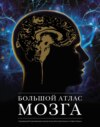Читать книгу: «Сон под микроскопом. Что происходит с нами и мозгом во время сна»
* * *
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Владислав Вязовский, Марина Карлина, текст, 2022
© Ковальзон В. М., предисловие, послесловие, 2022
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2023
Предисловие научного редактора
Никогда еще в истории человечества проблема сна-бодрствования и суточных биоритмов не была столь актуальна и не привлекала такого общественного интереса! В самом деле – представим себе человека XIX века, правящего лошадью, сидя в экипаже или верхом; он мог спокойно заснуть за этим занятием, и в литературе того периода часто описываются извозчики и всадники, дремлющие на козлах или в седле. Если лошадь знала дорогу, она сама шла, если не знала – останавливалась… А теперь возьмём современного человека, ведущего по автостраде автомобиль с автоматической коробкой передач. Монотония, «убаюкивающая» человека при этом занятии, еще выше, чем при управлении экипажем, поскольку и полотно идеально гладкое, и подвеска замечательная, не в пример дорогам прошлого и рессорным экипажам… И страшно даже подумать о том, что может случиться на скорости 130 км/час, если водитель незаметно задремлет и потеряет управление лишь на долю секунды!
Возьмём другой пример – человека, путешествующего в восточном или западном направлении в эпоху до возникновения железных дорог. Такой человек перемещался или опять же в экипаже, или на парусном судне, которое достигает пункта назначения не напрямую, а зигзагами, ловя попутный ветер. Такие перемещения происходили настолько медленно, что путешественник успевал адаптироваться к постепенному сдвигу рассветов и закатов в ту или иную сторону, что он мог заметить, если имел карманные часы (далеко не у всякого они были). Никаких «джетлагов» еще и в помине не было, и ни в одном старинном романе вы не прочитаете, что у путешественника возникают проблемы со сном и бодрствованием при «транс-меридиональных» переездах.
Третий пример связан с возрастным составом человечества. Еще сравнительно недавно, во времена моей молодости, считалось, что 80 лет – весьма почтенный возраст, 90-летних насчитывались единицы, а чтобы увидеть 100-летнего человека, нужно было ехать на Кавказ… Сейчас бодрыми ветеранами никого не удивишь (пожелаем им всем доброго здоровья и долгих лет!) даже в больших городах, а ведь всегда считалось, что дурной воздух и другие условия жизни там вовсе не располагают к долгожительству! Соответственно, обострились проблемы, связанные со здоровьем пожилых, поскольку чуть ли не каждый второй из них жалуется на нарушения бодрствования (дневная сонливость и пр.) и сна (бессонница и пр.).
Так что интерес общественности велик, и ученым есть что рассказать по этому поводу – последние 60 лет необычайно богаты открытиями в области сомнологии и хронобиологии. Однако все эти десятилетия на русском языке почти ничего общедоступного не появлялось, кроме, пожалуй, только книги Александра Моисеевича Вейна «Три трети жизни» (М.: Знание, 1991) и пары переводных – Александра Борбели «Тайна сна» (М.: Знание, 1988) и Стенли Корена «Тайны сна» (М.: Вече; АСТ, 1997); можно вспомнить еще одну или две переводных… В 2010 году вышла книжка немецкого популяризатора Петера Шпорка «Сон. Почему мы спим и как нам это лучше всего удается» (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний). Но с тех пор тоже уже прошло немало лет… И вот наконец «прорвало»! За каких-то три года вышли четыре научно-популярные книги, одна другой лучше: Михаил Полуэктов «Загадки сна. От бессонницы до летаргии» (М.: Альпина нон-фикшн, 2019), Владимир Ковальзон «Маятник сна» (Минск: Дискурс, 2021), Мишель Жуве «Наука о сне. Кто познает тайну сна – познает тайну мозга!» (М.: АСТ, 2021), Роман Бузунов и София Черкасова «Всем спать! Как наладить сон и улучшить качество жизни» (М.: АСТ, 2022). Первые две книги из этого перечня были отмечены своеобразным «знаком качества» – книга Полуэктова заняла 2-е место на ежегодном конкурсе РАН, а моя книга стала финалистом (то есть фактически тоже разделила 2-е место вместе с двумя другими книгами) премии «Просветитель» фонда Дмитрия Зимина. Теперь благодаря издательству ЭКСМО/БОМБОРА читатель может ознакомиться с еще одной, пятой научно-популярной книгой на эту тему за последние годы. Пожалуй, это «белое пятно» в нашей научно-популярной литературе теперь закрыто, по крайней мере на ближайшие несколько лет…
Надо сказать, что волею судьбы я оказался не только автором одной из этих пяти книг, но и научным редактором почти всех остальных, так что могу сравнивать. И признаться, сам был несколько удивлен – ни одна из этих книг не повторяет другую! Видимо, проблема сна – одна из тех «метафизических», которые можно изучать бесконечно, «вращаясь вокруг нее по спирали», открывая в ней всё новые и новые аспекты, проникая всё глубже, охватывая всё шире, но никогда не познавая до конца… Авторы этих книг подходят к проблеме с разных сторон: Михаил Полуэктов, а также Роман Бузунов и София Черкасова – врачи-сомнологи и рассматривают главным образом клинические и психофизиологические аспекты проблемы (которые по большому счету и волнуют широкую публику). Книга Жуве и моя книга адресованы вдумчивому читателю, склонному не просто получить простые ответы на свои вопросы, но и поразмышлять, поломать голову над загадками нашего организма и сознания. К этой же группе научно-популярной литературы относится и книга блестящего нейрофизиолога-экспериментатора, одного из лучших в Европе специалистов по проблеме сна – Владислава Вязовского, которая создана им в соавторстве с русскоязычной швейцарской журналисткой Мариной Карлин. Целый ряд проблем, рассматриваемых в их книге, никогда ранее не освещался в русскоязычной литературе: локальный сон, инерция сна, инстинкт сна, влияние фазы луны на сон, зарождение хронобиологии и др. А глава об экологии сна вдохновила меня на дальнейшее изложение «надорганизменного» подхода, которое я перенес в послесловие.
Уверен, что книга Вязовского и Карлин будет познавательным и увлекательным чтением, и с радостью рекомендую ее нашему читателю.
Владимир Ковальзон,
доктор биологических наук,
главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук,
руководитель секции сомнологии Физиологического общества им. И. П. Павлова,
председатель правления Национального сомнологического общества
Глава I
О чем эта книга?
Бодрствование и сон: что это?
В своей знаменитой классификации природы основоположник современной биологии Карл Линней1 определил животных как существ, обладающих способностью чувствовать и двигаться. Эти характеристики отличают живые организмы от неодушевленных предметов и растений, а также позволяют установить, в каком из двух особенных состояний они – животные – находятся: в бодрствовании или во сне.
Приблизительно треть нашей жизни мы спим. Когда приходит сон? Уловить невозможно. Свет потушен, голова лежит на удобной подушке, в голове крутятся события прошедшего дня, глаза закрываются, мускулы расслабляются… Сон пришел?! Удивительно, как редко мы обращаем внимание на то, как и когда это происходит. Ведь «чудеса, которые часто происходят, становятся обыденностью»2, – замечал британский нейробиолог Чарльз Шеррингтон3.
Разговор о сне вызывает всевозможные ассоциации. Даже не затрагивая волнующую тему снов в значении «сновидения», можно с уверенностью утверждать, что слово «сон» может иметь много разных определений. Что же такое сон? Определенное состояние, без которого ни один живой организм не обходится? Некий процесс, развитие нашего состояния во времени? Или, наконец, просто желание? Желание спать! Понятие «сон» может иметь самые разные значения в зависимости от контекста: жалуемся ли мы врачу на бессонницу, читаем ли книгу Меттью Уолкера «Зачем мы спим»4 или критикуем5 ее, смотрим ли фильм Пенни Маршал «Пробуждение»6, но также – от времени суток! Когда мы бодрствуем, недосуг размышлять о сне, если нет интереса или нужды – поиска ночлега, например, во время многодневного туристического похода по тайге.
Сон – это что-то вроде дыхания, которое мы не замечаем, когда здоровы, и пытаемся контролировать, лишь когда об этом просит сосредоточенный врач, приложив стетоскоп к нашей груди: «Вдохнуть, выдохнуть, глубоко вдохнуть», или фитнес-инструктор, который наблюдает за ритмом движения и дыхания. Без дыхания нет жизни. Жизнь невозможна и без сна. Но как сон происходит? Утром, едва открыв глаза, мы уже знаем, что проснулись – как вчера и позавчера, как каждое утро. Часто ли вы задумывались, что несколько часов отсутствовали в этом мире? Где было наше сознание все это время, когда мы (или только наше тело) находились в кровати?
Наконец-то тема сознания вышла из областей, которые исследовали только философы или психологи. Ученые-естествоиспытатели говорят, что сознание – это единственное и самое ценное, что у нас есть. Оно, пожалуй, даже важнее, чем сама жизнь: ведь факт бытия не имеет никакой ценности и никакого смысла без способности этот факт осознать. Вы же знаете или видели в кино, как в считаные секунды на операционном столе, под надзором анестезиолога, это исключительное дарование природы – сознание – теряется, а пациент даже не ощущает этой потери. Но так случается с нами каждый день, десятки тысяч раз на протяжении жизни. В момент засыпания.
Не у всех и не всегда удивительный процесс погружения в сон происходит быстро и гладко, но все же многим знакомо это приятное чувство. Мимолетные галлюцинации, возникающие во время засыпания, называются гипнагогическими. Греческое слово «гипно» имеет прямое отношение ко сну. И пока бог сна Гипнос из древнегреческой мифологии и его сын Морфей плетут загадочный алгоритм будущих сновидений, некоторые из нас, словно барахтаясь на волнах в штормовом море, то пропадают, то снова появляются, безуспешно пытаясь осчастливить себя погружением в глубокий сон.
Как же происходит этот процесс? Для того чтобы найти ответ на вопрос, начнем с другого. Что отличает бодрствование от сна? Казалось бы, что может быть проще! Но все же попробуйте-ка на него ответить. Обычно мы знаем, что спали (всегда в прошедшем времени), а сейчас уже не спим. Откуда нам известно, что проснулись? Мы же бодрствуем! Смотрим, говорим, двигаемся! Именно это и есть основное доказательство того, что мы не спим. В собственном бодрствовании мы всегда уверены. Это важно. Ведь бодрствуем, мыслим – значит, существуем!7 Но попробуем разобраться: так ли это? Можем ли мы не сомневаться, что в каждое данное мгновение времени бодрствуем?
Для ответа потребуется ввести некоторые определения. Известно, что во время бодрствования мы двигаемся, спонтанно и неосознанно перемещая пальцы рук, ноги, голову и т. д. Сможете, не задумываясь, ответить, сколько раз вам пришлось пошевелить пальцами, пока вы перевернули прочитанную страницу этой книги? Сколько движений глаз, так называемых саккад8, вы совершили, читая слова и предложения? Заметили ли вообще, что выполняли эти движения? Но может ли движение быть определением бодрствования? Как часто на улицах крупных городов можно увидеть артистов, бесподобно играющих роль статуй. Они удивляют своей неподвижностью, зарабатывая этим себе на хлеб, и, конечно, бодрствуют. Неподвижно, но не во сне.
Знаете ли вы, сколько раз человек меняет положение своего тела во сне, не просыпаясь? Или что дети могут падать с кровати и тоже не просыпаться при этом, если, конечно, на полу лежит мягкий ковер. Слышали ли вы что-то о парасомниях? Двигательный феномен, который имеет отношение ко сну, одно из его проявлений называется «сомнамбулизмом» – снохождением. Одним словом, неверно утверждать, что сон и движение несовместимы, но, естественно, возможности двигаться во время сна у нас значительно меньше, чем во время бодрствования, и это имеет глубокий эволюционный смысл. Прежде всего это важно потому, что во время сна наши сенсорные функции ослаблены, мы не можем адекватно реагировать на опасные ситуации и именно поэтому уязвимы. С другой стороны, оставаться неподвижными – значит не привлекать ненужного постороннего внимания, которое может помешать нашему сну. Это особенно актуально во время фазы быстрого или парадоксального сна9, когда мозг активен, но двигательная система, особенно мозговые центры, ответственные за скоординированные произвольные движения, полностью отключена. Случается, после такой фазы и сопровождающих ее эмоциональных сновидений вы просыпаетесь, но обнаруживаете, что не можете пошевелиться. Состояние сонного паралича может длиться мгновение или даже несколько секунд, вызвав панику, а потом наступает мышечное освобождение и глубокий выдох сменяет испуг. Обычно мы уверены в нашей способности контролировать свое тело и свои движения. Потеря контроля во сне напоминает, что это далеко не всегда так.
Можно ли одновременно спать и бодрствовать?
Известны необыкновенные примеры из мира животных, когда движение и сон не исключают друг друга. Дельфины, например, или некоторые другие морские млекопитающие должны постоянно двигаться и в то же время – спать. Сон у дельфинов наблюдается то в одном, то в другом полушарии мозга, и можно сказать, что в таких случаях они бодрствуют и спят одновременно! Как это у них получается? Известно, что мозолистое тело – пучок нервных волокон, соединяющий полушария, – у дельфинов относительно невелик. Но как из одной половины мозга в другую переносятся мгновенно приказы, отвечающие за сон, пока остается загадкой10.
Мозг человека также асимметричен, и считается, что левое и правое полушария, по крайней мере отчасти, специализируются на решении определенных задач. Ученые пока не могут определиться, можем ли мы достигать состояния «расщепленного сознания», но существуют удивительные свидетельства того, что у пациентов с рассеченным мозолистым телом одно полушарие может не знать, что в это время делает другое. Некоторые исследования показали, что сон, и даже отдельные его фазы, может быть асимметричен и у людей, хотя, конечно, не в такой степени, как у дельфинов.
Одновременное сосуществование бодрствования и сна наиболее выражено в случаях, когда мы вынужденно лишены сна, и наверняка при определенных его нарушениях (об одном упомянуто выше). Итальянский нейрофизиолог Джузеппе Моруцци назвал такие состояния dormiveglia – «полусном» или «сном-бодрствованием», а известные американские ученые Марк Маховальд и Карлос Шенк11 ссылались на размытость границ при описании смешанных состояний между бодрствованием и сном. Во всяком случае, существующее тысячелетиями представление «мы либо бодрствуем, либо спим, без промежуточных состояний» в некотором смысле устарело.
Сама по себе точка зрения, что сон и бодрствование не взаимоисключающие состояния, не новая. Предположения, что во время сна спят только определенные мозговые центры, которые отвечают за сознание или сенсорное (чувственное) восприятие, – что мозг не спит полностью, – высказывались уже довольно давно. Мария Манасеина12, одна из первых русских женщин-ученых, в частности исследовавшая и сон, писала: «Ученые, признающие сон за остановку или диастолу мозговой деятельности, ошибаются, так как во время сна мозг вовсе не спит, не бездействует весь целиком, а засыпанию подвержены только те части его, которые составляют анатомическую основу, анатомический субстрат сознания. Сон – время отдохновения нашего сознания»13. Упомянутый уже Моруцци уточнял, что «сон в первую очередь касается не всего головного мозга или даже неокортекса – его верхних слоев, – но только тех нейронов или синапсов, которые во время бодрствования связаны с функциями мозга, отвечающими за сознательное поведение».
Существующее тысячелетиями представление «мы либо бодрствуем, либо спим, без промежуточных состояний» в некотором смысле устарело.
Как же проверить эти заключения экспериментально и возможно ли это в принципе? Непросто! И главная причина заключается в том, что мозг до относительно недавнего времени, которое подарило новые технологии для его исследования и визуализации, был наитруднейшей загадкой. Поэтому-то и культивировался традиционный взгляд на сон как на телесный и общий полный покой, который характеризуется отсутствием движения. Лучшие нейробиологи до недавнего времени рассматривали сон как состояние, когда вся деятельность мозга приостановлена. Лауреат Нобелевской премии, русский физиолог Иван Петрович Павлов14 считал сон «разлитым торможением коры». Сегодня мы точно знаем, что это не так: мозг активен, когда мы спим. Логично было бы предположить, что разные части мозга могут играть неодинаковую роль в процессе сна и даже могут иметь различную потребность во сне, что, впрочем, и было обнаружено в последующих исследованиях.
За кулисами неточных определений
Прежде чем мы начнем повествование, стóит сделать первый и далеко не последний шаг на просторы этимологии, отметить некоторые важные понятия и задать вопросы к их определениям. Если бодрствование – это больше, чем просто движение, а сон – это больше, чем его отсутствие, а оба состояния могут в равной степени одновременно сосуществовать, то как мы можем отличить эти два состояния? Есть ли в нашем языке (или языках) подходящие слова, определяющие понятие «сон» в общем и отличающие процесс сна от разных его типов? Одно из главных препятствий для понимания сна – неточные или ложные словесные выражения, которые его характеризуют.
Представьте ситуацию: едва вам удалось заснуть, как кто-то зашел к вам в комнату, негромко позвал вас по имени и потянул за одеяло. Вы, скорее всего, сразу проснетесь. Но если вас потревожат среди ночи, то придется приложить больше усилий, чтобы вызвать какую-то, тем более осмысленную реакцию. Одно из свойств сна называется порогом пробуждения, оно не постоянно и меняется в течение ночи, в зависимости от типа сна например. Сам порог пробуждения очень индивидуален и тем более широко варьирует среди животных – к некоторым невозможно приблизиться, не потревожив, а других просто невозможно разбудить! Порог пробуждения характеризует «глубину» сна, но, несмотря на то что это понятие часто употребляется, измерять его совсем непросто, а тем более интерпретировать с нейробиологической точки зрения.
Одно из главных препятствий для понимания сна – неточные или ложные словесные выражения, которые его характеризуют.
Парадокс состоит в том, что для того, чтобы подтвердить сам факт сна, необходимо разбудить спящего. В некотором смысле это можно сравнить со знаменитым мысленным экспериментом, известным как парадокс кота Шредингера, в 1935 году придуманный Эрвином Шредингером15, австрийским физиком-теоретиком, занимавшимся описанием квантовой механики, которая объясняет идею корпускулярно-волнового дуализма. Эксперимент многим хорошо знаком. В стальной закрытый ящик с радиоактивным атомным веществом помещают кота (уточним: ни один настоящий кот в эксперименте Шредингера не участвовал, а следовательно, и не пострадал). Если расщепление атома произойдет, это вызовет высвобождение некоего смертельного вещества, и тогда гипотетический кот погибнет. Но атом может и не распасться, и тогда кот останется жив – вероятность обеих исходов одинакова. Пока ящик закрыт, состояние кота предсказать невозможно и приходиться смириться с тем, что кот и жив и мертв одновременно. Только открыв ящик, можно с уверенностью дать ответ. Эйнштейн был в восторге от этого примера и нашел его крайне полезным, чтобы интерпретировать возможность существования двух состояний одновременно. Сам факт наблюдения решает судьбу эксперимента (и обрекает кота на жизнь или смерть). Так и со сном. Большую часть времени мы проводим в промежуточных состояниях, а для того, чтобы убедиться, что испытуемый действительно спит, не остается ничего другого, как попытаться получить от него какой-либо ответ, что само по себе повлияет на состояние спящего. Можно сказать, что сон и бодрствование – не бинарные, а вероятностные понятия. Они отличаются не качественно, а всего лишь количественно. В этом трудность определения сна.
Парадокс состоит в том, что для того, чтобы подтвердить сам факт сна, необходимо разбудить спящего.
Увы, наш язык слишком ограничен даже для поверхностного описания таких сложных и относительных понятий, как сон. Но многие ли из нас знают, как работает наш телефон или компьютер или каково назначение конкретного механизма в автомобиле, на котором мы ездим каждый день? Нужны ли нам эти знания? Возможно, и нет. Но есть необходимость понять сон лучше! Просто для того, чтобы избежать самых вопиющих и непростительных недоразумений. Представьте ситуацию. Вы пришли к врачу, жалуясь на самочувствие, и один из вопросов, который вы слышите: «Какой процент вашего мозга спал прошлой ночью?» Или такой: «Насколько вы бодрствовали по дороге ко мне?» Если эти вопросы вам кажутся странными и нелепыми – эта книга как раз для вас. Знание ответов на такие вопросы или хотя бы осознание их важности может спасти жизнь – и не только вам.
Так о чем же эта книга?
Сто лет назад о сне было известно немного, но будем откровенны, и сегодня ученые не могут похвастаться тем, что тайна сна открыта. Даже трудно сказать, сколько еще нам предстоит узнать, сколько поколений любознательных будет исследовать сон, сколько раз поменяется научная парадигма, пока произойдет заметный прогресс. Да, уже накоплено довольно много данных в этой области. Да, ученые уже могут оперировать определенными знаниями, но понимания сути научного предмета «сон» еще нет. Профессора различных биологических, психологических, медицинских дисциплин еще долгое время будут загружать своих студентов интересными темами для будущих исследований – и наша книга сможет им в этом помочь. Она представляет собой скромную и робкую попытку представить и проанализировать некоторые важные аспекты науки о сне и в основном будет касаться не того, что хорошо известно, а того, что очень хочется понять, каких важных открытий стоит ожидать в ближайшем будущем.
Повествование начнется не с момента засыпания, а с определения «пробуждения». Мы смело засыпаем каждую ночь, не сомневаясь, что вернемся к бодрствующему состоянию следующим утром, и не задумываемся, почему и как мы вообще просыпаемся. Как в состоянии измененного, если не отсутствующего, сознания у нас получается отслеживать течение времени, чтобы поспать ровно нам причитающиеся семь или восемь часов? Почему иногда невозможно проснуться без будильника, который не всегда и не всем сразу помогает расстаться со сном? Одинаково ли долго длится сон в зависимости от времени, когда мы заснули?
Многие ученые считают, что сон – это расплата за бодрствование предыдущим днем. Как же оптимально разделить сутки на эти две составляющие: сон и бодрствование?
Можем ли мы сократить до минимума время сна, удлинив тем самым время активности, когда мы живем, взаимодействуя с миром? Вы удивитесь, узнав, что процесс, который отсчитывает порцию минут и часов, выделенную каждому, математически точен, а задолженность по сну не может накапливаться бесконечно и расплата обязательно наступит. В какой валюте происходит этот расчет? Это один из важных вопросов науки о сне, а мы обсудим несколько ведущих теорий, позавидовав некоторым птицам – фрегатам, например, – умеющим часами парить без взмаха крыльев и лететь много дней без посадки на воду или землю. Спят ли они в полете? Если да, то как? Можем ли мы научиться у них бодрствовать долгое время?
Процесс, который отсчитывает порцию минут и часов, выделенную каждому, математически точен, а задолженность по сну не может накапливаться бесконечно, и расплата обязательно наступит.
Было время, когда ученые считали сон и бодрствование взаимоисключающими, глобальными процессами на уровне всего организма, но уже выяснилось, что это далеко не так. В каждое мгновение, каждый данный момент всего лишь часть нашего мозга активно бодрствует, в то время как большая часть, по сути, отключена. Чем это определяется? Отделы мозга, ответственные за возникновение и поддержание бодрствования и сна, вовлечены в очень сложное динамическое взаимодействие друг с другом. Сегодня известно, что нарушения работы некоторых частей гипоталамуса – небольшой, но ключевой области мозга – вызывают бессонницу или даже могут отправить пациента в коматозное состояние. Но где находится тот магический переключатель, который решает, когда нам спать, а когда бодрствовать, и откуда управляется этот невероятно сложный оркестр нейронных процессов и синаптических связей? И есть ли центр сна вообще?
Нам известно много факторов, которые определяют цикл бодрствования и сна и отвечают за него. Без описания роли циркадианных ритмов в этих процессах обойтись невозможно, и мы рассмотрим их подробно. Почему, например, кто-то из нас просыпается перед рассветом, в то время как его соседи только заснули? Мы не обойдемся без упоминания стимулов, которые настраивают внутренние биологические часы в нашем «молекулярном оркестре». И снова животные, в этом случае жаворонки и совы, нам помогут. Вопрос выбора времени для сна, как людьми, так и животными, нас также будет занимать. Ведь известно, что кто-то спит днем, кто-то – ночью, а кто-то – в любое время суток. Почему слоны – одни из самых умных животных с невероятно сложным поведением и социальным устройством, обходятся всего несколькими часами сна16, в то время как другие – летучие мыши, например, – проводят бóльшую часть жизни во сне?17
Мы привыкли думать, что наше основное состояние – бодрствование. И, к сожалению, мы должны от него периодически отказываться, чтобы поспать. А если предположить, что базовое состояние, в котором проходит жизнь, – это на самом деле не бодрствование, а сон? Нетривиальное заявление? Некоторые ученые считают, что мы просыпаемся всего лишь для того, чтобы быстро, наспех справиться с насущными делами, которые нам недоступны в состоянии сна, – добычей пропитания и размножением, – и снова вернуться в сон. Эта точка зрения, как нетрудно заметить, совершенно меняет наши самые фундаментальные представления о роли сна в нашей жизни. Поэтому мы обсудим их, объективно и критически, в одной из последующих глав.
Как известно, в первые месяцы после рождения человек (как, впрочем, и многие другие животные) проводит большую часть времени во сне. Какой в этом биологический смысл? Что происходит со сном, когда организм взрослеет и затем стареет? Играет ли сон одну и ту же роль сразу после рождения и незадолго до смерти? Без экскурсии в наше индивидуальное развитие – от рождения до глубокой старости – не обойтись, и мы объясним, почему сон меняется с возрастом и как здоровый сон в течение жизни влияет на развитие старческих изменений в теле и мозге. Мы попытаемся обосновать роль сна в том, как реализуется программа, которая ответственна за выживание нашего вида.
Весь мир строится вокруг нашего сна и бодрствования. Мы живем на полуспящей планете.
Снова и снова мы будем возвращаться к вопросам определения того, что такое сон, что представляет собой процесс засыпания и что происходит со сном в течение ночи. Как накопленные знания в смежных областях и развитие технологий влияли на развитие наших представлений о сне, бодрствовании и сознании? Действительно ли мы теряем сознание, когда засыпаем? Что определяет глубину сна? Почему сон состоит из разных фаз? И как отличить медленный сон от парадоксального, характеризующегося быстрым движением глаз? А знали ли вы, что лишение – депривация – сна считается одним из самых перспективных терапевтических подходов при депрессии?
Наконец, мы зададимся вопросом о возникновении и эволюции сна в контексте сложных и динамических экосистем.
Поговорим о роли сна в глобальном масштабе и обсудим, как сон влияет на функционирование нашего общества. В каждую минуту около миллиарда людей на Земле спят. Около половины из них в данный момент видят сны. Пожалуй, около трети всех спящих храпят, не давая спать своим партнерам – другой трети. Многие из них скоро откроют глаза, несмотря на темноту, и больше не смогут заснуть, ворочаясь до утра, некоторые потянутся к снотворному на столике у кровати, а другие, к сожалению, больше никогда не проснутся.
Весь мир строится вокруг нашего сна и бодрствования. Мы живем на полуспящей планете. Сон – это одно из самых удивительных явлений, уникальных состояний и непонятных процессов, которые касаются каждого из нас в отдельности и всего общества в целом. Если бы сна не было, мир был бы другим.
Начислим
+5
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе