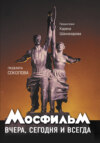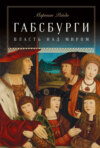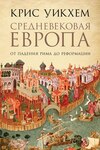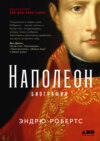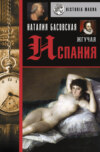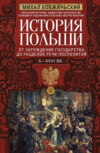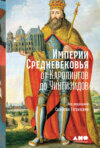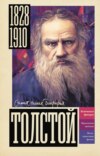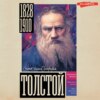Читать книгу: «Люди, которые прославили Россию», страница 2
Однако и над расположением русских войск практически каждый день появлялся австрийский аэроплан, производивший разведку и затем удалявшийся на место дислокации. Генерал-квартирмейстер 3‑й армии Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич указал летчикам на их бездействие. Нестеров вспылил и поклялся словом русского офицера, что найдет способ прекратить эти полеты: «Я даю Вам честное слово русского офицера, Ваше превосходительство, что этот австриец перестанет летать!»
8 сентября 1914 года самолет под управлением австрийского лейтенанта барона Фридриха фон Розенталя, разведчика и бомбардировщика, в очередной раз показался над аэродромом 11‑го авиаотряда. Петр Нестеров, не раздумывая ни минуты, сел в кабину своего аэроплана. То, что произошло дальше, лучше узнать со слов очевидца. Михаил Бонч-Бруевич в своей книге «Вся власть Советам!» описывал так: «Едва я отыскал в безоблачном небе австрийца, как послышался шум поднимавшегося из-за замка самолета. Оказалось, что это снова взлетел неустрашимый Нестеров. Потом рассказывали, что штабс-капитан, услышав гул австрийского самолета, выскочил из своей палатки и как был в одних чулках забрался в самолет и полетел на врага, даже не привязав себя ремнями к сиденью. Поднявшись, Нестеров стремительно полетел навстречу австрийцу. Солнце мешало смотреть вверх, и я не приметил всех маневров отважного штабс-капитана, хотя, как и все окружающие, с замирающим сердцем следил за развертывавшимся в воздухе единоборством. Наконец, самолет Нестерова, круто планируя, устремился на австрийца и пересек его путь; штабс-капитан как бы протаранил вражеский аэроплан – мне показалось, что я отчетливо видел, как столкнулись самолеты. Австриец внезапно остановился, застыл в воздухе и тотчас же как-то странно закачался; крылья его двигались то вверх, то вниз. И вдруг, кувыркаясь и переворачиваясь, неприятельский самолет стремительно полетел вниз, и я готов был поклясться, что заметил, как он распался в воздухе. Какое-то мгновение все мы считали, что бой закончился полной победой нашего летчика, и ждали, что он вот-вот благополучно приземлится. Впервые примененный в авиации таран как-то ни до кого не дошел. Даже я, в те времена пристально следивший за авиацией, не подумал о том, что самолет, таранивший противника, не может выдержать такого страшного удара. В те времена самолет был весьма хрупкой, легко ломающейся машиной. Неожиданно я увидел, как из русского самолета выпала и, обгоняя падающую машину, стремглав полетела вниз крохотная фигура летчика. Это был Нестеров, выбросившийся из разбитого самолета. Парашюта наша авиация еще не знала; читатель вряд ли в состоянии представить себе ужас, который охватил всех нас, следивших за воздушным боем, когда мы увидели славного нашего летчика, камнем падавшего вниз…Вслед за штабс-капитаном Нестеровым на землю упал и его осиротевший самолет».
Само собой, Нестеров не планировал погибать, но пошел на крайний риск и ошибся в расчетах. Об этом свидетельствует его статья, опубликованная незадолго до трагического события: «Я не зеленый юноша, служу офицером 8‑й год, имею жену, двух детишек и мать, которой по возможности помогаю, – следовательно, рисковать собой ради получения клички вроде „русский Пегу“ и т. п. мне не приходится; что же касается аппарата, то, кажется, я мог бы и рискнуть им, так как до сих пор за мной ни в школе, ни в отряде не числится ни одной поломки». Однако он протаранил самолет противника не только колесами, но и винтом, что сыграло роковую роль – от удара вал сломался и двигатель выбросило из машины, самолет сразу потерял скорость. Но пройдет чуть более полугода, и другой русский летчик Александр Казаков использует прием воздушного тарана и благополучно возвратится на свой аэродром. В годы Великой Отечественной войны многие пилоты таранили гитлеровцев и остались живы.
К моменту гибели отважному русскому авиатору, впервые применившему воздушный таран, исполнилось всего 27 лет. На месте трагедии был поставлен монумент в его честь. Он один из немногих офицеров царской армии, память о котором при советской власти была с почтением увековечена. В 1951 году город Жолква, где произошло трагическое событие, переименовали в Нестеров. Это название просуществовало до 1992 года, когда украинские власти возвратили городу прежнее имя. В честь Петра Нестерова названы улицы в Минске, Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре и многих других городах. В Нижнем Новгороде установили памятник знаменитому летчику. Открытый сотрудниками Крымской обсерватории в 1973 году астероид назвали «Нестеров». Более того, в 1994 году Указом Президента Российской Федерации учредили медаль Нестерова: ее вручают военнослужащим ВВС и авиации других родов войск, летному составу гражданской авиации и авиапромышленности «За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской авиации», «За отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое профессиональное мастерство самолетовождения».
Среди документальных передач, посвященных русскому летчику, можно отметить следующие: «Петр Нестеров. Воздушный ас Российской империи», «Первые в мире. Петля Петра Нестерова», «Знай наших. Петр Нестеров».
Пилоты всего мира изучают и развивают идеи Петра Нестерова. Он не просто знаковая фигура в мировой авиации, он – образец доблести, мужества и преданности своей Родине. Нестеров любил небо, Отчизну и дело, которым занимался.
Игорь Иванович Сикорский. «Мистер Вертолет»
Искра, разгоревшаяся в одном человеке, движет человечество.
И.И. Сикорский
Игорь Иванович Сикорский – выдающийся русский авиаконструктор, известный на весь мир изобретатель вертолетов, первопроходец в области дальних перелетов на аэропланах, первый в мире создатель тяжелого многомоторного самолета, гидросамолетов универсального назначения.

Игорь Иванович Сикорский
Игорь Иванович родился 6 мая 1889 года в Киеве. Родители имели медицинское образование. В семье, кроме Игоря, было еще четверо детей. Отец Игоря Сикорского – профессор университета имени Святого Владимира, был всемирно известен как автор трудов по психиатрии, психологии и нервно-психиатрической гигиене. Отец воспитывал Игоря по собственной методике, основывающейся, в том числе, на преданности Церкви, Престолу и Отечеству, развивая в сыне волю и упорство в достижении цели. Мать Сикорского всегда старалась привить детям любовь к искусству, литературе; именно от нее еще совсем маленький Игорь узнал про Леонардо да Винчи и его разработки летательных аппаратов. Роман «Робур-завоеватель» Жюля Верна вообще стал настольной книгой будущего конструктора. Воздушная машина, описанная в книге, скорее всего стала прообразом проектов Сикорского. Конструировать Игорь Сикорский начал в подростковом возрасте. Например, в 12 лет он сделал вертолет с резиновым моторчиком.
Однако он не сразу последовал своему призванию. Сначала Сикорский поступает в морской кадетский корпус, где учился и его старший брат. Несмотря на то что учеба ему нравилась, Игорь принимает решение о поступлении в высшее техническое заведение, чтобы стать инженером. На тот момент, в 1906 году, в связи с революционной лихорадкой университеты в России практически не работали, и Сикорский уезжает в Париж, в техническую школу Дювиньо де Лано. После года обучения во Франции будущий изобретатель вертолетов возвращается в Киев и держит экзамен в Киевский политехнический институт, но и здесь он задерживается ненадолго, считая, что не стоит тратить время на изучение ненужных для авиаконструктора дисциплин. Диплом он получит спустя 7 лет, уже став известным. А пока отправляется в Европу для знакомства с последними разработками в авиастроении и в Париже приобретает двигатель. Вернувшись домой, Сикорский увлеченно строит геликоптер (принятое за рубежом название вертолета – прим. авт.). К сожалению, дважды его постигает неудача – вертолетам не хватает тяги. Тогда он решает заняться конструированием аэропланов с жестко закрепленным крылом, но не оставляет мыслей о вертолетостроении.

Гидросамолет «Илья Муромец»
В те времена самолетостроение считалось очень опасным занятием – первые летательные аппараты не отличались прочностью конструкции и стабильной работой, поэтому пилот в любой момент мог погибнуть. Игорь Сикорский лично проверял свои планеры и не один раз был на волосок от гибели. Первый раз он поднялся в воздух 3 июня 1910 года на самолете БиС‑2 (С‑2), он пролетел 600 метров и пробыл в воздухе 42 секунды. А вот когда в небо стартовал С‑5 (пятая модификация самолета Сикорского), пришел настоящий успех. С‑5 поразил даже императора своей маневренностью на высоте около 500 метров, дальностью полета – 82 км и скоростью – 125 км/час. На этом биплане5 Сикорский сдал экзамен на звание пилота, поставил четыре всероссийских рекорда, кроме показательных полетов, совершил полеты с пассажирами. Но самое главное, в сентябре 1911 года во время военных маневров доказал на практике преимущество своего самолета перед машинами иностранных марок. Нужно отметить, что на тот момент Сикорский не имел образования, не доучился и ему было всего 22 года.
Но на этом молодой авиаконструктор останавливаться не планировал. В международных состязаниях военных бипланов, в условиях жесткой конкуренции, три самолета Сикорского были признаны лучшими. Кроме того, модель разведчика С‑10 стала основной машиной в Балтийской морской авиации, а самолет С‑12, имеющий большую маневренность, поставили на производство для фронта. Сикорский замахивается на проектирование четырехмоторного самолета, пригодного для работы в тяжелых условиях климата России. В планах Сикорского построение надежной машины, которую, ко всему прочему, можно ремонтировать во время полета. И уже в марте 1913 года такой самолет был готов. Сначала его назвали «Гранд», но потом переименовали в «Русского витязя». В мире с трудом верили, что «Русский витязь» – реальность. Он фактически стал легендой, так как превосходил по размерам и взлетному весу все ранее построенные самолеты. Но Сикорский выпускает еще более совершенный гидросамолет6 «Илья Муромец», принявший 12 февраля 1914 году на борт 16 пассажиров и аэродромного пса Шкалика, что составило около 1290 кг. Таким образом Сикорский положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению.

Вертолет XR‑4
Игорь Сикорский в возрасте 24 лет становится мировой знаменитостью, его работу ценят и уважают в России. До 1917 года он успел сконструировать два вертолета, один аэродвигатель, трое аэросаней и более двух десятков летательных машин. В 25 лет Сикорского наградили орденом Св. Владимира IV степени. Но начались времена революционных волнений, стачек и забастовок, оставаться в России Сикорский счел небезопасным – один из рабочих на заводе, где Сикорский трудится главным инженером, предупреждает его о предстоящем аресте. И весной 1918 года он эмигрирует сначала во Францию, потом в США. Проработав год во Франции, создав копию четырехмоторного самолета, Сикорский хотел вернуться на Родину, но в России шла полным ходом гражданская война, политическая обстановка была напряженной, и изобретатель в 1919 году уехал в Америку.
В эмиграции талантливый авиаконструктор сначала находится не у дел и работает школьным учителем. У него было ощущение, что с авиастроением покончено, но через четыре года он собирает вокруг себя талантливых русских переселенцев, имевших отношение к авиации, и открывает собственную компанию «Сикорский Корпорейшн», существующую и поныне. Она стала пристанищем для многих «белых» невозвращенцев. В 1924 году в помещении курятника был построен первый американский самолет Сикорского S‑29А, который стал самым большим и совершенным в своем классе и получил мировую известность. Но прежде чем это случилось, из-за нехватки средств на три четверти готовый проект пришлось затормозить. Помощь пришла от известного русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова. Сергей Сикорский, сын Игоря Сикорского, рассказывал об этом так: «Все на ферме были очень взволнованы. Они все сразу узнали в своем госте Сергей Рахманинова. Отец подошел к нему, и они начали разговаривать. Примерно через полчаса Рахманинов сказал: “Я верю в вас и ваш самолет и хочу вам помочь„. И композитор выписал чек на сумму 5 000 долларов (по нынешним ценам это почти 100 тысяч долларов)». В знак благодарности Сикорский предложил Рахманинову стать первым вице-президентом компании. Тот согласился, и это значительно повысило престиж организации.
Сикорский много работал – неудачи сменялись колоссальным успехом, и наоборот. Весной 1926 года к Сикорскому пришел необычный клиент, герой Франции, летчик Рене Фонк, задумавший перелететь океан и нуждавшийся в надежном самолете. Талантливый авиаконструктор всего себя посвящает этому грандиозному проекту. Заказчик попался не из легких: он хотел вылететь осенью и не желал ждать, пока пройдет полный объем испытаний. Полет назначили на 20 сентября. На аэродроме собрались толпы зрителей, кинооператоры, газетчики. Самолет разгоняется, неожиданно скорость снижается, самолет падает и тут же воспламеняется. Фонк и второй пилот успевают выбраться, а механик и радист сгорают заживо. Сикорский разом теряет доверие и оказывается в долговой яме.
И снова Игорь Сикорский поднимается как феникс из пепла. Он разрабатывает и создает в 1927 году десятиместный двухмоторный самолет-амфибию, совершивший «переворот в авиации», как писали газеты. Авиаконструктор не останавливается, и в 1934 году представляет новый самолет S‑42 Clipper, совершивший перелет из Америки в Новую Зеландию. Но снова кризис – разразился скандал между компанией и ее конкурентами, где изобретатель оказался фактически не у дел.
Однако Сикорский не был бы Сикорским, если бы не его упорство и любовь к авиации. Приблизительно в это же время он получает письменное приглашение И.В. Сталина вернуться в Россию. С сожалением в сердце Сикорский отказывается, потому что знает о трагической судьбе советского авиаконструктора Роберта Бартини, арестованного НКВД СССР по обвинению в шпионаже и приговоренного к 10 годам заключения. Сикорский начинает все сначала и возвращается к своей давней мечте – вертолетостроению. На тот момент ему было 50 лет. Свой первый вертолет он сам поднял в воздух в 1939 году, а в 1942 году у него готов опытный двухместный вертолет XR‑4, вскоре поступивший в серийное производство. Прежде чем вертолет поднялся в воздух, изобретатель переделал его 18 раз за год. XR‑4 – единственный боевой вертолет, принимавший участие во Второй мировой войне.
Но в 1946 году Сикорский терпит поражение от авиаконструктора польского происхождения Франка Пясецкого, вертолет которого предпочитает армия США при пополнении военных единиц техники. Однако Сикорского не остановить. Он делает ставку на создание мощных вертолетов: его S‑55 может поднять тонну веса, а S‑56 уже 5 тонн. Никто не мог повторить модель машин русского конструктора. Его стали называть «Мистер Вертолет». Потом появились другие, более совершенные машины Сикорского в среднем классе. А его компания, претерпевшая со временем преобразования (Sikorsky Aircraft), и сейчас является ведущим производителем вертолетов.
За свою жизнь Сикорский получил свыше 80 различных наград и дипломов. Его имя включено в США в Национальный зал славы изобретателей наряду с именами Эдисона, Бема, Ферми, Пастера и т. д. Почетная медаль Джона Фрица «За научно-технические достижения в области фундаментальных и прикладных наук» в сфере авиации была присуждена только двум людям – Орвиллу Райту и Игорю Сикорскому. В память о нем в 1980 году учредили приз Сикорского за создание мускулолета7 вертолетного типа. В июне 2013 года этот приз завоевала команда студентов и выпускников Университета Торонто.
К великому сожалению, в силу обстоятельств значительная часть того, что он сделал, послужило на пользу США, но до конца жизни Сикорский любил Россию и оставался ее патриотом. Как вспоминает один из сыновей конструктора, историк авиации Игорь Сикорский-младший, «переехав в США, Игорь Иванович никогда не забывал своих национальных корней. Он дорожил своей русскостью и передал это детям». Несмотря на то что остаток жизни Сикорский прожил в США, он считал себя русским и старался сохранять и развивать русскую культуру в среде эмигрантов. На собственные средства Игорь Сикорский построил церковь, русскую оперу и открыл русскую школу, был членом правления Толстовского фонда и Общества русской культуры. Он всегда говорил: «Нам нужно работать, а главное – учиться тому, что поможет нам восстановить родину, когда она того от нас потребует». До последних дней Сикорский не терял надежды вернуться. Умер великий авиаконструктор 26 октября 1972 года в возрасте 83 лет во сне. Но даже последний день он провел в офисе своей компании.
Именем Сикорского названы площадь в Санкт-Петербурге, дальний бомбардировщик Ту‑160, астероид и кратер на обратной стороне луны. В 1979 году был выпущен фильм производства СССР «Поэма о крыльях», а также современные кинокартины «Игорь Сикорский. Витязь неба», «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы», «Удивительная история Игоря Сикорского – создателя вертолета, эмигранта и патриота».
Коллега Сикорского, Юджин Э. Уилсон написал статью под названием «Самый незабываемый персонаж, которого я когда-либо встречал», где были такие строки: «Беззастенчивый мистик, он верит, что некоторые художники и писатели обладают даром видеть за завесой времени и обнаруживать туманные видения грядущего. Он скромно предполагает, что инженеры тоже могут иметь этот дар».
А на его памятнике надпись гласит: «Редко встретишь такого дальновидного человека, чьи мечты становятся реальностью. Еще реже встретишь человека, чье видение делает жизнь других лучше, одновременно реализуя и свои жизненные цели. Таким человеком был Игорь Сикорский – “отец вертолета”, пионер воздухоплавания, изобретатель и философ».
И ниже – «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11–25).
Александр Николаевич Лодыгин. Да будет свет!
… интерес к методу освещения накаливания усилился благодаря изобретению мистера Лодыгина, построившего лампу, в которой были преодолены многие трудности, казавшиеся ранее непреодолимыми.
Газета New York Herald от 21 декабря 1879 года
Александр Николаевич Лодыгин – изобретатель лампы накаливания, русский электротехник, один из основоположников электротермии8. Первым использовал для нити накаливания лампы тугоплавкие металлы.

Александр Николаевич Лодыгин
© А. Гурьянов / РИА Новос
Александр Николаевич родился 18 октября 1847 года в Тамбовской губернии в бедной дворянской семье. Ему предопределено было стать военным: прадед – прапорщик, дед – майор, отец – поручик. В 12 лет мальчика отдали в Тамбовский кадетский корпус, затем его перевели в Воронежский Михайловский кадетский корпус. В 1868 году Лодыгин закончил обучение в Московском юнкерском пехотном училище. Однако военная карьера его не прельщала, и он, прослужив положенный срок, вышел в отставку уже в 1870 году. Результатом такого неожиданного поступка стал полный разрыв с семьей. А его тянуло к изобретениям, и он посвящал этому все свое время. Лодыгин не имел достаточных средств для осуществления своих проектов, поэтому не гнушался никакой работы. Отставной офицер поступил на Тульский оружейный завод простым молотобойцем. Поднакопив, он отправился в северную столицу.
В его задумках было создание «электролета» – своего рода вертолета на электричестве и водолазного аппарата на газовой смеси из кислорода и водорода. Кстати, электролет Лодыгина удивительным образом предвосхитил идею, основные характеристики и конструктивные черты будущего вертолета. Однако российское военное министерство сочло подобные идеи бесперспективными. «На предложение г. Лодыгина нельзя смотреть серьезно и тем более дать ему практическое применение, и бесполезно было бы затратить на осуществление этого необдуманного предложения и аппарата несколько тысяч рублей». Как мы уже с вами знаем, автором вертолета впоследствии станет Игорь Сикорский.
Лодыгин предложил правительству Франции использовать электролет для военных действий, ответ оказался положительным – деньги выделили, 50 000 франков. Изобретатель, собрав с помощью знакомых 98 рублей на билет до Парижа, выехал туда. Но увы, поездка не принесла ожидаемых результатов. Вначале воры украли чемодан со всеми чертежами, а когда Лодыгин прибыл на парижский вокзал, ему пришлось доказывать полицейским, что он не немецкий шпион. Когда обстоятельства выяснились, он был вынужден восстанавливать чертежи по памяти и работать слесарем, чтобы иметь возможность снимать жилье. Но нашелся человек, командир бригады аэронавтов, Феликс Турнашон, который поверил чудаку-изобретателю и помог в воссоздании чертежей. Однако к тому моменту франко-прусская война закончилась разгромом французов, проект закрыли, и Лодыгин возвратился обратно в Санкт-Петербург.
В 1871 году Лодыгин работал и параллельно посещал лекции по физике, химии, механике, не оставляя экспериментов с лампами накаливания, небольшой деталью своего «электролета», которые должны были освещать кабину пилота. Именно он первым додумался выкачать из стеклянной колбы воздух и взять в качестве источника света угольный стержень. Его лампы работали существенно дольше, чем у конкурентов.

Павел Николаевич Яблочко
9 сентября 1872 года Александр Лодыгин подал заявку в Департамент торговли и мануфактур на «Способ и аппараты дешевого электрического освещения», одновременно устраивая публичные демонстрации электрического освещения. На них собиралось людей иной раз больше, чем на оперу в Мариинском театре. Осенью 1873 года он заменил в фонарях на улице некоторые керосиновые горелки этими лампами. Один из свидетелей этого события рассказывал: «Лодыгин первый вынес лампу накаливания из физического кабинета на улицу». А инженер Н.В. Попов описывал: «Чтобы попасть на Пески, надо было пересечь пустынный и неосвещенный в то время Преображенский плац, где, по преданию и рассказу Н.В. Гоголя, была снята с Акакия Акакиевича шинель… А на Песках масса народа любовались этим освещением, этим огнем с неба. Многие принесли с собой газеты и сравнивали расстояния, на которых можно читать при керосиновом освещении и при электрическом…Родись Лодыгин пораньше да освети сии описанные в гоголевской “Шинели” места, не решились бы снять шинель с робкого Акакия Акакиевича разбойники». Это был небывалый успех.
Изобретение представляло стеклянный сосуд, внутри которого на двух медных стержнях был укреплен стержень из угля диаметром 2 мм. Ток шел по проводам, проходящим через оправу, которая закрывала отверстие сосуда. Историк Ирина Крылова пишет: «…если в дуговых электрических лампах свет возникал между концами двух проводников, то Лодыгин предложил использовать один проводник, который светился бы под воздействием направленного в него тока. В отличие от дуги, в такой сети могли включаться несколько световых пунктов, отчего свет получался не столь ярким, но зато ровным». Впоследствии Лодыгин разработает куда более совершенную конфигурацию, увеличив КПД и срок службы, наполняя колбу инертными газами, как и делается в наших современных лампах. Это был прорыв мирового значения.
23 июля 1874 года изобретатель получил патент под номером 1619, а Петербургская академия наук присудила автору Ломоносовскую премию за открытие – «путь к такому общему применению электрического света, которое, по всей вероятности, приведет к совершенному перевороту в системе освещения», в размере 1000 рублей.
За границей изобретение Лодыгина оценили быстро, и Австро-Венгрия, Испания, Португалия, Италия, Бельгия, Франция, Великобритания, Швеция, Саксония, Индия, Австралия выдали ему патенты, правда, США в этот список не входили. В 1873 году он отправил заявку на патент в США, но ему не хватило денег, чтобы оплатить нужные пошлины. Эдисон, бившийся над данной проблемой не менее шести лет, с радостью получил данные об изобретении своего коллеги из Российской империи.
Для продвижения лампы накаливания создали компанию «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°». Дела у предприятия шли не очень: изобретение признали нужным, но никакой поддержки Лодыгин не получил. Коммерческой жилки ему явно не хватало, вследствие чего фирма быстро обанкротилась. Уже в середине 1875 года Александр Лодыгин был слесарем в Петербургском арсенале, а в 1876–1878 годах поступил на металлургический завод принца Ольденбургского. С 1879 по 1884 годы работал у Павла Яблочкова, производившего и продававшего электролампы, – тот пригласил изобретателя к себе на работу, узнав о его бедственном положении. На тот момент Яблочков со своими электрическими свечами находился на пике популярности, тогда как о Лодыгине все забыли. Они вместе станут действительными членами VI электротехнического отдела Русского технического общества и будут главными инициаторами выпуска журнала «Электричество».
В 1880 году проходила первая в России выставка, где показывали новинки мировой электротехники, в их числе и лампы Лодыгина. На тот момент он понял, что колбы ламп стоит заполнять инертным газом, а осветительный элемент делать в виде спирали. Биограф Лодыгина Л.Н. Жукова пишет: «Лодыгинские лампы, изготавливаемые под неусыпным наблюдением их творца на заводе Яблочкова, получили название русских. На выставке в Вене русские лампы опередили по многим показателям зарубежные. Они были долговечны – служили до 1000 часов и более. Они были разнообразны – для напряжений от 2 В до 52 В. И они были экономичны: если эдисоновские потребляли 5 Вт на свечу, свановские – 5,9 Вт, максимовские – 6 Вт, то русские – всего 2,6 Вт. Кроме того, они были удобны в пользовании – включались в сеть, как сегодняшние электроприборы: два контактных стерженька лампы просто втыкались в патрон типа розетки…»

Лампочка Эдисона с угольной нитью
© Terren / flickr.com (CC BY 2.0)
В 1884 году из-за политических убеждений, не видя перспектив на родине, Лодыгин эмигрировал сначала во Францию, а затем в США. В Париже он участвовал во Всемирной выставке, работал над новыми лампами, изобрел электропечи и автомобили, строил заводы и метрополитен. Работал он у главного конкурента Эдисона Джорджа Вестингауза. В 1888 году он переехал в США, где получил патент на калильное тело для ламп накаливания из платиновых нитей, покрытых родием, иридием, рутением, осмием, хромом, вольфрамом и молибденом. На Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году использовали более 100 000 ламп конструкции Лодыгина. В этом же году Лодыгин обратился в патентное бюро США, чтобы зарегистрировать лампу с нитью из растительных волокон с пропиткой фтористым бромом и добавками кремния и бора, а в 1897 – с нитью из железа, платины, вольфрама, молибдена, осмия и иридия.
То есть вроде бы сомневаться в изобретателе и изобретениях не приходится, но возникает вопрос – а как же электрическая лампочка Эдисона? Дело в том, что в достаточно юном возрасте (21 год) Эдисон решил, что будет заниматься только коммерчески успешными разработками. За свою жизнь он оформил 1093 патента в США и около 3000 тысяч в других странах – результат, который еще никто не превзошел до настоящего дня.
Но давайте вернемся к лампочке. Первый патент на лампу с угольной нитью Эдисон получил через 7 лет после Лодыгина. Некоторые историки утверждают, что лампу Лодыгина Эдисону продемонстрировал морской офицер и изобретатель А. Хотинский в 1877 году. Это подтверждается словами ученого-электротехника М.А. Шателена на Всероссийском электротехническом съезде в 1910 году: «Близкий к кружку лиц, работавших с Лодыгиным над усовершенствованием лампы накаливания, лейтенант флота А.М. Хотинский… уезжая в Америку, взял с собой несколько образцов изготовленных в России ламп и показывал их Эдисону…» В 1879 году Эдисон не только подал заявку на патент, но и оформил иск с требованием прекратить производство таких ламп в Европе, но получил отпор. В США он действовал хитрее: дождался, пока истечет срок заявки Лодыгина на лампы с нитями из осажденного углерода от 14 сентября 1888 года (Лодыгину не хватило средств оплатить пошлины), а в 1890 году Эдисон получил патент на лампу с электродом из бамбука и тут же начал ее выпускать. В 1892 году Эдисон объединяется еще с двумя американцами и образует компанию General Electric Company, в том же году уходит оттуда, а в 1894 году продает свои акции, но остается там консультантом. В 1896 году General Electric заключает соглашение об обмене патентами с Westinghouse Electric. А в 1906 году Лодыгин продает свое изобретение – вольфрамовые лампы – General Electric, сооснователем которой был Эдисон. Вскоре промышленность всего мира начала производство лампы накаливания. Томас Эдисон ввел лампочки в широкое применение, поэтому мы знаем и помним именно его. Что интересно, больше всего Эдисон не любил говорить о Лодыгине. Эдисон за долгую жизнь не создал практически ничего принципиально нового, но многое усовершенствовал и, главное, запатентовал.
В 1907 году Лодыгин и семья вернулись в Россию. Приехал он с целой серией чертежей новых изобретений; у него были проекты изготовления сплавов, электропечей, двигателей, электроаппаратов для сварки и резки. Он начал преподавать в Электротехническом институте императора Александра III в Санкт-Петербурге, работал в строительном управлении железной дороги. И продолжал трудиться над главной мечтой жизни – электролетом. Довести задуманное до конца не довелось. Уже была создана модель, но, когда войска кайзера Вильгельма II прорвались через Прибалтику и Петроград оказался под угрозой, Лодыгин прекратил работу над фактически готовым образцом, вернул двигатели и важные запчасти Военному министерству, разбив остатки летательного аппарата, «чтобы он не достался немцам».
Февральская революция 1917 года также привнесла свои коррективы в жизнь изобретателя. Новую власть он не поддерживал, а материальные проблемы нарастали. Он снова уехал в США. На родине его не забыли – Александру Лодыгину в 1920 году прислали приглашение вернуться в РСФСР, чтобы поучаствовать в разработке плана ГОЭЛРО9. Приглашение он не принял по состоянию здоровья, а 16 марта 1923 года скончался в Бруклине в возрасте 75 лет. Незадолго до этого Александра Николаевича Лодыгина избрали почетным членом Русского Технического общества, но письмо с известием пришло слишком поздно, и он так и не узнал об этом.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе