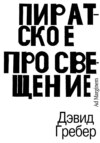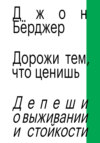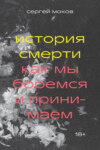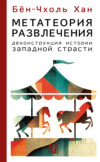Читать книгу: «Стоп, машина: наблюдения за тем, как Западная цивилизация подходит к концу», страница 4
(4) латентная гражданская война, которая, хоть она и не заметна, уже практически началась.
Размеры этой главы не позволяют мне уделить больше внимания тому, что только что было названо «латентной гражданской войной», оттого эта тема будет затронута в следующей главе.
В знаменитом труде Освальда Шпенглера Западная культура называется Фаустовской, ведь доктор Фауст является центральным персонажем наших средневековых легенд. Зная об этом, давайте припомним и сюжет выдающегося романа Томаса Манна (1875—1955) под названием «Доктор Фаустус». Адриан Леверкюн, главный герой этого романа, заключает договор с Дьяволом: тот даёт ему двадцать четыре года счастливой и продуктивной жизни в обмен на отказ от тепла человеческой любви. Нарушение этого истинно бесчеловечного условия приводит – или Адриан лишь воображает себе это – к смерти ребёнка. «Не торгуйся с Богом», – говорит еврейская пословица, а история Адриана Леверкюна убедительно показывает нам, почему и с Дьяволом тоже не следует торговаться. Мы не можем перехитрить этого «господина с острой бородкой». Всякий раз, когда мы нарушаем запреты, он приходит и забирает то, что ему принадлежит.
Если же роман Томаса Манна нам кажется слишком мрачным, мы можем вспомнить сюжет «Фауста» Гёте. Юная и очаровательная Гретхен нарушает существовавшее от века табу половой жизни до брака – что приводит её к убийству младенца, плода её запретной любви. Названного выше табу в нашей культуре больше нет, как и многих других. А при этом его отмена не сделала нас более гуманными, на что мы надеялись. В известном смысле слова эта отмена сделала нас менее людьми.
Горделивый цивилизованный человек Запада не боится никаких богов. Он давно устранил всех богов из области своего видения. Богов нет, потому и гнева их опасаться не нужно, думает такой человек. Рано или поздно жизнь докажет ему, что самый неистовый гнев богов лучше, чем их отсутствие. Боги или ангелы могут быть подлинно ужасны, но без них мы остаёмся со «Всё позволено» – выражением, которое обозначает конец цивилизации.
Традиция приписывает «Всё позволено» Теодору Драйзеру (1871—1945), американскому писателю. При разговоре о Драйзере невозможно не припомнить и его роман от 1925 года под названием «Американская трагедия», главный герой которого, вдохновлённый этой несчастной идеей своего создателя, совершает убийство по неосторожности, взяв свою невесту Роберту на прогулку по Большому Горькому озеру в лёгкой лодочке.
Хрупкая лодка нашей веры перевернулась, и нам приходится плыть в холодных водах нашего морального релятивизма. Самое время спасать Роберту, нашу некогда любимую Западную цивилизацию – но именно этого мы и не можем сделать. О предумышленном убийстве речи нет: мы всего лишь забыли её, позволяя утонуть и ей, и всем её трогательно-бесполезным безделушкам.
Воистину мрачная картина! Можно ли обернуть происходящее вспять? Можем ли мы спасти Роберту?
На этот вопрос отвечать не автору. Но, если уж предпринимать честную попытку спасения, нам следует принять со всей серьёзностью всё, что по праву принадлежит этой старушке, милой нашему сердцу: все её «смешные маленькие сокровища», которые она так берегла, когда была моложе, все нравственные запреты, которые наши предки брали на себя добровольно – которыми мы так долго пренебрегали и до сих пор продолжаем пренебрегать.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Нарратив
Проповедник, имя которого я бы не стал упоминать по личным причинам, однажды сказал: «Вы не можете жить без напряжения, будь им напряжение вашей веры или вашего атеизма». Применительно к современности это кажется очень точным.
Современный человек не желает более жить с напряжением, которое создавали культурные табу. Он считает, что находится выше запретов; он видит в них банальные суеверия. В итоге он сталкивается с огромным давлением новой идеологии.
Теперешние медиа-гуру не любят слово «идеология» так же, как они избегают называть западных миллиардеров олигархами. Покорность той или иной идеологии, говорят нам эти гуру, является мрачной стороной жизни внутри диктатуры, а демократии избегают идеологий.
Термин «демократия» в качестве самоназвания наших политических систем вызывает вопросы: хоть мы и привыкли к этому слову, теперешнюю политическую реальность оно описывает плохо. Впрочем, не будем спорить о словах. Философские споры о терминах – это роскошь, которую мы, вероятно, уже не можем себе позволить. Возможно, «идеология» в качестве термина тоже является плохим выбором, поэтому давайте назовём то, с чем мы сталкиваемся каждый день, современным нарративом – или даже просто Нарративом.
Может быть, «Новое Учение» или «Новая Доктрина» было бы ещё более точным определением: именно «Новая», а не «Тайная», в отличие от учения мадам Блаватской, ведь нам всем хорошо известны все «тайны» этой новой псевдорелигии.
Каковы самые важные послания, что стремится донести до нас Нарратив?
Ниже я попробую сформулировать некоторые из них: усилие несколько избыточное, учитывая, что каждый из нас, от школьника до пенсионера, всякий день слышит их по радио, читает их на экране своего сотового телефона, и так далее.
1. Лишь сельские дурачки в наше время считают, что биологический пол человека тождественен его гендеру. Может быть, вид homo sapiens и двупол, но гендерных идентичностей столько же, сколько звёзд на небе. Нет нужды говорить, что все эти идентичности и формы полового самовыражения нужно защищать, даже – и особенно – в случае детей.
2. Человеческая деятельность определённо вредит природе. Мы, люди, должны поэтому снижать добычу полезных ископаемых, заменив их потребление на использование «зелёных» источников энергии, уменьшать наш «углеродный след» и, в идеале, рожать меньше детей.
3. Права меньшинств всех видов священны – но всё ещё недостаточно защищены. Вот почему нам нужно приложить все усилия, чтобы обеспечить полную защиту этих прав и свобод.
4. Россия – враг человечества: страна, руководимая жестоким тираном, которого безрассудно поддерживает большинство россиян. Наша обязанность – противостоять ей, если мы не хотим, чтобы погибло всё, что нам дорого.
Вот они, краеугольные камни Нового Учения, явленные во всей своей бесстыжей откровенности (я едва не сказал «наготе»), бестрепетно ненаучные, очевидно неразумные, глубоко абсурдные, горделиво идущие войной на здравый смысл.
Я почти стыжусь опровергать их. Серьёзный анализ этих идей, вероятно, предполагает восприятие их с тем интеллектуальным уважением, которого они не заслуживают. Лишь ради своих юных читателей я собираюсь ниже потратить на каждое из этих идеологических огородных пугал целый абзац.
1. Гендер, говорят нам, является социальным конструктом. Гендер – это не наш биологический пол, а то, кем мы хотим быть и как мы хотим, чтобы нас воспринимали другие. Прекрасно, но зачем придумывать целый термин для того, кем мы хотим быть? То, кем мы являемся на самом деле, – часть реальности, а наши половые фантазии – если они у нас есть – это всего лишь элемент нашей внутренней жизни. Если же мы всё-таки настаиваем на том, что биология не является приговором и не имеет права определять, кто мы есть на самом деле, зачем останавливаться здесь? Отчего бы нам с достоинством не заявить, что наше положение в обществе, благосостояние или возраст тоже не определяют, кто мы есть на самом деле? Давайте в этом случае введём и понятие финансового гендера. Мы бедны, но считаем себя богатыми, следовательно, мы богаты. Будем же ожидать от других людей, чтобы они относились к нам как к богачам, а иначе обвиним их в том, что они неверно определили наш гендер. Мы молоды, но считаем себя старыми. Следовательно, мы стары, а все, кто полагает иначе, оскорбляют наши чувства. Мы сантехники, но считаем себя пилотами гражданской авиации. Значит, мы пилоты и должны работать именно ими. Первый самолёт, которым мы будем управлять, разобьётся, но разве нам не всё равно? Ведь биология не определяет, кто мы есть, и наша профессиональная подготовка или возраст этого тоже не определяет, и здравому смыслу тоже не давали слова.
Наши фантазии о том, кто мы есть, как бы они ни были терапевтически благотворны или духовно полезны, не могут быть поставлены на тот же уровень, что и реалии внешней жизни. У них, выражаясь философским языком, иной онтологический статус. Считать, что это не так, и принимать плоды воображения за факты является, хоть мне и неловко это говорить, признаком психического расстройства.
2. Всё, сказанное выше о принятии фантазий за реальность, в полной мере применимо и к сегодняшним «борцам за экологию». Растения и сине-зелёные водоросли производят кислород, для чего им нужен углекислый газ. (Звучит как чудо – но для того, кто прогуливал школьные уроки биологии, мир и вообще полон чудес.) Выбросы CO2 не вредят природе, ведь больше углекислого газа в итоге означает больше кислорода – конечно, до тех пор, пока мы, люди, не уничтожим все растения и все сине-зелёные водоросли, что человечеству пока не под силу.
Миллионы лет назад, говорят учёные30, уровень двуокиси углерода в атмосфере нашей планеты был куда выше сегодняшних показателей (возможно, оттого, что динозавры были гигантскими фабриками CO2, что, конечно, является всего лишь моим невежественным предположением). Как-то планета всё же пережила эти тяжёлые времена, ведь чиновники Евросоюза, контролирующие выбросы углекислого газа, в то время отсутствовали. И как только наши предки существовали без них?
3. Меньшинства любого рода заслуживают пространной цитаты из книги «Девять лекций о русской неклассической музыке» – книги, которая говорит о чём угодно кроме музыки больше, чем она говорит собственно о музыке, – за авторством Бориса Гречина (я уже представил его читателю в своём предисловии). Обращаясь к теме женщин-музыкантов в России, г-н Гречин внезапно поднимает вопрос меньшинств и «попадает в яблочко» – ну, или мне так кажется. Пусть читатели решают сами, так ли это.
Вам не так-то просто уважать права каждого меньшинства, потому что представители разных меньшинств не соглашаются о самом важном. Овца, например, обычно не одобряет гастрономических пристрастий волка, а волк не хочет мирно пастись на лугу. Возможно, вы посоветуете разделить эти два биологических вида, «жить и дать жить другим». <…> Так это не работает, потому что человеческое общество состоит из людей, взаимодействующих друг с другом, а не из самодостаточных индивидов. Мы «не живём в одиночку», <…> и мы всё ещё нужны друг другу. Мы не можем сделать свою собственную причёску, не в наше время; нам нужен для этого парикмахер – а что, если парикмахер откажется нам делать причёску для нашей свадьбы, потому что это гомосексуальная свадьба, от одной мысли о которой его, верующего человека, просто воротит? Мы не можем дать нашим детям образование на дому: во-первых, потому что у нас нет достаточного знания всех школьных предметов; во-вторых, потому что мы в качестве родителей – очень плохая замена одноклассников наших детей. Но при этом наше право дать детям базовые знания о множественности половых ориентаций явно противоречит праву религиозных меньшинств не давать таких знаний их детям. И наоборот, наше право учить детей катехизису явно нарушает право атеистических меньшинств держать их детей как можно дальше от религии. Вообразите, что вы в качестве директора школы имеете денежные средства для найма только одного нового педагога и таким образом можете позаботиться о нуждах лишь одного меньшинства, другие меньшинства вам придётся проигнорировать, может быть, этим оскорбив их чувства. Каков будет ваш выбор в этой воображаемой ситуации? Какую группу ваших учащихся вы посчитаете «более равной» среди прочих равных?
Дело не в простой необходимости совершить произвольный выбор – дело именно в том, что ваш выбор неизбежно будет произвольным. Для вашего выбора не существует надёжного критерия. Почему? Потому что гордое человечество сегодняшнего дня, так сказать, «справилось с Библией»: добровольно отбросило все прежние системы религиозных верований в качестве недостаточных, ошибочных или мракобесных. Возможно, эти системы и были обскурантистскими, но, «справившись» с ними, мы, человечество, остались без какого бы то ни было нравственного компаса. <…> Проблема – в том, что выбор из двух групп людей, если взгляды этих групп противоречат друг другу, – нравственный выбор: его нельзя сделать более правильным, применив мерила рациональности, прагматизма или эффективности.31
Возвеличивать права одной социальной группы [над правами всех прочих] разрушительно для общества, несправедливо и неразумно, говорит автор «Девяти лекций». Полностью с ним согласен. Но что, если мы оба ошибаемся? Что, если у защитников меньшинств есть свой «нравственный компас», пусть и сломанный?
Всем известно, что каждая культура стремится защищать самых ценных членов общества. Мы не удивляемся, когда узнаём, что средневековые священники оберегали честных христиан от колдунов, ведьм, еретиков и язычников или что большевики заботились о рабочих больше, чем о духовенстве, художниках или проститутках. Все мы в значительной степени определяемся тем, о чём (и о ком) мы заботимся.
Новое Учение заботится (или говорит, что заботится) об ограниченном числе расовых, этнических и гендерных меньшинств, которые якобы являются самыми уязвимыми жителями западных стран, о «проклятьем заклеймённых» – что, кстати, предлагает и первая строка «Интернационала», политического гимна, написанного в 1871 году Эженом Потье.32 Что за мировоззрение стоит за таким предпочтением? Может быть, необольшевизм? К этому вопросу мы вернёмся ближе к концу главы.
4. Мы можем недолюбливать или даже ненавидеть президента России сколько нам угодно (зачем бы нам это делать, с другой стороны?), но наша личная неприязнь ещё не делает Россию нашим цивилизационным противником. Россия – это консервативная культура из числа высоких культур, в своём развитии уже прошедшая точку, после которой её постепенное превращение в цивилизацию будет неизбежным. Пока же эта полукультура-полуцивилизация делает всё для защиты своих интересов – в безэмоциональной, прагматической и эффективной манере. Именно через призму этих интересов нам и нужно смотреть на последние политические события с российским участием, включая войну в Южной Осетии в 2008 году или текущие боевые действия на Украине. Территориальный рост России – верней, присоединение к ней регионов, которые некогда были частью Российской империи, – может, разумеется, вызывать у нас зависть, но эта зависть не должна мешать нашему пониманию того, что ни одно из российских геополитических начинаний нельзя назвать маниакальным, бредовым, неразумным или злобным по своей внутренней сути. В начале этого тысячелетия Россия всё ещё могла быть нашим партнёром; превосходным партнёром она бы и оставалась до сегодняшнего дня, если бы наши политические элиты в своей растущей близорукости не наклеили на неё в итоге ярлык врага или даже Единственного Врага.
Горделивые принципы Нового Учения, если рассматривать их через увеличительное стекло здравого смысла, теряют весь свой лоск. Они съёживаются, распадаются на отдельные бессмысленные слова. Беда в том, что нам не позволяют осмыслять эти принципы на интеллектуальном уровне. Бороться с ними с помощью логических доводов невозможно. Сама их иррациональность, бессмысленность – так и хочется назвать её глупостью – придаёт им дополнительный вес. Считать всерьёз, что большинство из нас искренне, всем сердцем верят в Современный Нарратив, попросту наивно. При этом заявлять, что на его принципы, с их мощной алогической магией, можно просто не обращать внимания, – ещё большая наивность. Не обращать на них внимания нельзя, ведь всякий, кто на Западе пренебрегает ими, быстро превращается в политического, научного, художественного и социального неудачника. Мы едва ли не чувствуем, как нас лишило воли некое заклятье. «Существо перед нами – всего лишь гадкий карлик», – вот всё, что мы хотели бы сказать, а при этом из нашего рта, скованного чьей-то ворожбой, исходит только: «Что за очаровательный молодой человек!» (Ситуация в гофмановском духе, нихьт вар?)
Попробуем теперь провести исторические параллели между сегодняшним Западом и Россией в тридцатые годы прошлого столетия – кто знает, не поможет ли это сравнение разрушить злое волшебство?
Ниже – лишь некоторые из неразумных нелепостей, в которые граждане раннего Советского Союза обязаны были верить или, как минимум, притворяться, что верят в них; неотъемлемые части раннесоветского нарратива.
1. Колхозы гораздо эффективнее единоличных хозяйств.
2. Капиталистический Запад – на последнем издыхании. Через несколько лет мощное пламя мировой революции уничтожит прогнившие западные режимы, не оставив от них камня на камне.
3. Промышленные рабочие – это ведущий класс или, говоря простыми словами, лучшие люди России. Именно об их нуждах, интересах и свободах нужно заботиться в первую очередь, даже ценой неудобства других классов. (И что же именно, расскажите нам, сделало интересы ограниченной и не такой уж большой социальной группы столь священными?)
4. Иосиф Сталин – умнейший, мудрейший, добрейший, лучший из всех людей, живущих на Земле.
Мы сделали бы большую ошибку, предположив, что все без исключения советские люди искренне верили в эти нелепости. Кто-то, бесспорно, верил в них, другие же – полагаю, немалое число – видели в них очевидную ложь. Важно было держать это знание при себе. Вы не могли сомневаться в официальном нарративе прилюдно: если вы публично подвергали его сомнению, вас проворно отправляли в те регионы, где рытьё земли на строительстве Беломорканала или лесоповал оказывались более жизненно важными занятиями, чем осмысление тех или иных идей.
Для гражданина Советского Союза в ранние годы существования страны заявить вслух о том, как он счастлив успехам коллективных хозяйств или достижениям в строительстве заводов, было идеологическим ритуалом – публичной клятвой верности сталинскому режиму. Западный школьный учитель, вынужденный рассуждать перед классом об «углеродном следе» человека, хоть он и находит идею смехотворной; инструктор восточных практик, который внезапно обнаружил, что организация ЛГБТ33-медитаций в его религиозном центре – это «святой долг»; священник, которому больше не позволяют прилюдно назвать гомосексуализм содомией, – все они тем самым приносят схожую клятву верности Новому Учению.
Мы больше не можем доверять нашим правительствам, потому что они предали нас или, как минимум, не сумели предотвратить то, чего никогда не должно было произойти. Мы живём в идеологической диктатуре, внутри режима, юные «бойцы» которого, эти новые красногвардейцы Запада, без устали несут свой караул, готовые всё время уничтожить нас в социальном смысле, внеюридическим способом «отменить» нас с той же лёгкостью, с которой давят муху. Старые добрые суды почти бессильны перед этими активистами: вы не можете сражаться с «общественным мнением» – с тем, что изображают таковым, – этим неуклюжим оружием. Как это всё случилось? Кто – наш новый Сталин?
Эта книга – не политическая брошюра. Я – не полемист и тем более не обличитель общественных пороков. Я бесконечно далёк от горестных воздыханий по поводу современной социокультурной ситуации. Я принимаю её, ведь это – единственное, что остаётся непредубеждённому мыслителю и исследователю. (Мои личные чувства в этой связи не должны беспокоить моих читателей: бестактно и неуместно превращать серию эссе в тоскливую жалобу.) Но, и приняв её, я продолжаю пытаться понять, отчего Западная цивилизация в наши дни превратилась в идеологическую, хоть ещё и не в политическую диктатуру.
Мой учитель однажды проницательно заметил, что две лисы в курятнике с десятью курицами всё ещё составляют меньшинство. Давайте вернёмся к «тирании меньшинств»: ситуации, при которой горстка людей – даже не социальный класс! – успешно определяет то, о чём говорят в обществе. Находятся ли в истории XX века параллели этой ненормальности?
Находятся. Ниже – самые значимые исторические примеры власти меньшинств.
1. Комитеты крестьянской бедноты в ранней Советской России.
2. Так называемые красногвардейцы, или хунвейбины (кит. hóng-wèi-bīng), в Китае во времена Великой Пролетарской Культурной Революции (1966—1976),
3. Этническое меньшинство хуту в Руанде в 1990-е гг.
Все эти параллельные феномены так или иначе являются следствием (в иных случаях латентной) гражданской войны, начавшейся в результате революции.
Два понятия выше и есть ключи, которые мы так долго искали. Западная цивилизация уже пережила культурную революцию. Её следствием является скрытая гражданская война, которая пока находится в инкубационном периоде, а мы все ещё просто-напросто не можем примириться с этой реальностью.
Ни одному жителю западных стран не следует питать иллюзий в отношении того, что прямо сейчас происходит с нашими обществами. Мы более не живём в «капиталистическом» мире (определение, которым широко пользовались наши идейные оппоненты) – мире, где достаточно было усердно трудиться и играть по правилам. Мы живём среди «новых бедных», «проклятьем заклеймённых» «Интернационала», которых постепенно превращают в новый правящий класс, заместителя элит; в идеологической диктатуре, что сознательно избирает в качестве культурного фундамента идиотические принципы, – иными словами, в идиотократии: обществе, которое формируется и поддерживается вульгарными, воинственными и инфантильными мещанами, цахесами наших дней, именно такими, как их описывает пророческая сказка Гофмана.
Последний, кто мог бы спасти нас от всеохватывающей тирании в духе Оруэлла, или от всеохватывающей войны, или от того и другого вместе, – это Бальтазар, который бесстрашно вырвет три огненных волоска Цахеса с их волшебной силой. Но именно здесь пророчество Гофмана, возможно, ошибается. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» – всего лишь сказка. Сказки обычно заканчиваются хорошо, и этим они отличаются от реальной жизни.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Я слегка отредактировал и сократил этот отрывок, чтобы сделать его более читаемым (прим. авт.).
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе