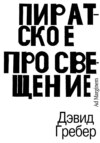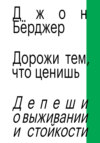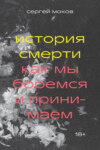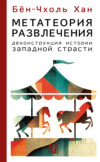Читать книгу: «Стоп, машина: наблюдения за тем, как Западная цивилизация подходит к концу», страница 6
4. Есть немало иронии в том, что термин «мем» был создан Ричардом Докинсом (род. в 1941 г.), знаменитым британским биологом-эволюционистом, который описывал мем в качестве фрагмента важной информации, частицы общего интеллектуального наследия, достойной сохранения. Современные Интернет-мемы – что угодно, но не такие частицы. Большинство, если не все из них, – обычный мусор в интеллектуальном, эстетическом и нравственном смысле. Их забывают через месяц, даже через неделю после того, как любой из них получит широкую известность, распространяясь от одного пользователя к другому подобно вирусу (или «завирусится», выражаясь современным языком). В какой мере получение дешёвого дофамина от разглядывания этого мусора (нечто, находящее свою параллель в поведении лабораторной крысы, которая раз за разом жмёт на так называемую кнопку удовольствия) должно считаться поведением ценителя искусства, является дискуссионным вопросом. (Простите за то, что не могу обойтись без известной доли сарказма.)
Наше «старое» искусство сбалансированной архитектуры, полифонической музыки, живописи со множеством оттенков и значимых историй съёжилось до размеров амёбы. Наше «новое» искусство процветает – но озабочено оно вовсе не нашей человечностью, и вовсе не сохранение нашего человеческого достоинства оно ставит своей целью. Это – инфантильное искусство, само существование которого доказывает старческую дряхлость нашей цивилизации. Это искусство – гадкий и надменный человек-мандрагора из мрачной сказки Гофмана, которым восхищается всякий, кому не под силу избавиться от колдовских чар. Придёт время, когда эти чары наконец рассеются.
А пока этого не случилось, мы можем пробовать сохранять и спасать от эрозии островки значимого искусства вокруг нас и наших близких. Каждый из нас мог бы стать современным Ноем, строителем небольшого ковчега, сложенного из хороших книг, достойных музыкальных сочинений, ценных фильмов и пр., способного не потонуть в океане вульгарной развлекательной продукции.
Разумеется, такой совет и ожидаем, и стар как мир, но, вопреки всему этому, он всё ещё имеет смысл. Проблема современности в том, что всякий, кто желает сохранять значимое искусство, восхищаться им, извлекать из него пользу, должен уметь это делать. Это умение не рождается само собой: его требуется развивать, прежде чем мы сумеем им воспользоваться. Оно приобретается с трудом, а теряется легко. Более того, современный западный мир сделал это умение избыточным, оттого его формирование становится непростым трудом, даже вызовом нашему дню.
Способны ли наши учебные учреждения справиться с этим вызовом? Об этом мы поговорим в следующей главе.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Образование
Есть нечто успокаивающее в том, чтобы начать новую главу, и притом очень сложную, с цитаты кого-то, кто вам дорог и вами любим. Такая цитата похожа на твёрдую почву под ногами, когда вокруг – враждебная местность. Вот наша твёрдая почва: два отрывка из «Цветочной пыльцы» (нем. Bluethenstaub) Новалиса, коллекции его мыслей, афоризмов и глубоких прозрений.
[№ 4. Любое] образовательное учреждение должно быть философским институтом, с одним-единственным факультетом, созданным ради последовательного развития умственных способностей студентов.49
[№ 28.] Высшая цель образования – позволить студенту полностью овладеть своим трансцендентным «Я», дать ему возможность стать «Я» своего «Я». <…> Мы никогда не поймём других, не научившись прежде понимать самих себя.50
Я искренне считаю, что ни один другой философ не сумел сказать лучше, чтό есть образование, – верней, чем оно могло бы быть в мире, свободном от войн, тираний, несправедливости и людского греха. Мне также огорчительно думать, что для нас, живущих в 2024 году, эти две цитаты кажутся безнадёжными анахронизмами, чему виной не только устаревшая орфография оригинала. Университеты с единственным факультетом, нацеленным на изучение философии, – что за утопическая, нереалистичная идея! «Своё трансцендентное “Я”, ну надо же! Поди-ка сообрази, как объяснить теперешним четырнадцатилетним подросткам, что это такое! Вот так хрупкие частицы цветочной пыльцы и давятся сапогом прагматизма.
Мы, люди Запада, больше не верим в то, что одной силы ума достаточно; что некто, наделённый счастливой способностью мыслить, сможет без труда приобрести нужные профессиональные навыки посредством самообразования. (Последняя идея – часть мировоззрения Гёте.) Нашим рынкам труда нужны специалисты, и они нужны сегодня, а не завтра. Образовательные системы наших стран до сих пор поставляют им этих недоделанных специалистов, которые до сих пор худо-бедно справляются со своей работой. Спрашивать, овладели ли эти люди своим трансцендентным «Я», почти неприлично: в конце концов, им за это не платят.
Потерпев, что очевидно, неудачу в достижении высшей цели образования, способны ли наши школы и университеты достичь более прагматических целей? На первый взгляд, да, но было бы безответственно закрывать глаза на множественные проблемы современного образования на Западе.
Ниже я приложу все усилия, чтобы описать некоторые из этих проблем, сопровождая мои описания небольшими комментариями о том, отчего та или иная проблема кажется мне столь серьёзной и почему она требует немедленного вмешательства. Многое из того, что будет написано дальше, уже находится в фокусе общественного обсуждения, и я это осознаю. Вот почему список ниже не следует считать каким-либо откровением. Это – всего лишь честная попытка среднего ума (такого, как мой) обозначить и рассмотреть самые важные камни преткновения на пути к новым знаниям в наших школах и вузах.
1. Сегодняшние школьники и их родители испытывают колоссальное давление соревновательности и необходимости быть успешными. От почти детей ожидают, что они сумеют получить бесплатное место в вузе или хотя бы просто поступят в вуз, оттого на их бедную голову обрушиваются уроки, уроки, ещё уроки, дополнительные занятия, занятия с репетитором. В итоге детство как феномен почти уничтожено. Детства больше нет. («Да и зачем им детство? – спросит старый ворчливый тип, кто-то вроде меня. – Всё равно у них не будет нормального детства, какое было у нас в семидесятые и восьмидесятые, когда мы ловили рыбу, играли на улице, бегали за девчонками и что там ещё. Они в любом случае бездарно растратят своё свободное время на компьютерные игры и похожие глупости».)
Я искренне полагаю, что соревновательность в учёбе естественна и даже благотворна. Беда в том, что современные школьники соревнуются вовсе не в усвоении базовых знаний или в глубоком понимании феноменов окружающего мира. Учителя и родители толкают их исключительно к демонстрации формальных учебных достижений, а это – совсем другое дело.
Я прошу своих читателей задуматься над тем, насколько вредно это занятие и почему именно оно вредно. Гений часто продвигается медленно, ведь качественная работа требует времени и сосредоточенности: по легенде, работа над «Моной Лизой» заняла у Леонардо да Винчи двенадцать лет. Посредственность может работать гораздо быстрее. А некто, кто и вовсе не думает, способен накапливать условные баллы быстрее всех остальных – вроде того, как геймер быстрее всех собирает условные золотые монетки. Давление, которому подвержены дети и их родители, не приводит к соревнованию между собой самых умных школьников – верно совсем обратное. Наши школы больше не поощряют развитие гениев – они даже не способствуют честным середнячкам. Сегодня они благоприятствуют людям, которые воспринимают свою будущую карьеру и личную жизнь как компьютерную игру и ждут не дождутся, как бы поскорей избавиться от всех «ненужных сложностей» взрослой жизни вроде философии, истинного искусства, религии, сострадания, достоинства, добровольного перенесения страданий ради благого дела, милосердия или целомудренной романтической любви. Всё это ужасает.
2. Освальд Шпенглер однажды сказал, что «всякий выдающийся творец в западной истории, от первого до последнего, стремился создать нечто, доступное лишь немногим».51 В отличие от античного, западное [высокое] искусство элитарно по своей природе: для воспитания вкуса к нему требуются усилия и время. Похоже, наши школы и вузы с какого-то момента начали считать, что формирование такого вкуса всё равно не стóит труда. Создаётся впечатление, что лозунгом современного образовательного подхода к нашей культуре является «Пашол нафег, Гёты» (название немецкого комедийного фильма, снятого в 2013 году Борой Дагтекином)52. Мы почти что избавились в образовании от нашего культурного наследия (любопытно, что Кхенпо Кьосанг Ринпоче, автор «Европы глазами снежного льва», обратил на это должное внимание ещё двенадцать или даже двадцать лет назад). Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что наши страны захвачены неким могучим врагом, который ожидаемо и последовательно устраняет из школьных учебных планов все следы нашей культурной идентичности. Но нет никакого завоевателя: мы делаем это сами. Мы напоминаем лилипутов, которые даже не пробуют захватить Гулливера в плен, потому что перестали его видеть. Мы более не видим гулливеров прошлого нашей культуры.
3. Развитие искусственного интеллекта (ИИ), основанного на нейросетях, представляет для нашего образования бо́льшую проблему, чем мы думаем. С помощью ChatGPT или иных подобных инструментов любой учащийся теперь способен дать правдоподобный ответ на любой вопрос учителя или даже создать целое сочинение – да что там, написать диплом почти без всяких собственных интеллектуальных усилий. Конечно, такой работе будет недоставать подлинного понимания или глубины, но педагог в наши дни должен оценивать вовсе не «подлинную глубину». В любом случае, не будете ведь вы «подвергать дискриминации» тех ваших студентов, что набрали нужное число баллов по формальным признакам? Или вы хотите, чтобы ваши учащиеся каждый день жаловались на вас начальству? Школы и вузы просто кишат интеллектуальными подделками, и виноваты в этом мы: мы перехитрили самих себя.
Уже предвижу возгласы энтузиастов, которые будут энергично внушать мне, что проблему решить легко: нужно всего-навсего заменить все письменные итоговые задания на устные экзамены – и этим роль ИИ в учебном процессе будет сведена к нулю. Да, это решение, но решение плохое. Я называю его плохим, поскольку культура Запада, в отличие от античной, – это культура Письменного Слова. Написание собственного текста развивает сосредоточенность; оно позволяет не только основательно изучить некую тему со всех сторон, но и способствует появлению новых интеллектуальных продуктов, которые мы не смогли бы создать, будь мы ограничены возможностями нашей памяти. Именно ценность исследовательской работы сейчас и уничтожается искусственным интеллектом, что сводит возможность оценивания студентов в лучшем случае – к оцениванию их похвальбы своим чисто древнегреческим красноречием, а в худшем – к бессмысленному оцениванию машинного продукта.
4. И учитель школы, и преподаватель вуза подчиняются своему начальству, и это делает их идеологически уязвимыми. Как ничто иное в нашей общественной жизни, школы и университеты пали жертвой Нарратива (см. шестую главу). Все нелепости Нового Учения, включая гендерную теорию, теорию об углеродном следе человеческой деятельности и пр., теперь преподаются школьникам и студентам, причём не в качестве теорий, тем более не как гипотезы, а как непреложные факты. Не укладывается в голове, что Запад, выстроенный на декартовской норме de omnibus dubitandum53, вдруг решил исключить горстку бестрепетно-ненаучных гипотез из числа того знания, которое дозволительно подвергать сомнению; что этому запрету обязаны следовать именно те, от кого по самой сути своей профессии требуется быть интеллектуалом, – а «быть интеллектуалом» в западном смысле слова означает возможность проверять на прочность любую теорию. Кто бы ни был ответственен за это, он должен понимать, насколько этот противофаустовский запрет на интеллектуальное сомнение подрывает философское основание нашей цивилизации.
5. Мы преподаём нашим детям всю пёструю палитру гендеров, которые являются лишь фантазиями других людей о том, кем бы те хотели быть: знание, без которого школьники могли бы и обойтись. А при этом мы перестали преподавать им нравственные нормы, иными словами, учить их тому, что такое – поступать хорошо и что такое – поступать дурно. (Может быть, мы и сами забыли это, не в нашей личной жизни, а как цивилизация?)
Тридцать лет назад обычный школьник мог бы почерпнуть знания о верном поведении как минимум в трёх местах, а именно:
– в семье,
– в приходской воскресной школе;
– в церкви с её воскресными проповедями.
Все эти возможности ныне почти исчезли. Большинство людей теперь не ходят в храм по воскресеньям54, а если и ходят, брать с собой детей считается дурным тоном. Да и существует некоторое различие между моральной нормой и религиозной догмой. Семья? Мне так и хочется воскликнуть: «Не говорите ерунды!» Мы даже не можем запретить нашим детям посещать уроки полового просвещения, а это просвещение в иных случаях включает в себя изучение орального секса, анального секса и мастурбации.55 Эта книга – не сборник проповедей, и её автор не собирается разбирать вопрос о том, грех ли мастурбация с точки зрения христианства, буддизма или любой иной религии. Данностью является то, что ряд верующих безусловно определяют мастурбацию как грех. И как же этим людям обучать своих детей основам нравственности, если одна только попытка сделать это может иметь юридические последствия?
6. Учитель на Западе перестал быть непререкаемым авторитетом – кем-то, кем он был во всех известных нам культурах. Если быть честными, иные учителя и не заслуживают того, чтобы считаться бесспорными авторитетами: в конце концов, они не учат тому, чтó есть добро, а чтó зло; они не обладают знаниями своего предмета из первых рук; они часто боятся говорить то, что думают и чувствуют, ведь этим могут «унизить достоинство» учащихся, после чего легко потеряют работу. Помня об этом всём, как видеть в них кого-то, равного Пифагору?
7. Возможно, именно наша неспособность преподать учащимся основы нравственности является причиной того, что новое поколение невероятно сосредоточено на себе. Сегодняшних детей и подростков нельзя назвать особенно грубыми, невоспитанными, агрессивными или зловредными – ничего такого нет. Они всего лишь эгоистичны в крайней степени, и их эгоизм – естественная часть их мировоззрения.
В «Докторе Фаустусе» Томаса Манна я наткнулся на очень интересное место, разъясняющее психологию опиумных наркоманов. Этот пассаж написан от их лица, исходя из их собственной логики. Вот он.
Жизнь сама по себе, бытие как таковое, животное существование, является бременем, низменной тяготой, а посему человек вправе освобождать себя от этого бремени, сбрасывая его, обретать свободу, лёгкость, некое бесплотное блаженство, даруемое шприцем с благословенной жидкостью, снимающей все невзгоды и муки.56
Что было верным в отношении дамочек-морфинисток в Германии в 1930-х годах, полностью применимо и ко всей сегодняшней западной молодёжи. Мне искренне кажется, что почти никто из них, рождённых в XXI столетии, не способен воспринять идею необходимости страдания. Представители нового поколения даже не хотят испытывать никаких неудобств, если без этого можно обойтись. Действительно: зачем страдать, если можно не страдать?
Осознав это, не забудем, что образование – это приобретение новых сущностных знаний, навыков, понимания или [мировоззренческих] установок, которых у нас не имелось раньше, проще говоря, становление кем-то, кем мы ещё не были. Это – по определению напряжённый, иногда и вовсе болезненный процесс. Подлинное образование в сравнении с чисто формальным не может поэтому обойтись без известной доли страдания, пресловутого «пота честного труда». Но этот честный пот новому поколению совершенно непереносим. Пашол нафег, Гёты! Не хочем и не могём57 мы слушать про добро, красоту и прочий отстой! Как насчёт того, чтобы пожаловаться директору, как ты пялился на девчонок, если продолжишь нудеть? Давай-ка пошустрей нам свои учебники, тесты, и иди гуляй!
(Замечу в скобках, что никакого противоречия между п. 1 и п. 7 не существует. Вы можете испытывать колоссальное давление необходимости показывать формальные образовательные результаты, но при этом по сути ничему не учиться. Геймер может быть так занят собиранием своих «золотых монеток», что ни на что другое времени у него уже не останется.
Похоже, сущностному образованию в западных странах настал конец. По экрану идут титры. То, что ещё остаётся, – это симулякр образования, и такой симулякр, который делает учащихся менее человечными и менее людьми, чем они могли бы быть.
Мои однообразные жалобы, вероятно, успели утомить читателей. Рискуя надоесть им окончательно, скажу, что мы, цивилизация Запада, предаём наших детей. Мы не исполняем своей обязанности по отношению к новому поколению, не делаем того, что делают даже львы и волки в отношении своих котят и щенят. А вот мы своих котят и щенят не учим тому, что у людей есть обязанности, а не только права; что избегание страдания любой ценой порой несовместимо с человеческим достоинством; что за Истину необходимо бороться; что выработку собственного мнения нельзя перепоручить искусственному интеллекту, этому псевдочеловеку. Мы превратили наших учителей в гофмановских щелкунчиков: вот они, лежащие перед нами со сломанной челюстью, измученные «крепкими орешками» и битвой с мышами и крысами, некогда – особи королевских кровей, теперь же – обычные поломанные игрушки для детской забавы. Мы надеемся, что рано или поздно жизнь сама научит молодых. Может быть, жизнь и научит их, а может быть, и нет. Но, если мы надеемся только на жизнь, зачем нам нужны наши школы и университеты?
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Религия
Предпоследняя глава этой книги обещает быть короткой, ведь религия на Западе давно потеряла своё значение. То же самое, конечно, верно и для искусства, но, в отличие от произведений искусства, религиозные объекты сложнее сделать предметом купли-продажи. Правда, настоящих деловых гениев это не останавливает…
Когда жизнь отлажена, когда она устойчива, как слон на его капитальных четырёх опорах, штуки вроде загробной жизни особого значения не имеют.58
Цитата выше, хоть её легко можно принять за отрывок из Шпенглера, в действительности взята из «Глотнуть воздуха», романа Джорджа Оруэлла, опубликованного в 1939 году.
Мне могут возразить, сказав, что веру навязывать нельзя, что, с другой стороны, мы, люди Запада, пользуемся такими религиозными свободами, о которых жители, к примеру, Северной Кореи могут только мечтать.
Это правда. В западных странах почти любой человек, отвечающий за свои поступки и не находящийся под опекой, имеет право:
– исповедовать любую религию или не исповедовать никакой,
– создавать новые религиозные учреждения,
– строить и освящать новые храмы и так далее.59
Всё же с последним предложением что-то не так, и я не имею в виду его грамматику. Сказав «Всякий имеет право…», мы практически отбросили идею коллективной ответственности за Церковь. Эта ответственность переместилась в область частных инициатив.60
Может ли религия быть сугубо частным делом? Вопрос бессмысленен постольку, поскольку на Западе религия уже стала почти исключительно личной заботой каждого. Национальные государства её не поддерживают. У неё нет никакого влияния на школы и вузы, кроме небольшого числа школ, созданных религиозными организациями. Она не участвует в нравственном воспитании дошкольников и школьников. Она почти не влияет на общественную мораль, включая отношение к табу, связанным с вопросами пола. Она бессильна перед Нарративом. Принимая всё это во внимание, отчего бы нам продолжать её считать общественным делом?
А, перестав быть им, религия перестаёт быть и частью нашей культуры. В конце концов, маленькое распятие и карманная Библия некоего христианина, который находится в деловой поездке где-нибудь в Саудовской Аравии, являются частью исламской культуры не больше, чем тайное употребление наркотиков является частью государственной системы здравоохранения.
Упомянув половые табу и исламскую культуру, я должен сделать два важных отступления, первое из которых касается секса в его качестве нового культа, а второе ислама.
1. Каждый из нас с содроганием наблюдает, что религия и секс в уме среднего жителя Запада поменялись местами. Культ секса61 прямо на наших глазах превращается в новую религию, которая, когда она окончательно станет на ноги, не потерпит никаких соперников, правда, её соперник, западное христианство, и так находится при смерти.
Даже и сегодня секс в чистом виде уже имеет многие черты новой всеобщей религии. Стόит задуматься над тем, что секс:
– открыто преподаётся в школах,
– обсуждается в обществе и является предметом общественного интереса,
– считается многими благим делом, едва ли не добродетелью,
– приобрёл почти что культовый статус,
– уже имеет своих служителей (порноактёров и порноактрис).
Чего не хватает, – это особых храмов секса, а после – избрания «патриарха секса» или иного подобного религиозного иерарха. Но и это всё через несколько десятилетий может появиться.
(У читателей способно сложиться ложное впечатление о том, что я пишу всё это в шутку. К сожалению, я совершенно серьёзен.)
Проблема с сексом в его качестве религии – вовсе не то, что сама идея отталкивает (хотя, разумеется, она является отталкивающей). Столь примитивный, архаичный культ, как секс в качестве высшей радости и святейшего права человеческого существа – а этому нас учит и Новая Доктрина, – просто не на уровне Фаустовского культурно-цивилизационного единства, по крайней мере, того, каким оно было раньше. Если же нас как цивилизацию теперь удовлетворяет элементарный культ, который даже иные примитивные народности посчитают слишком неприхотливым, это всего лишь доказывает нашу цивилизационную деменцию. Тем хуже для нас!
2. Всё, сказанное выше о религии на Западе, применимо к христианству, иудаизму, буддизму, малым и модернистским культам. Ислам является исключением: пока что он обнаруживает тенденцию к превращению в одну из новых религий Запада, может быть, даже в единственную его религию. Ислам постепенно начинает влиять на нашу повседневность, на нашу политическую жизнь, даже на наше образование.
Мишель Уэльбек (род. в 1956 году), современный французский писатель, в своём романе «Подчинение» от 2015 года представляет себе Францию, превратившуюся в исламское государство в результате президентских выборов, которые выигрывает мусульманин. Этот роман обязателен к прочтению – не из-за его литературных достоинств, а потому что описанный сценарий вполне реалистичен, даже если у нас ещё есть двадцать или сорок лет до того, как предсказание Уэльбека начнёт сбываться.
Должен сказать, что его пророчество меня совсем не радует, хотя секс в качестве нового культа меня радует ещё меньше. Мои личные чувства при этом значат мало. Я могу представить жителя Римской империи, рождённого около 300 года нашей эры (у меня есть для этого некоторые основания, ведь даже моя фамилия с немецкого языка переводится как «римлянин»). Едва ли такой римлянин был очень рад новому восточному культу Назарянина, который завоёвывал всё новых и новых последователей в его любимой империи. У нас для нашего огорчения причин ещё больше, ведь ислам в сравнении с христианством является богословским шагом назад. Для меня изучение ислама после христианства похоже на возвращение к арифметике уже после ознакомления с алгеброй. Тем не менее шаг назад лучше примитивного и вульгарного культа, который даже некие эскимосы отбросили бы с презрением. Если история предлагает нам лишь два выбора, я с неохотой, но голосую за второй.
Иные мои читатели на этом месте, вероятно, с раздражением захлопнут книгу, увидев в ней образчик происламской пропаганды. Я бы хотел, чтобы эти люди поняли, что ни автор, ни его книга не защищают ислам. Моё единственное стремление – это стремление к исторической объективности.
Сейчас, когда мои пространные и печальные отступления закончились, уже невозможно откладывать вопрос: разве христианство перестало быть цивилизационной альтернативой [названному выше]? С высокой вероятностью оно действительно перестало ей быть. Христианство оказалось «слишком хорошим», слишком сложным для нас. Мы больше его не достойны. За последние тридцать лет мы нанесли слишком много обид этой Золушке нашей поздней культуры. Золушка ещё здесь, она стоит на пороге. Но не будем обманывать себя: в течение какого-нибудь столетия, а то и гораздо раньше, она покинет нас и уйдёт к более гостеприимным нациям.
В предыдущем абзаце, разумеется, больше сентиментальности, чем правды. Сама длительность западной истории с Церковью в качестве активной общественной силы в этой истории ответственна за бессчётное число ошибок, совершённых духовенством. (Моим читателям не нужно думать, что, упоминая эти ошибки, я бросаю в кого-то камень. Я не имею права разбрасываться камнями, и в этой главе ещё будет сказано, почему.) Эти ошибки приводят – уже привели – к потере Церковью своего авторитета и своих последователей. Взрослый человек, совершивший ошибку, обычно пробует её исправить, не позволяя своим промахам накапливаться. Неспособность христианского духовенства на Западе должным образом осмыслить и перевернуть мрачные страницы церковной истории (такие, как насилие над мальчиками со стороны священников) можно считать признаком того, что мы как цивилизация впадаем во второе детство.
При всём при том ни в одной из сомнительных религиозных альтернатив христианству, что просматриваются в настоящее время, нельзя увидеть основу нашей культуры (ударение следует ставить на «нашей»), фундамент, на который встанет наша цивилизация. Они не имеют ничего общего с высшими проявлениями фаустовского начала. Ислам совершенно чужд нам и нашему характеру: ближневосточное некритическое подчинение набору жёстких нравственных норм и декартовское de omnibus dubitandum попросту несовместимы. Секс как культ – это, к сожалению, наш собственный продукт, выродившийся отпрыск нашей старческой нравственности. Если любой из двух названных победит и горделиво провозгласит себя новой верой Запада, наше цивилизационное единство перестанет быть, а на его место придёт нечто иное.
Дитрих Бонхёффер (1906—1945), немецкий лютеранский богослов и диссидент-антифашист, однажды заявил, что Церкви не следует заботиться о своём собственном выживании любой ценой, делая уступки этому грешному миру. Ей гораздо лучше исполнять то, ради чего она и существует: храбро защищать религиозные ценности, бороться с духовным злом и обличать грех в качестве греха. Лишь второе, согласно Бонхёфферу, позволит Церкви в итоге сохраниться, какие бы злые тревоги она ни пережила за всё это время, а вот первое приведёт её к бесславному концу. Осмысляя задним числом, какие большие жертвы христианская Церковь [на Западе] принесла Новому Учению (в частности, разрешив церковное благословение однополых союзов62, рукоположение ЛГБТ63-духовенства64 и прочее), мы не можем не спросить себя, не оказались ли мы глухи к важному предостережению Бонхёффера.
Автор этой книги должен сделать признание. Долгое время он являлся членом учёного совета буддийского колледжа, зарегистрированного в Великобритании. В 2020 году учёному совету обозначили «срочную необходимость» добавить в учебный план учреждения дисциплину под названием «Буддизм и гендерные проблемы». В ходе развернувшейся дискуссии я высказал свои сомнения и привёл аргументы против этого предложения. Мои аргументы, вероятно, оказались не столь убедительны, сколь они могли бы быть. Моим итоговым голосом по этому вопросу повестки дня было «воздержался» (а отчего же, интересно, не «против»?). Новый предмет был введён. Он всё ещё присутствует в нашем учебном плане (хоть и был понижен до курса по выбору), являясь самой бесполезной из всех наших учебных дисциплин, лишённой какой бы то ни было образовательной ценности. Я до сих пор считаю, что несу на себе часть ответственности за эту очевидную ошибку. Всё это было моим долгим способом пояснить, что предыдущий абзац не следует читать в свете критики христианского духовенства. Именно я, не кто-то другой, в конкретном случае оказался не способен действенно защитить ценности своей веры перед наступлением Нарратива. Я хотел бы, чтобы читатель обнаружил пафос моей книги в простой мысли: мы все повинны в том, что с нами происходит прямо сейчас, как и в том, что ещё произойдёт.
Эта страница выглядит как место, где уместнее всего поставить точку. Тем не менее, глава продолжается. Начав разговор о христианстве, я, наверное, обязан сказать и несколько слов о его западных последователях.
Крайне тревожно наблюдать, что из списка меньшинств, которых, согласно Новому Учению, нужно защищать любой ценой, исключено одно особое меньшинство, а именно верующие христиане. То, что верующие, последовательные христиане (в отличие от тех, кто просто родился в христианской семье) в западных странах являются именно меньшинством, доказывает статистика посещения церкви, с пятью процентами населения, еженедельно приходящими на службу, в таких странах, как Великобритания, Норвегия или Швеция (данные на 2015, 2011 и 2016 годы соответственно).65 Это явное меньшинство хунвейбины нашей культурной революции отказываются признавать таковым.
Религия исходит из естественного человеческого желания осмыслить Высочайшую Реальность и установить связь с ней, ради того чтобы нам стать более совершенными людьми, чем мы есть сейчас. Она становится частью культуры, когда целая нация разделяет это благородное стремление. В известном смысле слова именно религия делает нас более человечными.
Новое Учение своей явной враждебностью христианству – религии, бывшей нашим культурным фундаментом, – обнаруживает себя в качестве врага Запада. Противопоставляя себя чему-то, что делает нас лучшими людьми, оно также обнаруживает себя противником человечности.
«Полегче, полегче! – воскликнут иные из моих читателей. – Не будь смешон! Не хватает только написать слово “Враг” с большой буквы и сказать напрямую, что ты винишь во всём Сатану – автора всех козней. Что до “врага человечности” – кто это противостоит нам как человечеству? Может быть, некие пришельцы-ящеролюди?»
Новалис. Цветочная пыльца // Зет-библиотека [Электронный ресурс]. URL: https://de.singlelogin.re/book/1880951/0e14e2/novalis-bluethenstaub.html (дата обращения: 21 июля 2024 г.).
Там же.
Также см. Протестующие вышли в Брюсселе на митинг против обязательного полового просвещения [в школах] // Зе Брассэлз Таймс [Электронный ресурс]. URL: https://www.brusselstimes.com/681173/protestors-come-out-in-force-against-compulsory-sexual-education (дата публикации: 8 сентября 2023 г.).
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе