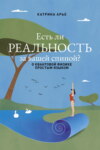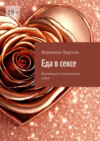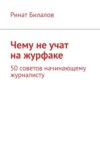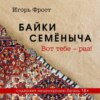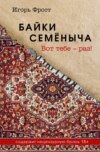Читать книгу: «Байки Семёныча. Вот тебе – два!», страница 4
Глава 4
Итак… Покончив с предварительным многословием, поясняющим, откуда пошли прозвища, вернемся все ж таки к нашему Богдану Мироновичу и к тому, как его славное имя в пасленовое наименование превратилось. И для того чтобы абсолютно понятно стало, отчего уважаемый человек картофельное имя получил и как это с вольнораспущенными дембелями связано, прежде всего нужно пояснить тем, которые пол имеют женский, а также тем, которым не повезло в армии послужить, кто такой «дембель» и что такое «дембельский аккорд».
Первый – это счастливый солдатик, уже оттоптавший просторы родной воинской части энное количество лет, но теперь по милости товарища министра обороны, а также волею его приказа об очередной мобилизации, где в самом укромном уголке прописано, что теперь и демобилизация возможна, форму с погонами все еще носит и по родному гарнизону вышагивает, но де-юре уже человеком гражданским считается. Счастью такого солдатика нет никакого предела и единицы измерения, потому как ждут его вскорости дальняя дорога к родному порогу, возможность ходить туда, куда ноги несут, и при этом совершенно без строя, а также возможность просыпаться по утрам самостоятельно, а не под радостные вопли дневального: «Рота, подъем!!!» Дневальные так радостно вопят, друзья мои, оттого что в соответствии с Уставом они, еще с вечера на боевой пост большой ответственности заступившие, всю ночь не спали и хрупкий сон своих товарищей старательно берегли. А теперь-то, в час, поименованный уставом «Подъем», имеют полное право этих, которые храпели тут всю ночь, понимаешь, разбудить, чтоб им жизнь сказкой не казалась.
Ну да ладно, я про дембелей…
Эти почти уже совсем невоенные люди своей будущей судьбе, конечно же, сильно радуются и прелести гражданской жизни изо всех сил уже вожделеют, но маленькая загвоздочка тут, как назло, все ж таки присутствует. Они, товарищи демобилизованные, радостей этих полным ртом только тогда зачерпнуть смогут, когда их непосредственные командиры своему собственному начальству доложат, что вот, дескать, теперь-то рядовому Иванову, а то и сержанту Гаврилову вновь призванная замена с гражданки прибыла и их, Иванова с Гавриловым, теперь к мамке на пирожки вполне отпустить можно. Ну а до того момента – ни-ни! Сиди себе, дорогой товарищ, приказом министра в гражданские люди назначенный, в родной казарме и хочешь не хочешь, а по старой армейской традиции жить продолжай. Ну, то есть служи себе дальше, сынок.
Вот тут-то как раз на свет Божий второе обстоятельство и выползает. «Дембельский аккорд» во всей красоте своей и беспринципности. Тут ведь как получается? Тут ведь так получается, что, полноценной замены с воли ожидая, можно в родной Советской армии еще месяца три переслужить, почти до следующего министерского приказа в казарме просиживая. Вот тогда – да, тогда отпустят и больше в армейской неволе держать не станут. Даже еще, может быть, и пенделя отеческого на КПП для ускорения выдадут. Лети, сокол ты наш ясный, в распрекрасную гражданскую жизнь и ни в чем там себе не отказывай! Но это же три, целых ТРИ месяца, в которые вместо карамелек замечательных, коими гражданская жизнь полна и насыщена, по-прежнему ноги в портянки кутать нужно и на завтрак строем ходить требуется, разудалые песни хором распевая. Это кто же такое выдержать сможет?! Да почти что и никто. Но спасение все ж таки присутствовало. Обязательно присутствовало! Во спасение и для значительного приближения горестного дня расставания с армией можно было со своим непосредственным командиром по душам потолковать и выяснить, что же такого, весьма важного и чрезвычайно ценного собственными руками сделать нужно, за что и армия облагодетельствованная, и непосредственный начальник, таким добрым поступком обрадованные, этого славного уже не солдатика больше удерживать не станут и волю ему таки выдадут. Вот такой вот поступок, как правило ручками на свет производимый, как раз и называется «дембельским аккордом».
Ну и вот…
Было так, значится, в стародавние времена, но не известно мне, как с этим теперь в современной армии, где все на откуп коммерческим фирмам отдано, дела обстоят. Теперь-то коммерсанты изворотливые, к армейским бюджетам присовокупиться желающие, за денежки армейские любую хозяйственную прихоть сотворят. Хоть тебе новых казарм понастроят, хоть банно-прачечных заведений и свинарников намастырят, а хоть и ракету стратегическую глазом не моргнув спроворят. Прямо вместе с тем, что в той ракете на месте прибытия взорваться должно, и спроворят. Во времена же Петькиной службы, да и пораньше малость, щедрой радости такой коммерциализации не было, и потому сообразительные командиры понимали, что в своем неуемном желании встретиться с отчим домом любой солдатик не просто горы, на пути возникшие, свернет, он их, эти горы, в порошок мелкий разотрет и по ветру, если сильно мешать станут, непременно развеет. Так ему, сердешному, домой хочется!
Так что отцы-командиры, у которых по хозяйственной или еще по какой другой части оставались вопросы незакрытые, эту энергию молодецкую в собственных интересах использовали. Не всегда с большим успехом, конечно же, потому как солдат, два года отслуживший, такой богатой смекалки и изворотливой хитрости ума набирался, что каша из топора для него – это так, плюнуть и растереть. Самая мелкая задачка на сообразительность. Так что любому солдатику, к дембелю изготовившемуся, смекалки и изворотливости благоприобретенных хватало с хорошим запасом на то, чтобы порученный аккорд исполнить с наименьшими затратами сил и в самые короткие сроки с большим успехом.
Поручи, допустим, в свое время Фердинанд де Лессепс нашим дембелям Суэцкий канал в виде аккорда прокопать, так они бы ни в коем случае одиннадцать лет в грязи ковыряться не стали, нет. Да и экскаваторов со взрывчаткой им почти не потребовалось бы. Три лопаты, шесть часов, и плывите себе, дорогие танкеры наливные и контейнеровозы пузатые, из Красного в Средиземное. Однако же по той причине, что нашими отцами-командирами при поручении прощальной работы материальные средства и производственная база, как правило, практически не выделялись, продукт, полученный в результате дембельского радения, не всегда оправдывал возлагаемые на него надежды и ожидания. Нет, ну в названии и внешнем виде почти всегда оправдывал, а вот в функциональной пригодности и последующем долголетии – практически никогда.
Тут едва ли не всегда и почти без всякого исключения с результатом этих прощальных работ история случалась ровно такая же, как со всем известной обезьяньей лапкой, самые заветные желания исполнявшей. Загадаешь себе у этой сушеной конечности «мильон денег», замок на Ривьере и жизнь бесконечную, загнет та пятерня свои скрюченные пальцы, и на тебе все как по писаному: живешь себе вечной жизнью в прекрасном замке и непомерному богатству радуешься. И все бы ничего, но только сильно та лапка от нашей Емелиной щуки, которая, почитай, за простой шанс сковороды избежать желания практически безвозмездно и без всяких дополнительных условий исполняла. Лапка та, от обезьяны неведомой породы полученная, как только до пяти своими пальцами сосчитает, так тут же расплату за предоставленные услуги со счастливого долгожителя взыскивать начинает. И расплата многократно больше, чем какое-то недоразумение в виде вечной жизни и квадратных метров, построенных в Средние века и потому существующих без парового отопления и центральной канализации.
Впрочем, если кому эта история с обезьяной и ее сублимированной ручонкой в деталях интересна, пусть сам одноименный рассказ, славным Уильямом Джейкобсом написанный, перечитает и в правдивости мною сказанного убедится. Я же сейчас не про приматов и иных, по деревьям ловко лазающих, я сейчас про то, что дембельские аккорды, исполненные вчерашними мальчишками, два года в армейском заточении пробывшими и домой не просто всей душой, но и каждой клеточкой своего тела стремящимися, результат приносили ровно такой, как та самая лапа от обезьяны: вроде все прилично и ровно так, как договаривались, но потом приходит расплата. Обязательно приходит. Так что бойтесь, отцы-командиры, лихих дембелей, свои аккорды приносящих!
В иллюстрацию этого утверждения вспоминается мне случай один.
Такой случай вспоминается, когда молодую энергию почти отслуживших «бойцов» и их же неуемное желание поскорее домой сбежать, войсковое командование в собственных интересах корыстно поиспользовало, а потом некоторое время в растерянности затылок расчесывало. Дело это в осенне-зимнюю призывную кампанию состоялось, когда по осени одних мальчишек в армию забирали, а других, которые уже два года честно отслужили, по домам распускали. Произошло это событие в Сибири, в окрестностях населенного пункта, расположенного много севернее зоны благоприятного земледелия. В дополнение к мирным жителям стоял там испокон века воинский гарнизон и, я на это искренне надеюсь, еще многие века там простоит, покой и благоденствие страны обороняя.
Ну так вот, командир одной из рот этого гарнизона, в звании майора пребывающий и при этом сильным частнособственническим инстинктом наделенный, воспользовался необъятными просторами родины в этой части глобуса и на окраине гарнизона себе огородик разбил. Небольшой такой огородик, складненький. Всего-то пару гектаров государевой землицы под собственные нужды и занял. Если честно, в тех краях даже с десяток гектаров в своих интересах умыкнуть – это все одно, как если в подмосковном Дмитрове под собственными окнами полтора квадратных метра муниципальной землицы под клумбу занять. Никто не заметит и возражать не станет. Для чего ротному такой огород в зоне рискованного земледелия потребовался, совершенно не понятно. По тем климатическим условиям, где этот чудесный край расположился, не только помидоры с патиссонами, но и картошку со свеклой сажать вполне себе рискованно. Это не просто зона рискованного земледелия, нет, это зона почти что полного отсутствия земледелия. А он – два гектара! Ну да ладно, не суть… Была такая возможность, вот и присовокупил бравый военный к своей неучтенной собственности дополнительный кусочек земли, на котором две деревни при желании разместить можно было бы. Присовокупил и в каждое короткое лето туда всей семьей на трудовую повинность согбенного дачника выезжал, в том неимоверное удовольствие получая.
Но со временем начал задумываться майор о том, что земельная собственность, не обнесенная надежным забором, теряет всякий флер и красоту, а также рискует оказаться в руках еще какого-нибудь землепашца в погонах, решившего, что раз забора нет, значит ничье. А раз ничье, то брать не просто «можно», а даже «нужно». Заселилось это крамольное опасение в майорской голове и не давало ему спокойно кушать в обед и спать по ночам. Мучило и терзало яркими картинами о том, что вот прямо сейчас ползет по его землице какой-нибудь капитан Захарьев и, радостно улыбаясь, его родимые сотки в свою капитанскую собственность захватывает. И вздрагивал майор, просыпаясь посреди ночи, а потом, придя утром на службу, с подозрением и даже некоторой ненавистью косился на Захарьева, спинным мозгом чувствуя, что замышляет капитан. Совершенно точно – замышляет!
В конце же концов, устав от болезненных терзаний в ожидании горькой утраты, майор решил закрыть вопрос раз и навсегда. Забор он решил поставить. Ну не вкруг всего участка, конечно же, а хотя бы там, где Захарьев и иже с ним частенько по кустам шастают и чего-то там выискивают. В общем, в тех местах, где живой люд частенько прохаживается. На надежное каменное сооружение майорского денежного довольствия, конечно же, не хватало, а ждать, когда, до генерала дослужившись, деньжат побольше получать можно будет, у него времени не было. Потому, потратив почти месячный доход семьи, накупил майор березового пиломатериала, из которого, собственно, возводить забор и запланировал. Штакетины и рейки блестели свежими спилами и пахли непередаваемым ароматом еще совсем недавно живого дерева. Свалив пять кубометров березовых палок на ближнем к дороге краю своего необъятного участка, майор осознал, что с задачей ограждения родимой пашни он в одиночестве будет справляться ровно до пенсии. Это было очень долго, и ему не понравилось. Нужно было срочно что-то придумывать.
И в этот момент очень удобно приспело время очередного дембеля. Приспело оно как раз к моменту горестных раздумий майора о том, как же долго он будет эти палки в землю втыкать и друг к другу приколачивать в надежде крепкое заборное сооружение получить. И тут, ну это же просто праздник какой-то, очень удачно вышло так, что целых двадцать пять здоровенных лбов, два года на армейских харчах себе морды отъедавших, теперь в его подчинении дослуживают и в нетерпении копытцами землю роют, домой аж бегом бежать готовые. Только отпусти! «А что? И отпущу. Отпущу как миленький», – подумал майор и радостно потер руки. «Только пусть для порядку, чтоб дембельский аккорд как положено исполнить, забор огородный построят и мне потом его во всей красе предъявят», – еще раз подумал майор и пошел отбирать заборных строителей.
Заработать скорый отъезд в сторону отеческого дома ударным строительством забора набралось с десяток пламенно желающих. Набралось и на место возведения заградительного сооружения строем выдвинулось. Но вот что важно сказать, друзья мои, места те в начале ноября по своим климатическим прелестям совсем не курорты Краснодарского края в середине августа, а промерзшая березовая рейка – это вам не липовая планка, в которой дырку пальцем проковырять можно. Береза, если вдруг кто не знал, дерево не самое мягкое. Я даже больше скажу, древесина ее, березы этой, как раз одной из самых твердых в науке считается. Она, береза эта, по твердости своей не сильно дубу мореному уступает, и почему майор именно березы на забор закупил, а не елки какой-нибудь, еще одна загадка, на которую у меня ответа не имеется. В любом случае березу майор купил, и из нее, родимой, огородно-дачный забор дембелям возводить предстояло. Без выбора и вариантов.
Однако рейки березовые, на десятиградусном морозе с пару недель пролежав, к своей обычной плотности и прочности еще и гранитную крепость замерзшей в них влаги прибавили. И теперь, ударь кто-нибудь по ним молотком, звенели они, совсем как кусок стального рельса. Такими забронзовевшими рейками легко можно было в рыцарском турнире биться или мамонта по голове до смерти с одного удара зашибить. Сталь и чугун, а не березовые палки! Понятно, что по этой причине вбить в такую штакетину гвоздь или шуруп какой-нибудь закрутить можно было, только если в ней предварительно победитовым сверлом отверстие насквозь просверлить. А по-другому никак. По-другому гвозди гнулись, звенели и отлетали в сторону, а дрели и шурупов у бойцов попросту не было. В такой патовой ситуации задача виделась неразрешимой, и любой другой человек, суровых будней срочной службы не прошедший, на то, чтобы духом пасть и мыслями прокиснуть, все права имел бы. Ну как, посудите сами, промерзшие рейки одну к другой приколачивать, если в них гвоздь ни под каким видом забиваться не желает? Но на то солдат и есть солдат, чтоб трудности всякие успешно преодолевать и решение тем задачкам находить, с которыми в гражданской жизни еще не всякий даже встретиться сможет.
Вспомнив о мокром языке, который к железной дверной ручке в мгновение ока прилипает лучше, чем клеем «Момент» приклеенный, решили бойцы огородного фронта поставить живительную влагу на службу человечеству. Ну то есть конкретно себе и майору-землеосвоителю. Сгоняли быстренько в солдатскую столовую за огромным алюминиевым чайником, из которого во время приема пищи два десятка солдатиков чаю напиваться умудрялись, пустили несколько штакетин на жаркий костерок и, наполнив чайник снегом, через некоторое время получили прекрасную альтернативу гвоздям и шурупам.
Ну а далее все пошло как по писаному.
Выливаем, значится, немного горячей водицы на места будущего соприкосновения штакетины с горизонтальной рейкой, молниеносно прижимаем ту штакетину к рейке и ждем пару-тройку минут, произнося про себя известное всему миру заклинание: «Сим-салабим, абра-кадабра!» Мороз-воевода горячую воду быстренько переводит в ипостась твердого агрегатного состояния, крепкого, как сталь, и «Вуаля!»: штакетина намертво примерзает к предназначенному ей заборостроителем месту. Ближе к вечеру и по истечении одиннадцати чайников алкаемое майором фортификационное сооружение, а по-простому – забор, гордо возвышалось над горизонтом, надежно отделяя майорский надел от ничейных просторов.
Радости военного фасендеро не было никакого предела. Забор! Как есть замечательный забор! Да так быстро. И, главное, ровненько-то как! Залюбуешься. И даже гвоздей почти полное ведро осталось. В общем, заслужили, дорогие товарищи дембеля, оперативную выписку со службы и скорую встречу с домашним очагом. Всенепременно заслужили! Ну а раз заслужили, то тут все по-честному – отпустил майор бывших подчиненных по домам с теплыми воспоминаниями о совместной службе в сердце и прекрасным, свежевозведенным забором в личном пользовании. Отпустил и огородные мечтания до будущей весны отложил.
Ну а по весне наступил час истины. Как только солнышко температуру окружающей среды до положительных значений довело, рухнул тот забор оземь, практически одновременно всеми своими штакетинами и рейками глухой стук произведя. Разве что только столбики стоять остались, которые тогдашние дембеля, а теперь уже гражданские лица, той глубокой осенью кое-как в мерзлую землю вколотить умудрились. И пока майор в растерянности метался и березовые палки в кучки собирал, надеясь новый забор соорудить, пронырливый капитан Захарьев, вот ведь выжига, у него половину гектара все ж таки умыкнул.
Да-а-а…
Но что там рейки и мерзлота, товарищи дорогие? Что там солдатики, лично мне совершенно незнакомые? Немного вперед забегая, скажу, что такой аккорд, как этому и положено, по истечении двух служебных лет нашему Петьке в том числе исполнить поручили.
«Иди, говорят, и делай. А то поедешь домой, славный кодировщик, не в октябре месяце, сразу после того, как уважаемый товарищ министр обороны тебе подобных демобилизовать прикажет, а под самый занавес декабря, когда уже первые нетрезвые граждане по улицам шляются и Новый год радостно встречают». Так себе перспективка, это всякому понятно. А они, которые про «иди и делай» уже высказались, будто этого мало, новые неприятности рассказывать продолжают: «И вот если не хочется тебе, Петька дорогой, по сугробам домой возвращаться, пару лишних месяцев в гостеприимных рядах ВС СССР переслужив, иди и сделай, предположим… Ну-у-у-у… Скажем… О! Пожарный щит с ящиком для песка и всем причитающимся пожарным инвентарем у самого входа в штаб вынь да положь! А как только вынешь да положишь все, только что тебе продиктованное, так сразу и домой дуй, товарищ дорогой. С чистой совестью и верой в светлое будущее». Это Петьке не иначе как сам начальник штаба приказать изволили.
За долгих полтора года совместной службы так и не смог Петька с начальником штаба общего языка найти, потому и придумывал тот для Петьки финальное служебное поручение в долгих и мучительных размышлениях. Ну прямо как царь-батюшка, который некогда на стрелецкую жену вожделеющий глаз положил и все никак не мог придумать, куда и за какой надобностью ее благоверного понадежнее в командировку заслать, чтобы самому, значится, в адюльтерные отношения со стрелецкой супругой впасть. Ну в итоге у обоих, и у царя, и у начальника штаба, вроде как получилось. Царствующая особа про «туда, не знаю куда» и про «то, не знаю что» под напором нахлынувших гормонов удумала, а начальник штаба, не сильно в географии преуспевавший, в фантазиях своих дальше пожарного щита не продвинулся.
Но и щит, если взять в расчет реалии, в которых Петька службу заканчивал, тоже задачей не архипростой выглядел. Дослуживал Петька в небольшом гарнизоне, который свое расположение в жарких прикаспийских степях раскинул, и чтобы там на каждом углу доски ненужные да багры с ведрами и топорами пожарными валялись, так нет, там такого точно не бывало. Не имелось в Петькином распоряжении бесхозных пиломатериалов и пожарных девайсов. А начальник штаба знай себе стоит и, ишь ты, морда золотопогонная, во все зубы улыбается. Улыбается и пальцем в ничем не занятый пятачок у штабного крыльца тычет: «Вот тут, мол, на этом самом месте, друг мой Пётр, ежели сильно пораньше домой попасть хочется, изволь к утру щит пожарный во всей его алой красе предъявить. И смотри ж мне, чтоб песочек в коробе обязательно чистенький и без окурков был! А иначе все! Иначе не приму такой бездарной работы и замусолю тебя, харю ленивую, в рядах ВС СССР до самой твоей пенсии, а то и до самой гробовой доски. На веки вечные то есть».
Высказался начальник штаба про щитовую задачу, на каблуках начищенных развернулся и в свой родной штаб торжественно ушел. И что вы себе думаете? Загрустил наш Петька и встречу с домашним очагом в туманное и неопределенное будущее переносить начал? Да ни в раз! Нормального солдата во все времена служба такой сообразительностью и умением круглое переносить, а квадратное перекатывать наделяла, что нерешаемая задача забесплатно кубометр досок посреди засушливой степи найти – это так, мелкое недоразумение. Задачка про «два плюс два». И не задачка вовсе, а так, разминочка смекалки и сообразительности. Справедливо это утверждение и в отношении Петьки нашего. Приказ начштаба внимательно выслушав, репку, за сто дней до приказа до зеркального блеска выбритую, почесал, два раза «м-да-а-а-а…» в задумчивости протянул и в конце концов, широко заулыбавшись, куда-то вглубь гарнизонных сооружений галопом умчался.
В конечном счете и трех дней не прошло, как порученное противопожарное сооружение стояло на отведенном ему начштабом месте. Наскоро сколоченный из планок овощных ящиков, коих на продовольственном складе было в избытке, и прапорщик, за тот склад отвечавший, только порадовался, когда Петька часть ненужной тары в неизвестном направлении уволок, блестел ярким кумачом свеженькой краски, добытой в гараже гарнизонного автохозяйства. Краской поделились такие же дембеля, на тот момент исполнявшие свои собственные трудовые повинности и оттого отнесшиеся к чаяниям Петьки с чувством и пониманием. Противопожарный инвентарь, умыкнутый Петькой в нужном количестве и ассортименте с других пожарных щитов, также свежеокрашенный в цвета Октябрьской революции, дополнял собой радостную картину полной готовности к пожарным неприятностям. Была, правда, у Петьки небольшая сложность с огнетушителем, но и его Петька добыл, выменяв на литр клея ПВА у двух братьев-дагестанцев, сосланных для бессменного дежурства на дальний посадочный привод по причине их суровых и неуживчивых характеров. И даже песок в ящике был кристально чист и стерилен, словно только что привезли его с белоснежного пляжа Анс-Лацио на Сейшелах. Ровно таким, как допрежь начальник штаба возжелал.
По-настоящему не повезло только со столбиками. По всем требованиям инженерной науки для того, чтоб тяжеленный щит мог на себе ведра, ломы и огнетушители надежно держать и при этом на пару метров над землей возвышаться, должны столбики, к которым такой щит прикручивается, из трубы стальной делаться и никак не меньше трех метров в длину быть. Так, чтобы, надежно в землю на метр углубясь, потом два метра, наружу торчащих, на протяжении долгих десятилетий всему миру демонстрировать. Петьке же столбиков длиннее, чем «два с хвостиком», добыть ну никак не удалось. «Хвостик» одной трубы составлял чуть больше сорока сантиметров, а у второй и вовсе до тридцати сантиметров недотягивал. Задачу по вкапыванию это, конечно, сильно облегчало, но надежности и устойчивости пожарному щиту не придавало вовсе. С таким неглубоким залеганием фундамента противопожарное сооружение не грохалось оземь лишь по причине безветренной погоды и еще потому, что Петька привязал его к тяжелому ящику с песком жесткой сталистой проволокой. Проволоку Петька также покрасил в красный цвет. Для порядка.
Удовлетворенный начальник штаба, похлопавший по огнетушителю ладошкой для проверки его подлинности и поковырявший ногтем овощные доски в тех же целях, подписал-таки Петькины бумаги на увольнение, и тот радостно убыл в родные пенаты. Ну а позже, когда начался сезон штормов на Каспийском море и мощные, напоенные соленой влагой ветра долетали до гарнизона, почти не утратив своей силы, Петькин пожарный щит все ж таки рухнул. И вот что самое интересное: рухнул он именно на начальника штаба, который в тот момент за ним от ветра прятался и табачные изделия курил, сбрасывая пепел и окурки в приснопамятный ящик с песком. Придавленный противопожарным сооружением и сильно ушибленный красным ведром в самоё причинное место, начальник штаба орал недуром и обещался Петьку найти и самолично расстрелять. Но все это уже было лишь пустыми словами и никчемными угрозами…
К чему я все это? А к тому, чтобы истинная причина, по которой уважаемый прапорщик Загоруйко вдруг Картофаном стал, всякому ясна и понятна стала.
Случилась эта нарекающая история не осенью, как это с заборным майором произошло, а как раз наоборот – в весенний призыв и, соответственно, весенний же дембель. Загоруйко, как я уже и говорил, к солдатикам относился с некоторой теплотой душевной и отеческой строгостью, но и он не избежал того, чтоб дважды в год от увольняющихся мальчишек исполнения трудовой повинности требовать. С волками же жить – по-волчьи, стало быть, выть. Ничего Загоруйко супротив всеармейского правила о прощальной работе поделать не мог. Ну, ведь не просто же так их, лбов здоровых, домой отпускать, в самом деле?! Обязательно чего-нибудь потребовать нужно! И отчего, скажите на милость, не потребовать, если уж так испокон веку заведено, а они, морды отъевшиеся, под ногами крутятся и сами на «дембельский аккорд» напрашиваются. Ну не совсем же он глупый, он же прапорщик. А прапорщики – это центр мыслительной изворотливости и хитрой сообразительности всех Вооруженных сил. Так что, не сильно радея за штабное имущество, как это Петькин начштаба делал, а больше к улучшению собственного хозяйства стремясь, решил Загоруйко весенние работы на своем приусадебном участке так провести, чтоб ни ему, ни жене его спины ломать и три ведра пота проливать не пришлось.
Ну и вот…
Собрал Загоруйко вокруг себя шестерых дембелей и говорит: «Ровно как огород вскопаете и картошки мне на нем по всей поверхности высадите, так в тот же миг и свободу гражданскую обретете. А дотоль, пока корнеплодов в землю не зароете, про дальнюю дорогу забудьте, потому как о мамкиных пирожках да разгульности гражданской вы аж до самого июля в родной казарме мечтать будете. Аж до самого до тридцатого июля, понимаешь!»
То есть, если вещи своими именами называть, потребовал Загоруйко от дембелей свой собственный огород в его частнособственнических интересах вскопать и картошку в персональных нуждах его семьи высадить.
Парни те славные, пока к ним Загоруйко со своей аграрной идеей не пристал, по гарнизону без дела слонялись и уже во всех красках себя не совсем трезвыми в поезде на пути к дому предвкушали. И тут на тебе: иди и сажай личную Загоруйкину картошку, а иначе домой никак не раньше, чем к новому урожаю яблок приедешь! Нет, они, конечно же, против прощального салюта в честь родной войсковой части совсем не возражали, если уж порядок такой. Они даже ремонт какой в казарме или штабе по-быстрому спроворить полностью готовы были. А то и нужник, если потребуется, на вертолетной площадке соорудить. Но так, чтобы их, заслуженных дембелей, парней гордых и уже практически вольных, взять да в собственных нуждах поиспользовать?! Как первогодок зеленых?! Это же уму непостижимо! Где же такое видано, товарищи дорогие, чтобы дембеля, соль земли солдатской, лопатами в плодородном слое ковырялись и, как духи бестелесные, офицерские корнеплоды для размножения в грунт зарывали?! Да никогда же такого не бывало! Это же позор и унижение, как ни крути. Стыд и позор!
Ну вот от этих стыда и позора и обозлились дембеля на Загоруйку.
Обозлились, но аграрный «аккорд» таки сделали! Вышли вшестером, лопатами заточенными и лицами одухотворенными вооруженные, в ладони поплевали погуще и ну давай землицу азербайджанскую рыть и пот с раскрасневшихся лиц смахивать. Рыли и сажали, сажали и рыли от самой утренней зорьки до полного захода солнца. И огород, говорят, образцово-показательный получился. Ни травинки тебе, ни соринки. Каждый комочек земли, что покрупнее грецкого ореха, в мелкую пыль вручную размололи. Всякую растительность, которой на огороде быть не полагается, не просто из земли вырвали, но еще и до самых кончиков корней докопались и в буквальном смысле слова искоренили. Всякий камешек, который почвой по своим физическим характеристикам не являлся, тщательно отобрали и с огорода вынесли, большую кучу гравия на огородной границе соорудив. А грядки, пользуясь длинным шнуром, из казармы принесенным, спланировали так ровно, что по ним, по грядкам этим, можно было бы колонны торжественного парада в честь Дня Победы или очередной годовщины Октябрьской революции выстраивать.
В общем, красота получилась несказанная, а не огород. Ну и картошку, конечно же, высадили. Все двадцать ведер семенного фонда, что Загоруйко им самолично привез, высадили и пустую тару прапорщику в целостности и сохранности возвернули. Посмотрел на все это растроганный Загоруйко, отческую слезу пустил и в умилении душевном, а также в радости телесной парней к дому с миром отпустил. «Езжайте, – говорит, – сынки, с Богом! А я уж, – говорит, – тут трудов ваших не подведу и по осени урожай „сам десять“ собрать обязуюсь». Парней три раза просить нужды не было, и, радостному прапорщику глубоко здоровья и семейного счастья пожелав, разъехались бывшие военнослужащие по родным домам уже на следующий день.
Ага. А Загоруйко наш, значит, в своем приусадебном вагончике сидит, в окошко за этой волшебной красотой наблюдает и прекрасных всходов свежей ботвы с нетерпением ждет. И не подвели они, всходы эти. В положенное время дружно на свет Божий свежей зеленью поперли. Но как-то не совсем привычно поперли. Не по всему огороду ровным зеленым ковриком, как это на пасторальных картинках рисуют, а почему-то только в середине огорода небольшим зеленым островком проклюнулись. Загоруйко поначалу подумал, что это некая особенность ирригации и специфика солнечного освещения его приусадебного хозяйства. Так, согласитесь, бывает. А может быть, оттого все это, что питательные вещества под землей не совсем равномерно распределены или, скажем, поля магнитные свою плодотворную роль играют, и потому именно в самом центре картофельная природа первой ожила. Ну так в том же ничего страшного! Нужно просто по краям огорода водичкой полить как следует и еще пару дней подождать.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе