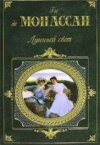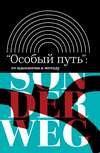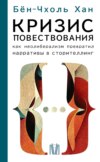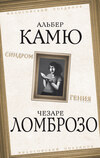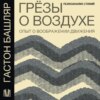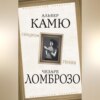Читать книгу: «Земля и грёзы воли», страница 5
Глава 3
Метафоры твердости
Что такое остролист? – Ярость земли.
Эмиль Верхарн, «Апрель» // «Двенадцать месяцев»
I
Чтобы как следует отличить проблемы воображения от проблем восприятия, а впоследствии показать, как воображаемое повелевает воспринимаемым,– чтобы тем самым отвести воображению место, причитающееся ему в человеческой деятельности, а именно – первое, из всех слов трудно найти более подходящее, нежели слово «твердый». Если учесть все факторы, твердость, несомненно, окажется объектом совсем немногих действенных переживаний, а между тем она служит источником бесчисленного множества образов. При малейшем впечатлении твердости одушевляется своеобразный воображаемый труд:
Стоит лишь прошептать слово «твердый», как воображаемый молот, молот без хозяина из стихов Рене Шара75 будет работать, попав в праздные руки. Словом «твердый» мир выражает свою враждебность, а в ответ начинаются грезы воли.
Слова «твердый»76 и «твердость» фигурируют как в суждениях о реальности, так и в моральных метафорах, тем самым попросту выражая две функции языка: передавать точные объективные значения, а также навевать более или менее метафорические смыслы. И, начиная с первых взаимодействий между разбухающими образами и ясным восприятием, именно образы и метафоры способствуют приумножению смыслов, их осмыслению. Почти всегда слово «твердый» свидетельствует о человеческой силе, служа знаком гнева или гордыни, а порою – презрения. Это слово не может спокойно пребывать в вещах.
Но, верные нашему привычному методу, согласно которому за общефилософские темы необходимо браться, лишь имея точно определенные случаи, сразу же приведем пример, где весьма простое восприятие, не отходящее от рисунка и форм, сразу же затопляется целым морем всевозможных образов, в которые незаметно проникает моральная жизнь. Этот пример мы заимствуем из книги д-ра Вилли Гелльпаха:
Когда мы говорим об узловатом дубе, мы не только думаем о реальных узловатостях, каковые могут иметься на ветвях, но и хотим обозначить идею упрямства, внушаемую этим образом относительно того, что касается человеческого характера. Тем самым образ, отправной точкой которого служит дерево, после транспозиции ради обозначения психологических особенностей человека вновь возвращается к дереву77.
Иначе говоря, слово «узловатый», представляющее собой всего-навсего форму, обязывает к непосредственной сопричастности человеческому. Мы можем понять слово «узловатый» не иначе как затягивая узел, как делая материю более твердой, как свидетельствуя о воле к сопротивлению смягчающим ее слабостям. Эту-то транспозицию в сторону человеческого мы и собираемся подробно изучить, исходя из узкой объективной основы. Пристально рассматривая точки сцепления реальности с метафорой, мы увидим, что реальность обретает собственные смыслы посредством метафор и воображения. И такое осмысление бывает стремительным. Уже в самых наивных интуициях и при в высшей степени праздном созерцании твердость дает нам непосредственный совет сопереживать узловатому дубу в своего рода симпатии к твердости. Мир, так воспринимаемый грезой воли, обладает характером. Он показывает нам превосходные динамические образы человеческого характера. Когда за формами мы воображаем сопротивление субстанций, упорядочивается некая объективная характерология. Чтобы доказать ее существование, необходимо лишь обращаться к энергичным поэтам. Они предоставят нам многословные осмысления метафор узловатого, твердого, крепкого, сопротивляющегося дуба, с радостью принимающего бремя лет. Посмотрим, например, каков дуб в поэтике Верхарна.
II
Вместе с ожесточенной борьбой волокон в узлах древесины – вместо дерева-порыва, которое в «Грезах о воздухе» мы анализировали, следуя воображению воздуха,– возникает земной вегетализм, вегетализм жесткий. Вопреки равнинным ландшафтам Фландрии, верхарновский дуб является существом горным, выросшим из гранитной почвы в промежутке между булыжниками. Он извивается вокруг скального выступа, чтобы выбраться из земли; он образует узлы, стремясь опереться уже не на изобильный и слабый гумус, а на самого себя, на запасы твердости, содержащиеся в узловатом стволе. Он твердеет78, стремясь длиться75. Твердым он может стать, лишь возвращаясь к своему нутру и насмехаясь над собственными порывами, над всевозможными вялыми импульсами зеленой и нежной растительности. Шарль Бодуэн79 в своей прекрасной книге о Верхарне выделяет эту битву сурового существа с самим собой, весьма характерную для психической эволюции этого поэта.
Шарль Бодуэн показывает, как действует своеобразная сублимация имманентной твердости, и типизирует ее как раз ядро старого дуба: «Поначалу (в одном из наиболее ранних произведений Верхарна „Фламандки“) дерево было тем, чем оно, на взгляд психоаналитиков, обычно и бывает: одним из символов грубого инстинкта. Но вот этот инстинкт начинает ожесточенную борьбу с самим собой, „завязывает узлы“, похожие на сплетшиеся тела, в самом себе,– если можно так выразиться, „скручивается“ в собственных руках. С этих пор (в поэтическом творчестве Верхарна) деревья предстают узловатыми и скрученными. Они изображают чувственность, которая сама себя побеждает,– победу, в которой присутствует еще и какое-то сладострастие. Они отождествляются с монахами, „скрутившими“ в себе природу между ладоней, судорожно сжатых пламенной волей»80. И Шарль Бодуэн цитирует следующие строки поэта:
Tout ce qui fut énorme en ces temps surhumains
Grandit sous le soleil de leur âme féconde
Et fut tordu comme un grand chêne entre leurs mains.
(Les Crucifères)
Все, что было гигантским в те сверхчеловеческие времена,
Росло под солнцем их живительной души
И стало скрученным меж их ладоней, словно могучий дуб.
Une allée invaincue et géante de chênes…
Ces arbres vont, ainsi des moines mortuaires.
(Soir religieux)
Непокорная аллея гигантских дубов…
Эти деревья движутся словно погребальная процессия монахов.
Может показаться, будто мы незаметно расстались с образами твердости. Но между тем желающий углубить свои впечатления обнаружит эти волнующие образы. Образ творится не формой скрученного дерева, а силой скручивания, и эта скручивающая сила предполагает жесткую материю, материю, которая при скручивании твердеет. Вот существенная примета материального воображения, работающего под личиной слов, ему не принадлежащих, – под знаком воображения форм.
Никогда взаимодействие вытеснения и сублимации не было более напряженным, нежели в этом осмыслении узловатой твердости, скрученной жесткости. Здесь мы попадаем в центр амбивалентности понятий «узловатый» и «узловой»; иными словами, узел является одной из тех «двусмысленных реальностей», отражения которых любит обыгрывать Кьеркегор. Согласно настроению, ориентации воображения или тонализации воли узел можно сделать положительным качеством или недостатком, силой опоры или силой, останавливающей порыв. Как раз оттого, что узел твердой древесины снабжен такими амбивалентными образами, он представляет собой проясняющее слово.
Литературной критике необходимо поразмыслить над этим проясняющим словом. В нем отмеряется сопричастность грезовидца твердости мира или его отвращение к «жестким» образам. Его следует вписать в регистр слов, наделенных чувствительностью, слов, с помощью которых можно обусловливать ориентацию сил воображения. Слова эти не столь многочисленны, как можно было бы подумать. На протяжении своей жизни язык влечет за собой массу онирически изношенных слов, и эти слова уже не найдут своего поэта. Как пишет г-жа Аня Тейяр, «внешние объекты, когда-то обладавшие могущественной привлекательной силой, утрачивают либидо»82. Иными словами, существуют предметы, оставшиеся не более чем объектами восприятия; их имена утратили интимные качества, прежде превращавшие их в составные части человеческого воображения. Ствол же дуба, наоборот, вызывает мучения наших внутренних сил, желающих быть непоколебимыми. Это грандиозный образ энергии.
III
Мы, возможно, лучше ощутим эту страстную приверженность непреложностям твердого объекта, если посмотрим, как грезящий обретает стойкость собственного существа в компании неколебимого дерева. Именно в этом духе мы интерпретируем следующую восхитительную страницу из Вирджинии Вулф83:
Он испустил глубокий вздох и с силой рухнул – в его движениях была страстность, оправдывающая это слово,– на землю, к подножию дуба. Ему приятно было ощущать… позвонки земли, с которой он вплотную соприкасался; ведь он так воспринимал жесткий корень дуба, а еще этот корень виделся ему (ибо один образ следовал за другим) спиной огромного коня, на которого он садился, или мостиком накренившегося корабля,– по правде говоря, ему было все равно, чем твердым это было, ибо он ощущал необходимость в чем угодно – лишь бы привязать свое нерешительное сердце84.
Как превосходно изображает писательница этот «союз» твердых предметов вокруг твердого ядра! Дуб, конь и корабль объединяются, несмотря на несходство их форм, вопреки тому, что у них нет ни единой общей визуальной черты, ни одного общего материального значения. Благодаря власти над материальным воображением, в силу собственного империализма твердость простирает свои образы вдаль, продвигаясь от жесткого холмика, где растет дуб, на равнину, где скачет галопом конь, а затем к морю, где на мостике корабля обретают убежище все твердые тела. Материальное понимание, абсолютный объем образа твердости поддерживают это безудержное расширение, каковое не сможет обосновать ни один логик. Отличительное свойство материальных первообразов (а твердость – один из них) – способность с легкостью принимать разнообразнейшие формы. Ведь центром грез является материя.
Впрочем, подробно изучая все ту же страницу из Вирджинии Вулф, мы найдем хороший пример двоякого выстраивания образов, согласно которому образы в виде понятий переходят с предмета на предмет, а в другой струе живут полной жизнью конкретного существа.
На самом деле, следуя этой последней эволюции, после возвращения к начальному образу твердого ствола Вирджиния Вулф показывает нам все свое воображение Дерева. Прислонившись к жесткому и устойчивому стволу дуба, Орландо ощущает, как успокаивается его сердце; он становится сопричастным к умиротворяющему воздействию спокойного дерева, дерева, успокаивающего пейзаж. Не обездвиживает ли дуб все – вплоть до проплывающего облака?
Листочки оставались безучастными; остановилась лань; бледные летние облака не двигались; руки и ноги Орландо тяжелели на земле; и лежа, он пребывал в таком покое, что лань подошла к нему вплотную; над головой вихрем кружились грачи, ласточки бросались вниз и сновали, жужжали оводы; казалось, будто живительная сила и влияние любви летним вечером ткали свое полотно вокруг его тела.
Вот так твердость дерева на равнине с колышущимися злаками благотворно воздействует на грезовидца85; крепкий ствол, жесткий корень – вот неподвижный центр, вокруг которого организуется пейзаж, вокруг которого ткется полотно литературной картины, комментированного мира. Как показывают фигурки, изображенные на обложке, дуб Орландо поистине является персонажем романа Вирджинии Вулф. Чтобы лучше уразуметь его роль, следует хотя бы раз в жизни проникнуться любовью к этому величественному дереву, ощутить совет твердости, который оно дает.
В конечном счете, мы с удовольствием привели бы эту страницу английской романистки как модель образного психоанализа, психоанализа материального. Дерево здесь твердое и большое, и большое оно из-за того, что твердое. Оно символизирует величие судьбы твердой смелости. Каким бы жестким ни был корень дуба, дерево все-таки возносит того, кто грезит о его твердости, к своим шероховатым шелестящим листьям. Этот грезовидец неподвижно лежит на земле, но дерево сообщает ему подвижность птиц и неба. Таков новый пример грезы «на привязи»: грезящий привязывает свое нерешительное сердце к сердцу дуба, дуб же увлекает его за собой в медленном и уверенном движении собственной жизни. Внезапно грезовидец, переживающий глубинную твердость дерева, ощущает, что дерево стало твердым не просто так — а вот человеческие сердца слишком часто черствеют без причины. Дерево отвердело, потому что оно высоко несет свой воздушный венец, свою окрыленную листву. Оно преподносит людям великий образ законной гордости. Его образ производит психоанализ всякой нахмуренной твердости, любой бесполезной жесткости и приводит нас к покою устойчивости.
IV
Так анализ внешне столь специфического образа, как узловатое дерево, обнаруживает мощь обращения к связным образам, в которые воображающий все больше вовлекается. Слишком часто воображение описывают как бесцельное производство, исчерпывающее себя в момент возникновения образов. Это означает недопонимание напряжения психических сил, участвующих в поисках образов. К тому же подлинный сюрреализм, принимающий образ во всех его функциях, как в глубинном порыве, так и в свойствах его динамики, с необходимостью дублируется сверхэнергетизмом. Сюрреализм – или воображение в действии – переходит к новым образам вследствие тяги к обновлению. Но в периодическом возвращении к изначальным элементам языка сюрреализм наделяет всякий новый образ значительной психической энергией. Избавленный от заботы об обозначении, он открывает все возможности для воображения. Тот, кто переживает свои образы в первозданной силе, прекрасно ощущает, что случайных образов не бывает, что у каждого образа, сопряженного с собственной психической реальностью, есть глубокий корень; случайным бывает лишь восприятие, и в ответ на скрытое приглашение этого окказионального восприятия воображение возвращается к собственным первообразам, каждый из которых наделен характерной для себя динамикой.
Как только образы начинают изучаться в своих динамических аспектах и коррелятивно испытываться в своих функциях, динамизирующих психику, непрестанно повторяемая стародавняя формула «пейзаж – это состояние души» обретает совершенно новые смыслы. В действительности формула эта имела в виду лишь состояния созерцания, как если бы функцией пейзажа было лишь «быть созерцаемым», как будто пейзаж – это попросту словарь разных неопределенных слов, пустых чаяний развлечения. И наоборот, вместе с грезами воли развиваются с необходимостью отчетливые темы демиургического строительства: пейзаж становится характером86. Динамически это можно понять лишь в том случае, если воля станет причастной к построению пейзажа, проникнувшись радостью утверждения его устоев и измерения его прочности и сил. На протяжении этой работы мы предоставим массу других подтверждений характерологии образов, и твердость, – как мы говорили раньше, – служит первым ее примером. Прежде чем перейти в другой регистр мыслей, еще раз подчеркнем динамизирующее влияние грез о твердых объектах.
Некоторые образы – и узловатый дуб из их числа – по сути своей являются образами пробуждения. Ведь мы видим дуб согбенным, и вот он нас выпрямляет. Энергетический миметизм тем самым представляет собой антитезу миметизму форм. Старый дуб взывает к усилению активности. Счастлив тот, кто начинает день утром с созерцания образов не только прекрасных, но и исполненных силы.
Выражаясь более точно, мы можем подтвердить, что в самих наших грезах образы твердости – это, как правило, образы пробуждения,– иными словами, твердость не может оставаться в подсознании и требует нашей активности. Похоже, что сон – даже в кошмарах – не может длиться без некоторой мягкости фантазмов, без определенной текучести даже чернейших образов. Как мы писали раньше, признаваясь в нашем онирическом темпераменте: хорошо спят только в воде, в обильной тепловатой воде. Жесткая форма останавливает грезы, теперь переживающие лишь деформации. Жерар де Нерваль заметил, что в грезах никогда не сияет солнце. Ведь лучи тоже слишком жестки и геометричны, и потому они не могут осветить онирическую картину без риска пробуждения. Тела, слишком четко освещенные, жесткие, твердые тела следует изгнать из жизни наших снов. Ведь это объекты бессонницы. По вечерам не надо думать о железе, о камне, о твердой древесине – обо всех материалах, которые готовы нас спровоцировать. Но жизнь наяву, наоборот, требует противников. Когда мы пробуждаемся, яркие радости зарождаются именно в образах твердых предметов. Твердые материалы принадлежат сопротивляющемуся миру, находящемуся в пределах досягаемости рук. Подобно сопротивляющемуся миру, наша нервная жизнь ассоциируется с мускульной. Материя предстает как овеществленный образ наших мускулов. Кажется, будто воображение, готовящееся к работе, сдирает кожу с материального мира. Оно снимает с него покровы, чтобы лучше разглядеть его силовые линии. У предметов, у всех предметов есть пружины. Они возвращают нам воображаемую энергию, которой мы наделяем их в своих динамических образах. Так возобновляется динамическая жизнь, жизнь, грезящая о том, чтобы стать посредницей в этом сопротивляющемся мире. Вирджиния Вулф пережила это пробуждение бытия благодаря молодости образа:
Мой разъятый на части дух ощутил, что внезапно он вновь стал целостным. В свидетели своей полной нераздельности я призываю деревья и облака87.
Поистине эта интеграция возможна лишь в тех случаях, когда она влечет за собой скоординированные и эффективные действия, короче говоря, именно действия трудящегося существа.
Глава 4
Тесто
Следует видеть, как внутренняя суть борется с вожделением. Какой булочник когда-либо погружал в свою квашню столь громадные руки? Видано ли, чтобы какому-нибудь булочнику так досаждала движущаяся, растущая и оседающая гора теста? Теста, которое ищет потолок и пробьет его.
Анри Мишо, «Перо»
I
В книге «Вода и грезы» мы уже рассматривали кое-какие из грез, формирующихся в медленном трудовом процессе замеса, в многостороннем взаимодействии форм, придаваемых тесту при лепке. Нам представлялось необходимым, встав на точку зрения материального воображения стихий, изучать мезоморфные грезы, грезы, промежуточные между водой и землей. В действительности можно уловить своего рода сотрудничество двух воображаемых стихий, сотрудничество, полное происшествий и противоречий, в соответствии с которыми вода смягчает землю, а земля придает воде устойчивость. С точки зрения материального воображения, постоянно отстаивающего свои предпочтения, как ни смешивай эти две стихии, одна из них всегда остается активным субъектом, а другая претерпевает воздействие.
Иными словами – прекрасный пример глубинной амбивалентности, которой отмечена интимная приверженность грезящих к своим материальным образам,– это сотрудничество субстанций в определенных случаях может смениться настоящей борьбой: по отношению к земле борьба может быть вызовом со стороны растворяющей силы господствующей воды; по отношению к воде – вызовом со стороны всасывающей силы осушающей земли. В руках земного грезовидца оружием могут быть губка, пакля и кисть. Губка приносит победу над потопом. «Земля, – пишет Вирджиния Вулф, – медленно впивает цвет, подобно тому, как губка всасывает воду. Она закругляется, густеет, обретает равновесие и колеблется у нас под ногами в пространстве». Так вот какова земля – гигантская губка, губка побеждающая!
Потому-то борьба между водой и землей, сочетания88 земли и воды, нескончаемый обмен садизмом и мазохизмом между этими двумя стихиями поставляли бесчисленные документы для психоанализа материальных и динамических образов. Психоанализ считает кисть и губку достаточно ясными символами. У первой была мужская суть, у второй – женская. Эти атрибуции столь отчетливы, что они могут нам помочь попутно продемонстрировать имеющееся различие между образами, изучаемыми нами в наших тезисах о воображении, и символами классического психоанализа.
Сколь бы протеическим ни был психоаналитический символ, у него всегда есть фиксированный центр, он всегда склоняется в сторону концепта, и его с достаточной точностью можно назвать концептом сексуальным. Можно сказать, что символ представляет собой овеществленную сексуальную абстракцию в том самом смысле, в каком психологи прежних времен говорили об «овеществленных абстракциях». Как бы там ни было, для психоаналитиков символ обладает психологическим значением.
Иное дело – образ. У образа более активная функция. Несомненно, он имеет некий смысл в бессознательной жизни; без сомнения, он обозначает глубинные инстинкты. Но вдобавок он получает жизнь от позитивной потребности воображать. Диалектически он может служить как для сокрытия, так и для показа. Однако же необходимо много показать, чтобы мало скрыть, и как раз со стороны этого чудесного показа мы и должны изучать воображение. В частности, литературная жизнь представляет собой украшательство, бахвальство, избыточность. Она безостановочно развивается в мире метафор. Хотя она также может, как говорят психоаналитики, обнаружить фиксации89, в том воздействии, которое она стремится оказать на читателя, целью ее является дефиксация – употребим это слово по праву на варваризм, да и один раз не означает ввода в обиход. В тот самый момент, когда свобода выражения переводит подавленные комплексуальные силы автора в сознательный план, у читателя она стремится дефиксировать инертные силы, фиксированные в словах.
Но вернемся к нашим образам и приведем пример мезоморфной грезы, промежуточной между землей и водой. Приведем ничем не примечательный образ и назовем его «ребенок с промокашкой». Вот он держит в руках клочок маслянистой, напоминающей войлок, обтрепанной по краям бумаги; исподтишка он подносит его к чернильному пятну. Физик скажет, что школьника интересуют явления капиллярности. Психоаналитик заподозрит здесь потребность в пачканье. На самом же деле грезы шире этого: они выходят за пределы оснований и символов. Грезы безмерны. Благодаря фатальности величия они обладают космичностью. Ребенок с промокашкой осушает Красное море. Запачканная бумажка – карта континента, все та же земля, собравшаяся абсорбировать море. И школьник бесконечно долго сидит за своей партой, а между тем он уже прогуливает уроки, отправляясь в путешествия с помощью динамической географии, этой географии грез, утешающей его от географии повествовательной, – грезящий школьник работает у границы двух вселенных: воды и суши. Так греза пишет офорты на папье-маше.
Мощь мелких образов можно измерить, если представить себе следующий сартровский образ: затеряться в мире – все равно что «впитаться вещами, как чернила впитываются промокательной бумагой» (L’Etre et le Néant, p. 317).
Тем самым интерес, испытываемый грезовидцем к борьбе между двумя видами материи, характеризуется подлинной материальной амбивалентностью. Пережить материальную амбивалентность можно не иначе как присуждая победу поочередно каждой из двух стихий. Если бы мы могли охарактеризовать амбивалентность какой-либо души в простейших ее образах, далеких от душераздирающих человеческих страстей, насколько легче было бы понять основополагающий характер амбивалентности!
И действительно, разве, следя за мерцанием амбивалентности, нельзя ощутить динамизм, устанавливающийся между привлекательным образом и образом отвратительным? В этом поле чувствительного воображения мы можем рассматривать принцип необусловленности эмоций в том самом смысле, в каком физика микромира выдвигает принцип неопределенности, ограничивающий одновременную детерминированность статистических и динамических описаний. К примеру, стоит нам захотеть получше ощутить некий по-настоящему тонкий аспект антипатии, как он вдруг начинает нам нравиться. И наоборот, если мы с чрезмерной интенсивностью захотим предаться впечатлению нюансированной симпатии, то ощутим внезапное утомление. Раз уж мы взялись за микропсихологию, работая на уровне мелких образов, мы увидим, что этот принцип бывает задействован весьма часто. И тогда мы лучше уразумеем, что амбивалентность образов гораздо активнее, нежели антитеза идей. Когда мы будем приводить примеры тонких амбивалентностей, нам нередко придется возвращаться к этой проблеме. Впрочем, будут и такие примеры, когда для того, чтобы застать амбивалентность воображения в действии, не возникнет необходимости говорить о конфликте материй вроде борьбы между землей и водой. Само тесто, тесто, воспринимаемое в сплошной массе, немедленно поможет нам уточнить проблему.
II
На самом деле, если отвлечься от всяких мыслей о смеси земли и воды, в царстве материального воображения мы, видимо, сможем утверждать существование подлинного прототипа воображаемого теста. В воображении каждого из нас существует материальный образ идеального теста, доведенный до совершенства синтез сопротивления и податливости, чудесный пример принимающих и отвергающих сил. Исходя из этого состояния равновесия, немедленно наполняющего радостью рабочие руки, возникают противоположно направленные пейоративные90 суждения «слишком мягко» и «слишком твердо». С таким же успехом можно сказать, что в центре между этими противоположно направленными избыточностями руки инстинктивно познают совершенное тесто. Нормальное материальное воображение сразу же вкладывает это оптимальное тесто в руки грезящего. Всякий грезовидец теста знает это совершенное тесто, столь же явное для рук, как совершенное твердое тело – для глаз геометра. Состав этого равновесного и сокровенного теста поэтически проследил д’Аннунцио: булочник, испытав смесь, вылил в квашню чуть больше воды, чтобы продлить процесс разбавления, и руки его были столь тверды в точности сочетания и так ловко наклоняли кувшин, что я увидел, как между кромкой глины и крупчаткой вырисовывается прозрачная вода – хрустальная арка, совершенная и без трещин91.
Картина оказалась столь четко очерченной именно потому, что тесто должным образом пропиталось водой; вода стекает в квашню по геометрической кривой. Материальные красоты и красоты форм взаимно друг друга притягивают. В этом случае совершенное тесто представляет собой первоэлемент материализма, подобно тому, как совершенное твердое тело – формальный первоэлемент геометризма. Любой философ, отвергающий такую аксиому, на самом деле – не материалист.
Глубинный характер этой грезы о совершенном тесте заходит так далеко, а внушаемые им убеждения настолько глубоки, что можно говорить о cogito замеса. Философы научили нас распространять картезианское cogito не только на мышление, но и на другие виды опыта. Они говорят нам, в частности, о бирановском cogito, при котором существо находит доказательство собственного существования в самом акте своего усилия. Осознание активности, полагает Мен де Биран92, является столь же непосредственным, как и сознание бытия у мыслящего существа. Но ведь самый приятный опыт следует приобретать в счастливых усилиях. Феноменология противления — одна из разновидностей феноменологии, помогающих нам лучше уяснить вовлеченности субъекта и объекта. А между тем разве усилие не приносит наиболее убедительные доказательства, некоторым образом удвоенные непреложности, когда существо воздействует само на себя? И вот, стало быть, cogito замеса в своих наиболее тесных взаимосвязях: существует способ стискивать кулак, для того чтобы наша собственная плоть проявилась как первотесто, как то совершенное тесто, которое одновременно и противится, и уступает. С точки зрения стоиков, геометрия открытой или закрытой руки дает символы для медитации. С точки же зрения философов, которые без колебаний находят доказательства своего бытия в самих своих грезах, динамика сжатого кулака без неистовства и мягкости наделяет человека и собственным бытием, и собственным миром. Вот так, обнаруживая невесть какое первотесто в пустых руках, все грезы своих рук, я шепчу:
Всё для меня тесто, да я и сам для себя тесто; мое становление – это моя собственная материя, моя собственная материя – действие и претерпевание, поистине я – первичное тесто.
Если у грезящего могут быть столь прекрасные ощущения, стоит ли удивляться, что материальное и динамическое воображение располагает своего рода тестом-в-себе, изначальным илом, способным принимать и сохранять форму любой вещи. И, разумеется, понятие уже подстерегает столь простой, интенсивный и живой материальный образ. Такова судьба всех основных образов. А понятие теста, деформирующегося у нас на глазах, столь ясно и обладает такой степенью обобщенности, что оно делает бесполезным сопричастность динамическому первообразу. В таких случаях визуальные образы отвоевывают свою первичность. Глаза – эти инспектора – мешают нам работать.
Если долг поэзии – оживить в душе свойства творения, если поэзия должна помочь нам вновь пережить наши естественные грезы во всей их интенсивности и во всех их функциях, нам следует понять, что у рук, как и у взгляда, есть свои грезы и собственная поэзия. Значит, мы обязательно обнаружим поэмы о прикосновении, поэмы рук, замешивающих тесто.
III
Как свидетельство счастливых рук, как отчетливый пример рук, подвергающихся «мужскому» психоанализу посредством эффективной обработки материи, мы собираемся прокомментировать длинную страницу из Германа Мелвилла. Эта страница, написанная во славу замеса, тем более удивительна, что она вставлена в напряженное и суровое произведение, рассказывающее нам о героической жизни охотника на китов. В главе из «Моби Дика» под названием «Пожатие рук» Мелвилл описывает растирание спермацета вот так:
Нам поручалось разминать эти комки, чтобы они снова становились жидкостью. Что за сладкое, что за ароматное занятие! Не удивительно, что в прежние времена спермацет славился как лучшее косметическое средство. Как он очищает! как смягчает! как освежает! и какой у него запах!93
И вот от соприкосновения с этой восхитительной мягкостью пробуждается глубокая динамическая сопричастность, воистину счастье в руке в материальном смысле слова: «Погрузив в него руки всего на несколько минут, я почувствовал, что пальцы у меня сделались как угри и даже начали как будто бы извиваться и скручиваться в кольца»94. Как лучше описать эту гибкость полноты, гибкость, заполняющую ладонь и непрерывно передающуюся то от материи к руке, то от руки к материи! От переживания такой радости в руке утихли два противоположных недуга. С легкостью поддались исцелению как брадифрения, так и некоторые типы неистовства у Лотреамона, ощутимые в следующих простых словах: «ярость с сухими запястьями» (Les Chants de Maldoror, p. 185). Эта уверенность в равновесии между ладонью и материей – прекрасный пример cogito замеса. Как вытягиваются пальцы в этой нежности совершенного теста, как превращаются они из пальцев в сознание пальцев, в грезу пальцев бесконечных и свободных! Не нужно, стало быть, удивляться, если теперь мы видим, как пальцы воображают, если мы ощущаем, как рука творит собственные образы:
У дуба – покой, у человека – свобода.
Лапрад, Виктор Ришар де (1812–1883)– франц. поэт, эпигон Ламартина; в поздний период творчества – автор гражданских стихов, враждебных империи. – Прим. пер.
Мореас, Жан (1856–1910) (наст. имя – Яннис Пападиамандопулос), франц. поэт греческого происхождения. Автор «Манифеста символизма» (1886). Ввел в обиход слово «символизм». – Прим. пер.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе