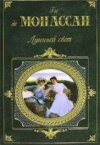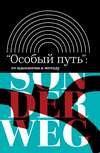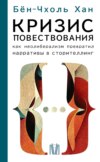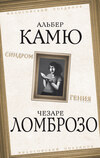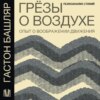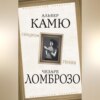Читать книгу: «Земля и грёзы воли», страница 4
Но спор между интровертностью и экстравертностью так легко не заканчивается. Соблазны интровертносги остаются возможными даже после усилий, направленных на материальный объект, и после геометрической обработки. Порою в уголке квадрата или в луче звездочки слышится смех сатира…
Как правило, трудности способствуют психоанализу, а легкая работа – инфантилизации. Поэтому с психологической точки зрения трудно охарактеризовать вращательное сверление. Это весьма значительное техническое изобретение. Оно, несомненно, является производным от сексуальных грез, зачастую сопровождающих непосредственное сверление. А между тем какая амбивалентная радость присуща мастеру, работающему на станке, вонзающем сверло в металлическую пластину с каким-то нежным насилием и столь плавно, что «оно входит как в масло»! Стало быть, здесь воображение производит замену материального дополнения. Такие замены всегда обусловливают поливалентные грезы, приметы важности материального воображения. Эти грезы обыгрывают наиболее значительное из противоречий: противоречие между сопротивляющимися материалами. Эти грезы пробуждают в душе труженика демиургические впечатления. Кажется, будто реальность становится побежденной в самих глубинах своих субстанций, и эта великая победа в конце концов заставляет забыть о собственной легкости и уносит труженика в сферы воли, избавленной от фантазмов первоимпульсов.
Итак, как только мы придадим труду его динамические в психологическом плане аспекты, ассоциируя непосредственно с каждым действием осознание активности, мы поймем, что феноменологию отверстия невозможно создать на основе одной лишь визуальной феноменологии. Ссылка на органические импульсы также не ставит реальных проблем активной динамологии. На наш взгляд, следует крепче сцепить форму и силу, достигнув тем самым эффективности действия, при которой учитываются априори труда, априори, дающие выход воле к полезному, реальному и материальному действию, определяя в реальности дополнение к объекту любого субъективного замысла.
Не стоит, следовательно, удивляться тому, что шкала твердости обрабатываемых материалов во многих отношениях является шкалой психологической зрелости. Отверстие, проделываемое в песке, а затем в рыхлой земле, соответствует некоей психической потребности детской души. Необходимо, чтобы ребенок пережил возраст песка. Пережить его – лучший способ его превзойти. Запреты здесь могут оказаться вредными. Интересно заметить, что Рёскин48 по поводу своей юности, когда он подвергался строгому надзору, писал: «Больше всего я любил рыть ямы, форма садоводства, которая – увы!– не встречала одобрения матери»49. Представляется, что Рёскин рационализирует материнский запрет, обращая его в шутку. Он соглашается с тем, что ребенку следует запрещать «ходить по грядкам». Отсюда этот парадокс с ребенком, у которого был сад, но который не находил в нем природы! Тем не менее тяга ребенка к природе столь естественна, что для того, чтобы воображение пустило корни, необходимо совсем немного пространства, совсем мало земли. В саду предместья дети, которых выводит воображение Филиппа Супо50, занимаются разнообразной работой с четырьмя материальными стихиями, так что писатель выводит четырехвалентность материального воображения одной-единственной фразой: «Сад оставался зачарованным. В своих играх они пользовались дарами четырех стихий: каналами, дикарскими печами, мельницами, туннелями»51.
На самом деле мать Рёскина хотела, чтобы у нее был чистоплотный ребенок. У нас еще будет возможность вернуться к этому вопросу. Впрочем, что за странное воспитание ребенка, которому не дают рыть ямы под предлогом того, что земля грязная, когда он ощущает, что силы его для этого созрели, когда его силам просто необходимо это занятие! Читая воспоминания английского писателя, мы одновременно поймем и детское влечение подростка к геологии, к запретной области, и то, почему как геолог он так и остался безвольным.
По сравнению с таким инфантилизмом, отличительной чертой которого является воспоминание, окрашенное сожалением, динамизм отверстия, проделываемого в древесине, предстает приметой совершенно нормальной зрелости. Обработка древесины – труд, способствующий воспитанию и помогающий с легкостью пройти разнообразные тесты на твердость. Для подростка он необходим. Если бы нам предстояло разработать психоанализ психики, задержавшейся на стадии обработки тестообразных веществ, мы посоветовали бы просверливать отверстия в древесине, начиная с белой ивы и ясеня – деревьев без узлов – и кончая ядром дуба. Впоследствии, как высший идеал мужественности в физическом труде, настанет очередь отверстий в камне и железе.
Мы приводим эту шкалу твердости лишь для того, чтобы признать, что, когда мы переходим от одной материи к другой и в особенности когда мы меняем форму атаки, наш труд обретает иной психологический смысл. Пока мы будем судить о нем лишь с точки зрения скорости. Мы встречаем следующий парадокс: инструменту требуется тем больше скорости, чем тверже атакуемое им тело. Этот парадокс разрешается в работе с применением сверлильного лучка. Сверление с помощью быстрого вращения погружает нас в особое время, оно учит нас скоростной работе. Андре Леруа-Гуран прекрасно показал важность этого человеческого достижения и его чрезвычайно быстрое распространение по поверхности земного шара: «Перфорация твердых субстанций и в особенности камней весьма рано пробудила у людей изобретательское чувство; насаживание на рукоятку топоров, булав и палиц привело ремесло к использованию этого средства (работы сверлильным лучком), позволяющего делать отверстия в самых компактных телах. Обработка яшмы, общая для всего Тихоокеанского бассейна, вызвала массу основополагающих открытий» (Leroi-Gourhan A. L’Homme et la Matière, p. 54).
Нам нет нужды настаивать на этом, поскольку и так видно, что иерархия инструментов, привязанная к иерархии твердых материалов, способствует созданию чисто психологической иерархии эффективности, а последняя показывает нам поистине историю нашего динамизма. К сожалению, записываем мы лишь наши праздные грезы, ибо мы испытываем ностальгию по нежному детству. Чтобы сохранить чувство радости силы, следует вспомнить нашу борьбу с сопротивляющимся миром. Труд обязывает нас к этой борьбе и предлагает нам своего рода естественный психоанализ. Этот психоанализ черпает силы освобождения во всех пластах бытия. В деталях и на множестве примеров он помогает понять следующую великую истину, высказанную Новалисом и противостоящую массе тезисов нашего времени: «К мучительным состояниям нас приковывает лень»52.
Благодаря такому психоанализу труженик избавляется от праздных и тяжеловесных грез тремя средствами: самим энергичным трудом, очевидным господством над материей, тяжело реализуемой геометрической формой.
В энциклопедии психоаналитических смыслов следовало бы рассмотреть также и смыслы терпения. Наряду с обтесанной формой следует изучить и форму шлифованную. И тогда в обрабатываемый объект следует внедрить новый временной аспект. Шлифовка представляет собой странную сделку между субъектом и объектом. Итак, сколько же грез можно уловить в этом прекрасном метафизическом двустишии Поля Элюара:
Cendres, polissez la pierre
Qui polit le doigt studieux.
О пепел, шлифуй камень,
Шлифующий упорные пальцы.
(Livre ouvert. II, р. 121)
IV
Итак, мы считаем, что у нас есть основания говорить об активном ониризме, т.е. о грезах о чарующем труде, о работе, открывающей перспективы для воли. В этом активном ониризме объединяются две значительные функции психики: воображение и воля. Все наше существо мобилизуется воображением; как признавал Бодлер: «Все способности человеческой души следует подчинить воображению, которое привлекает в принудительном порядке все сразу»53. Описывая союз воображения и воли на подходящих примерах, мы проясняем психологию, так сказать, сверхбодрствующей грезы, в продолжение которой труженик сцепляется непосредственно с объектом, всеми своими желаниями проникая в материю и становясь тем самым одиноким, словно в глубочайшем сне.
Наши наблюдения, возможно, прояснятся, если мы покажем их более отчетливую диалектику, представив одновременно два полюса психологии труда: полюс интеллекта и полюс воли, ясные мысли и грезы о могуществе.
Прежде всего следует уразуметь, что в обработке твердых материалов влияния этих полюсов друг от друга неотделимы. Можно никогда не держать в руках напильника и все же характеризовать психологию homo faber одной лишь целесообразностью Геометрической модели. Распределение сил требует недюжинной осмотрительности, медленной интеграции частичных действий, крайне деликатных при обтачивании детали. И вот начинается поединок двух воль. Нам хочется сделать шлиф прямым, нам хочется навязать материалу прямоугольные плоскости. Но кажется, будто материя, со своей стороны, желает сохранить округлость. Она защищает свою закругленность, свою округлую массу. С очевидной злой волей она бросает вызов элементарной геометрии. Один лишь труженик знает, с помощью каких тонких атак, каким расходом сил он добивается простоты, каковой он отмечает предмет.
И здесь следует отдавать себе отчет в том, что разумное воображение форм, навязываемых трудом, необходимо дополнять энергетизмом воображения сил. Как же вышло, что такая философия действия, как бергсоновская, представила психологию homo faber в до такой степени искалеченном виде, что пренебрегла доброй ее половиной – и как раз временно́й ее частью, частью, организующей рабочее время и превращающей его в подчиненную воле и управляемую длительность? С одним инструментом нужно работать быстро, с другим – медленно. Один инструмент расходует силу в продолжение длительных манипуляций, другой абсорбирует ее в момент удара. Что может быть смешнее рабочего, не выдерживающего темпа труда? И каким насмешкам подвергается рабочий, строящий из себя фанфарона, но не умеющий именно распределять силы, не знакомый с динамическими отношениями между инструментом и материалом!
Когда мы уясним, что инструмент динамизирует трудящегося, мы поймем, что рабочему жесту свойственна иная психология, нежели жесту бесцельному, жесту, не встречающему препятствий и притязающему на то, чтобы придать некий облик нашей сокровенной длительности, как если бы мы не были скованы сопротивлением мира. Инструменты, расположенные в должном порядке между рабочим и сопротивляющимся материалом, находятся как раз в той точке, где происходит энергетический обмен между действием и противодействием, столь глубоко изученными Гегелем, что нам остается лишь перейти из области физики в область психологии. Инструменты поистине соответствуют темам интенциональности54. И заставляют нас переживать время моментальное, продленное, ритмизованное, пронзительное и располагающее к терпению. Чтобы дать представление об этих временных богатствах и динамических смыслах, недостаточно одних лишь форм. К примеру, психология homo faber, остающаяся чересчур привязанной к геометрии продуктов труда и к простейшей кинематике действий, ставит в один ряд громадные ножницы кровельщика и маленькие ножницы портнихи. Рассудок говорит, что это два вида рычагов первого рода. Но объектное дополнение к этим инструментам полностью изменяет психологию работающего субъекта. Ножницы резчика листового железа едва ли фигурируют среди символов кастрации, а вот ножницы портнихи – из-за своего несложного коварства – подсознательно мстят невротическим душам. Считается, что эти два инструмента функционируют одинаково. Но бессознательное у них не одно и то же.
Итак, инструмент следует рассматривать в связи с его материальным дополнением и в точной динамике мануальных импульсов и сопротивления материалов. С необходимостью он пробуждает целый мир материальных образов. И в душе труженика – в зависимости от материи, от ее сопротивления и твердости,– наряду с осознанием сноровки формируется осознанная мощь. В ониризме труда и в грезах воли не бывает сноровки без мощи, а мощи без сноровки. Инструменты уточняют этот союз с такой отчетливостью, что можно сказать, что у каждого материала имеется свой коэффициент враждебности, а каждый инструмент обуславливает в душе рабочего особый коэффициент мастерства.
Если в обрабатываемом материале, например, в древесине, мы видим своего рода внутреннюю иерархию твердости – с более нежными участками и более жестким ядром,– то трудовая борьба приумножает активные грезы. Представляется, что резчик по дереву одновременно с целесообразностью форм стремится к целесообразности твердой материи. Он желает изолировать превосходящую его материальную мощь, избавить ее от ненужных оболочек. Подобно живописцам, использующим пятна, существуют и резчики по дереву, утилизирующие твердость. В этой связи Ален55 оживляет древний аристотелевский образ, изношенный оттого, что философы применяли его абстрактно. Он показывает, как на воображение воздействуют линии, естественным образом вписанные в древесину:
Все, кому доводилось вырезать из корней какую-нибудь трость или головы марионеток, поймут это; это поймет каждый. Речь идет об изготовлении статуи, которая постепенно становится все более похожей на саму себя. Потому-то этот труд требует осторожности. Ибо мы можем утратить это сходство, уничтожить эту призрачную модель56.
И Ален делает вывод: «Мы не ваяем того, что хотим; я бы сказал, что мы, скорее, ваяем то, что хочет вещь». Вот так Ален дает прекрасную характеристику своего рода естественной скульптуры, скульптуры наших грез, вкладывающей нам в руки резец, когда мы видим уже испробованную природой глубинную структуру материала.
Созерцание прекрасной материи, разумеется, благоприятствует активным образам труда. Когда мы глядим на мебель из полированного дерева, схваченную в интимности ее волокон и узлов, воображение зовет нас к труду. В нашем распоряжении динамические образы стамески и рубанка, в нашем распоряжении фуганок и рашпиль – всевозможные инструменты с названиями столь жесткими и краткими (gouge, rabot, varlope, râpe), что хорошие уши услышат в них шум работы57.
Вот, стало быть, на обструганной доске завихрение узлов, вот героически извивается живая инкрустация, вот древесная воля, превозмогшая собственную твердость вопреки вездесущему древесному соку. В переливах темного и светлого дерева заметна диалектика его скручивания и свободного движения шпинделя. Как созерцать рисунок этой глубинной материи? Собираемся ли мы увидеть в нем лишь прекрасные линии, лишь прилично изготовленное общество волокон? Нет, для того, кто хотя бы чуть-чуть занимался обработкой дерева, дубовое панно представляет собой большую динамическую картину: это энергетическая схема. И тогда между участками нежного и бледного дерева и жестким коричневым узлом мы заметим не только цветовой контраст. В самом порядке воображения мы переживем здесь транспозицию диалектической теории формы и фона. Жесткая материя созерцается здесь динамически как «ядро сопротивляющегося материала» на «материальном фоне мягкого тестообразного вещества». Мы вновь встретимся с этой проблемой в следующей главе, когда займемся метафорами узловатого дуба. Но мы хотели бы дать почувствовать уже сейчас, что эта диалектика жесткого и мягкого непосредственно проявляется даже тогда, когда ее просто улавливает взгляд. Эта материальная картина обращается к динамическому существу, каким является рабочий. Благодаря материальному и динамическому воображению мы обретаем переживание, в котором внешняя форма узла пробуждает в нас внутреннюю силу, жаждущую победы. Такая внутренняя сила, ставя в привилегированное положение волю мускулов, наделяет структурой нашу сокровенную суть. Это прекрасно разглядел Морис Мерло-Понти:
В последнем анализе, если мое тело может быть формой и если оно может иметь перед собой привилегированные фигуры на безразлично каком фоне, то дело здесь в том, что оно поляризовано собственными задачами, что оно существует по направлению к ним, что оно сосредоточивает свою массу ради достижения собственных целей58.
Но восприятие лишь намечает задачи, не выполняя их. Восприятие надлежащим образом описано в феноменологии направленности (vers)59. Чтобы описать волю в действии – точнее говоря, в ее работе – следует выделить часть текста Мерло-Понти и проследить динамологию сопротивления (contre)56. И тогда в нас самих возникнет «форма телесной воли» на фоне ее отсутствия или, как выразился Мерло-Понти, «умелый жест как фигура на массивном фоне тела».
И вот материальное воображение увлекает нас динамически. В порядке воображаемой материи одушевляется все: материя перестает быть инертной, а изображающая ее пантомима не может оставаться поверхностной. Тот, кто любит субстанции, строя замыслы в их отношении, уже их обрабатывает.
Этот динамический гештальтизм материального воображения, соединяющий субстанциальную интенсивность с формой, будут отрицать лишь те, у кого нет чувства дуба. Если материальное воображение порою столь слабо́, то разве за это не стоит винить мебель, покрытую эмалевой краской, наносящую ущерб нашим глубинным грезам! Сколько предметов утратили всё, кроме поверхности! Сколько материалов обезличено убогими лаками! Как сказал Даниэлю Галеви60 один бочар: «Дерево не железо, о каждом кусочке надо судить»61. Если мы будем судить неправильно, дерево нас предаст. Здесь затронута профессиональная честь бочара – ремесленника, которому свойственна великая и неизмеримая ответственность за далекий от него продукт, вино. И слова его не просто клятва, они относятся к глубинам, они вписаны в материю и солидарны с моралью древесины. Вот до каких пор простираются грезы рабочего!
V
Впрочем, приведем превосходное литературное свидетельство, в котором большой писатель раскрывает нам ониризм труда, наступательные свойства инструмента. В книге Шарля-Луи Филиппа62 «Клод Бланшар» мы найдем страницы тем более интересные, что они переделывались несколько раз, прежде чем обрести окончательную редакцию.
Поначалу кажется, что в первом литературном наброске нет ничего, кроме шаблонов. Мы читаем в нем о радостях качественного труда; нам показывают мастера по изготовлению сабо, ласкающего линии хорошо закругленных башмаков с достаточно изогнутым профилем и довольно-таки ироничным носком.
В другой редакции мы читаем дифирамб разумной технике хорошо организованного труда. Инструменты лежат в рациональном порядке; они отображают все этапы разумной сноровки труженика. Однако и тут писатель ощущает себя самим собой, т. е. всего лишь праздным посетителем, созерцающим инертный магазин сабо, выставленных на продажу, или же мастерскую в состоянии покоя, «в порядке».
Следовало все начать сначала, и писатель наконец по-настоящему принялся за работу вместе с башмачником. Внезапно нам попадается страница необыкновенной оригинальности, выдающийся образец динамического воображения:
Недостаточно просто изготовить сабо. Дерево тверже камней; похоже, оно не сдается рабочему, оно ожесточенно ему сопротивляется, делая его жизнь трудной. Батист набрасывался на него, словно на врага. Когда ему приходилось вбивать в заготовку железные клинья, он поднимал свою киянку с ужасным напряжением, а когда ею ударял, то казалось, будто в то же время он обрушивался на дерево, сплетаясь с ним, как в борьбе. Одному из борцов необходимо было уступить, клинья должны были войти в разорванное волокно по самые кончики – в противном случае, побежденный сопротивлением, вместо древесины разорвался бы человек. Но человек не разрывался; он оставался жить, чтобы продолжать борьбу. Покончив с киянкой и клиньями, он стал орудовать топором. Бой оказался жарким, и инструменты навевали мысли об оружии. Батист был охвачен непрекращающимся порывом и своего рода воинственной яростью, так что можно было сказать, что он, держа инструмент в одной руке, атаковал деревянную заготовку, которую поддерживал другой рукой и, нанося лобовые удары, на этот раз наконец-то осуществил свою месть63.
Итак, враждебность твердой материи теперь служит знаком какой-то стародавней злобы. В сегодняшних сабо отразятся все горести жизни. Но каждый рассвет знаменует собой прилив сил. В первом же ударе долотом присутствует режущая воля. В нем содержится вызов. И высвобождается гнев. И Шарль-Луи Филипп пишет формулу, заслуживающую того, чтобы стать девизом философии ремесел: «Чтобы изготовить сабо, нужно разгневаться».
И гнев этот означает не только силу рук. Он присутствует во всем человеке, в человеке, собравшем воедино свое динамическое единство:
Порою он, раскрыв рот, неистово тянулся лицом к своему куску дерева; глядя на его открытую пасть, казалось, будто он наконец-то догадался, что челюсти его подобны звериным, – будто он слишком долго ждал и теперь готов кусаться. С тревогой можно было дожидаться момента, когда, обезумев от бессилия, он плюнет на все и, обратив свою ярость против всего человечества, выскочит на улицу и начнет кусать прохожих за горло, словно это они стали причиной его несчастья.
Как лучше описать сочетание могучих рук со сжатой челюстью? И потом: каждый тип ручного труда сочетается с особой судорогой лица. Да и лицо у резчика металла совсем не то, что у кузнеца!
До чего же далеки работники живой мастерской от стонов, которые Шатобриан слышит в материи, обрабатываемой другими. «Что бы человек ни делал, он не может ничего и все ему сопротивляется; он не в силах подчинять себе материю без того, чтобы она не сетовала и не стенала: кажется, он скрепляет все творения рук своих вздохами и биением суматошного сердца»64. Вздохи неумелого рабочего, утомленного еще накануне чуть неприятной работы… Существуют такие зрители, которые не выносят скрежета напильника по железу. Они искренне считают, что это одна из мук, с которой сталкивается слесарь. Аббат Венсело пишет о крике большой синицы, которую на юге называют saraié (слесарь), что основано на ономатопее: «В ее крике было нечто печальное и зловещее»65. Когда же точильщик в романе Натаниэля Готорна66 «Дом о семи фронтонах» точит ножницы и бритвы, он издает «ужасный и еле слышный шум, поистине выпуская акустическую змею и совершая одно из худших насилий, каким подвергается человеческое ухо» (Hawthorne N. La Maison aux sept Pignons. Trad., p. 181).
Так рассуждать о данном предмете означает быть жертвой рефлекса, зародившегося в пассивности. Но достаточно стать действующим лицом, взять в руки напильник и самому заскрежетать зубами, как подобает делать в трудолюбивом гневе, в гневе активном, и вас больше не будет мучить скрежет твердой материи. Труд есть преобразователь враждебности. Прежде мучивший шум теперь возбуждает. Рабочий все быстрее орудует напильником, он осознает, что материя скрежещет из-за него. Вскоре он наслаждается собственной властью. И уже смеется над кислой миной посетителя, затыкающего уши. Классическая психология быстро скажет, что рабочий привыкает к зловещим шумам и скрежету. Но поединку между рабочим и материей неведома сонная вялость привычки. Активность и живость в нем не угасают. Крики материи способствуют этой живости. Это крики отчаяния, распаляющие агрессивность труженика. Твердую материю укрощает гневная твердость рабочего. И гнев здесь играет роль ускорителя. Впрочем, в сфере труда любое ускорение требует гнева особого рода67.
С точки зрения Вико68: «Первым значением слова „гнев“ (colère) было „обрабатывать землю“ (cultiver la terre)» (Trad. Michelet. T. II, p. 244)69. Но трудовой гнев ничего не нарушает, он остается разумным и помогает нам понять следующий ведический стих, процитированный Луи Рену: под воздействием сомы «Хитрость и Гнев возбуждают друг друга, о жидкость».
И, конечно, этот гнев говорит. Он провоцирует материю. Он наносит ей оскорбления. Он побеждает. Смеется. Иронизирует. Производит литературу.
Производит он даже метафизику, ибо гнев – это всегда откровение бытия. В гневе мы чувствуем себя обновленными, возрожденными, призванными к новой жизни. «Источник гнева и суровости у всех нас совпадает с Источником нашей жизни; в противном случае мы не были бы живыми»70.
И вот присутствует сразу все – и труд, и гнев, и материя. «По правде говоря, не знающий гнева не ведает ничего. Он не знает непосредственно данного»71.
В последующих главах мы приведем многочисленные свидетельства об этом выговоренном действии. Пока же нам хотелось бы показать, что провокация материи является непосредственной и что она влечет за собой гнев, гнев, непосредственно направленный против объекта. Сопротивление и гнев объективно взаимосвязаны. И твердые материалы годятся для того, чтобы дать нам – согласно типу их сопротивления – значительное разнообразие метафор, подлежащих ведению психологии гнева. К примеру, Бюффон пишет: «Существуют неровные разновидности мрамора, обработка которых весьма трудна; рабочие называют их гордым мрамором, ибо он ожесточенно сопротивляется инструментам, а если и уступает им, то рассыпается»72. Философ, занимающийся поверхностями и цветом, сможет заметить в мраморе лишь холодность и белизну; он никогда не увидит его гордости, строптивости и внезапного рассыпания. По существу, здесь, как и в большинстве других примеров, материя представляет собой волю, поскольку она наделена злой волей73. Шопенгауэровский пессимизм считает своей основой тупую волю материи, волю иррациональную. Но пессимизм этот – человеческий, слишком человеческий. Он субстанциализирует наши первые провалы, полагая, будто находит в них подлинную изначальность. Подобный экзистенциализм воли расходится с экзистенциализмом, вовлеченным в труд. В действительности материальный пессимизм Шопенгауэра утрачивает смысл в мастерской. Если праздное созерцание не может преодолеть этого пессимизма, то воля к труду им даже не затронута. Для рабочего материя – это сгущение грез об энергии. Сверхчеловек совпадает здесь со сверхрабочим. И если учесть все факторы, то можно усвоить важный философский урок, ибо он показывает, что всякое созерцание представляет собой поверхностный взгляд и является позицией, мешающей нашему активному пониманию мира. Действие в его продолжительных формах дает более важные уроки, нежели созерцание. В частности, философия противления (contre) должна иметь приоритет перед философией соглашения (vers), ибо именно противление в конечном счете утверждает человека в его инстанции счастливой жизни.
Это чувство свершившейся победы, доставляемое нам укрощенной в труде материей, отмечено Шарлем-Луи Филиппом (Claude Blanchard, р. 84). Когда изготовление сабо близится к завершению, а стружки становятся мельче, рабочий празднует триумф. Как говорит об этом Шарль-Луи Филипп: «Материя оказалась побежденной, а природа – бессильной».
Итак, в одной из своих субстанций побеждена вся природа, а победителем в ежедневной битве стало все человеческое. И в превосходном романе Шарля-Луи Филиппа раздумья о мастерской возвысились до уровня вселенской медитации. Так, бесцельно шатающемуся и беспечному прохожему жилище башмачника казалось «всего лишь одним из самых тихих домиков в деревне Шанваллон».
Но для того, кто хотя бы раз видел, как Батист работает, дом был расположен совсем в другом краю. Тут не ощущалась умиротворяющая и чуть печальная атмосфера Срединной Франции, вводящая вас в определенном возрасте в соблазн и как будто к вам небезучастная. Домик находился в активном мире…
В активном мире, в мире сопротивляющемся, в мире, подлежащем преобразованию с помощью человеческих сил… Этот активный мир трансцендирует мир покоя. Сопричастный ему человек ведает, как поверх бытия внезапно рождается энергия.
Мерло-Понти, Морис (1908–1961)– франц. философ. Испытал влияние гуссерлианской феноменологии и Бергсона. Основные темы – укорененность тела в мире, анализ пластов мысли, предшествовавших сознательной, схватывание момента восприятия. «Феноменология восприятия» (1945) русск. пер. 1999. – Прим. пер.
Дюамель, Жорж (1884–1966)– франц. писатель; по образованию – медик. В своих произведениях выступал против модернизма и засилья технической цивилизации. Автор романов-эпопей «Жизнь и приключения Салавена» (1920–1932) и «Хроника семьи Паскье» (1935–1945). – Прим. пер.
«Гений христианства» частично переведен О. Э. Гринбергом (см. Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982). – Прим. пер.
Бёме, Якоб (1575–1624)– нем. мистик. В метафорической форме интерпретировал Библию и прежде всего Апокалипсис. Оказал влияние на Гегеля, Фихте, Шеллинга, а также на все романтические течения.– Прим. пер.
Мишо, Анри (1899–1984)– франц. поэт бельгийского происхождения. Автор «Лирических дневников», ставших эталоном изощренной зауми; путешествий в воображаемые «жуткие» страны. L’Espace du Dedans (1779).– Прим. пер.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе