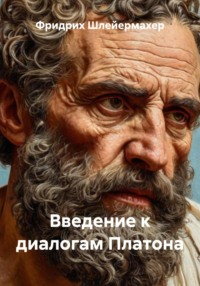Читать книгу: «Введение к диалогам Платона», страница 3
Таким образом, хотя языковые особенности и остаются важным критерием, они должны рассматриваться в conjunction с другими факторами – философской глубиной, цельностью композиции и соответствием известным историческим и интеллектуальным контекстам творчества Платона. Только комплексный подход позволяет с достаточной степенью уверенности отделить подлинные произведения учителя от искусных подражаний его последователей.Но если мы обратимся к философской их части, то среди диалогов, чьи притязания считаться платоновскими нам всё же предстоит исследовать, окажутся некоторые, которые вообще не трактуют научные предметы, ни каких-либо других в духе спекуляции; в то время как остальные берут свой предмет так непосредственно из круга несомненно подлинных диалогов и столь явно вдохновлены тем же способом мышления, что невозможно распознать в них более позднюю или чужую руку, и всё же они могли бы, поскольку это зависит от данного пункта, происходить лишь от ученика или подражателя, верно следовавшего по стопам своего учителя.
Что же касается собственно диалогической части диалогов, то вряд ли кто-либо возьмется выделить сначала из общего достояния эпохи то, что было произведением именно сократической школы, и из этого вновь с уверенностью отличить особенности Платона. Или, учитывая большой разброс, который язык автора, владевшего пером так долго, неизбежно должен приобрести, а также значительную утрату современных и подобных трудов, и, наконец, если малые и уже давно отвергнутые диалоги следует учитывать как часть целого, подлежащего оценке, учитывая значительную разницу в ценности и предмете; при всех этих обстоятельствах найдется ли кто-нибудь в наше время, кто осмелился бы объявить себя достаточно сведущим в греческом, чтобы выносить приговор о любом выражении даже в этих малых диалогах и решать, что оно неплатоновское с такой уверенностью, что он взялся бы по этой причине одной отвергнуть произведение? Скорее мы могли бы сказать, что не столько указание на присутствие чужого или отсутствие свойственного, недостаток выбора и украшающих диалогических формул могут повлечь приговор отвержения для тех диалогов, уже аккредитованных, что касается языка.
Среди тех, следовательно, которые не могут быть обвинены в этом недостатке, многое может не принадлежать Платону, не выдавая себя в языке, так что это исключительно едва ли может что-либо решить. Ибо когда в нашем уме возникают подозрения, которые зависят более от общего впечатления, чем от каких-либо определенных оснований, которые мы можем выдвинуть в его поддержку, можно предположить, что они зависят более от композиции в целом, чем от языка одного. И такое вновь могло бы быть случаем, когда мы стали бы судить о подлинности остальных трудов согласно предметному содержанию диалогов первого класса.
Ибо это можно сделать двумя способами. Либо можно утверждать, что ничто не может быть платоновским, что стоит в противоречии с предметным содержанием этих признанных диалогов. Но тогда Платон был бы лишен права, enjoyed всеми остальными, – исправлять или менять свои мнения даже после того, как он публично их изложил; и в его случае было бы немедленно предположено – что кажется удивительным при рассмотрении нашей современной философии и настолько, что в это нельзя поверить без сильнейших доказательств, – что с момента вступления на философское поприще, или даже раньше, он всегда думал то же самое, что и впоследствии. Или, если уделять меньше внимания точному совпадению всех частных мыслей, чем качеству и важности предметного содержания в целом, и положить правило, что каждое произведение Платона должно иметь ту же важность и то же отношение к главной идее философии, то в этом случае было бы забыто, что внешние обстоятельства часто вызывают появление разнородных произведений ограниченного размера у автора, который без влияния таких обстоятельств никогда бы не создал их спонтанно. В собственно случайных произведениях, подобных этим, нельзя справедливо требовать, чтобы те идеи автора, которые принадлежат к высшей сфере, развивались сами собой, и когда видны следы их, их появление случайно и сверх положенного, и может не всегда даже приниматься как безошибочное доказательство их происхождения от него.
Столь же очевидно, что каждый великий художник любого рода будет разрабатывать этюды вне своей основной линии, и хотя знаток обнаружит в них более или менее его стиль и дух, однако они не принадлежат к классу трудов, которые особенно характеризуют их автора, ни продвигают его великие взгляды на искусство, или, более того, он может в них, намеренно возможно, и ради некоторого подготовительного упражнения, удаляться от своего привычного круга предметов, и даже от свойственного ему метода. В нашем платоновском собрании явно есть несколько произведений, которые могут быть приписаны Платону лишь при рассмотрении их с этой точки зрения, и пытаться судить о подобных [трудах] из-за незначительности содержания или из-за частных отклонений в его обработке, могло бы, согласно этой аналогии, быть процессом, весьма подверженным ошибке.
Итак, эти трудности со всей очевидностью свидетельствуют, что мы должны судить ни по предмету одному, ни по языку одному, но что нам следует обращаться к третьему и более определённому началу, в котором те два соединяются – к Форме и Композиции в целом. Ибо даже в языке наиболее убедительное заключается не в частностях, а в общем строе и своеобразной окраске его, которая находится в непосредственной связи с композицией. Подобным же образом это обнаруживает себя в своих главных чертах даже в тех этюдах, в которых мы не находим важного содержания произведений высшего класса. Более того, и именно это должно способствовать формированию верного представления о подлинной платоновской форме, и нам нет необходимости сначала абстрагировать её, как те два других критерия, из крупных трудов по аналогии, пределы применимости которой всё ещё не могут быть определены с уверенностью; но она, в каждом существенном пункте, является естественным следствием представлений Платона относительно философской коммуникации и должна поэтому обнаруживаться, вообще говоря, в той же мере, в какой существует последнее.
Ибо она есть не что иное, как непосредственное воплощение в практику тех методических идей, которые мы развили из первого принципа Платона относительно способа, каким письмо действует. Так что та же особенность философа, которая оправдывает нас в поиске пронизывающей связи во всех его трудах, также открывает нам то, что даёт вернейший критерий для суждения об их подлинности, и таким образом решение обеих проблем произрастает из общего корня.
Теперь диалогическая оболочка уже была представлена выше как внешнее условие этой диалогической формы, и её почти незаменимая схема, но только там, где, живо постигая цель подражания устному наставлению, которое всегда имеет дело с определённым предметом, она дополнительно добавляет к этому особую характеристику, примесь которой и образует платоновский диалог. Я говорю о той мимической и драматической особенности, посредством которой лица и обстоятельства становятся индивидуализированными, и которая, по общему признанию, распространяет так много красоты и очарования на диалоги Платона.
Его великие и общепризнанные произведения ясно показывают нам, что он не пренебрегает этой примесью даже тогда, когда наиболее глубоко поглощен предметом, как, с другой стороны, они обнаруживают нам почти повсеместно, что он допускает ее наиболее обильно, когда содержание не ведет так далеко в темную торжественность умозрения. Отсюда мы можем с уверенностью заключить, что эта своеобразная форма никогда не может полностью отсутствовать, и что даже в самом незначительном опыте, который он предпринял, будь то как этюд или случайное произведение, Платон применил нечто от этого искусства. Более того, отсутствие этого, без сомнения, является первой вещью, которая, по чувству всякого читателя, должна отличать как неплатоновские диалоги, отвергнутые с древности, так это является правильной основой, на которой покоится то старое критическое суждение, что все диалоги без введений должны быть отвергнуты, за исключением того, что эта формула выражает факт весьма частично и несовершенно.
К внутреннему и существенному условию платоновской формы принадлежит всё в композиции, вытекающее из цели принуждения ума читателя к самостоятельному порождению идей; то частое возобновление исследования с другой точки зрения, при условии однако, что все эти нити действительно сходятся в общем центре; то движение, часто по видимости своенравное, и извинимое лишь благодаря свободному характеру, который может иметь диалог, но которое тем не менее всегда полно значения и искусства; далее, сокрытие более важного объекта под более незначительным; косвенное начало с какого-либо отдельного случая; диалектическая игра с идеями, под которой, однако, связь с целым и с первоначальными идеями непрерывно развивается: вот условия, некоторые из которых необходимо должны обнаруживаться во всех действительно платоновских трудах, имеющих какое-либо философское значение.
Между тем должно быть очевидно, что этот характер может проявиться в полном свете лишь пропорционально важности предметного содержания, и мы здесь видим прежде всего, как, когда мы заняты Платоном, задача доказательства подлинности любого диалога и исследование его надлежащего места взаимно поддерживают и проверяют друг друга. Ибо в любом диалоге, который непосредственно рекомендует себя своим языком и который явно трактует платоновские предметы, чем совершеннее эта форма отпечатана на нём, мы не только можем признать его подлинным с тем большей уверенностью, но поскольку все эти художественные приёмы отсылают назад к предыдущему и вперёд к последующему, это необходимо будет тем легче определить, к какому главному диалогу он принадлежит или между какими лежит, и в какой области развития платоновской философии он может служить просветляющей точкой. И подобным же образом, наоборот, чем легче присвоить любому диалогу его место в ряду других, тем более отчётливыми должны становиться эти связи посредством тех средств, и диалог присваивает себя Платону с большей уверенностью.
Итак, эти диалоги, в которых платоновское содержание соединено в должной пропорции с платоновской формой, и оба предстают в достаточной мере явными, составляют второй класс платоновских трудов, который, даже без обращения к довольно веским свидетельствам, которые также появляются в поддержку некоторых из них, достаточно удостоверяет себя своим отношением к первому классу и связью с ним.
Но чем более недостаточен диалог в отношении формы, и когда содержание представляется достаточно слабо соотнесённым с ней, тем более подозрительной, несомненно, становится подлинность этого диалога, особенно поскольку другие элементы платоновского характера должны быть менее отчётливо воспринимаемы. Ибо даже сами мысли будут тогда выдавать меньше духа Платона, и язык также будет иметь меньше возможности развиться во всей своей силе и красоте, поскольку так много от обоих связано с теми особенностями композиции. Таким образом, по мере уменьшения отчётливости формы, убеждённость в подлинности уменьшается подобным же образом во всех отношениях, до тех пор, пока, по мере того как на её место приходит больше подозрений и сомнений, она постепенно становится менее правдоподобной, что Платону, которому было так легко и естественно возводить все частные идеи и отдельные мнения к его великим первоначальным принципам, следовало бы представить каким-либо иным образом любой предмет в области философии, где каждый может быть так обработан, потому что он должен был бы таким образом, не достигая ни одной из его хорошо известных целей и без всякой цели, переместиться в вынужденное положение.
Относительно таких диалогов, следовательно, необходимо представить особое доказательство возможности их платоновского происхождения, и по меньшей мере должно быть показано преобладающая вероятность в их пользу, чтобы предотвратить их отвержение, и это с полнейшей справедливостью. Но даже предполагая, что чаши весов колеблются, и что вопрос не может быть решён вообще, даже эта непрекращающаяся неопределённость не поставит систематизатора платоновских трудов в какое-либо затруднение. Ибо диалоги этого рода никоим образом не принадлежат к списку, который он стремится составить, ибо, даже предполагая их подлинность доказанной, это было бы лишь в том случае, когда особая цель или конкретный повод для существования подобных разнородных произведений был бы указан, так что в любом случае они могут быть лишь случайными произведениями, которые по самой своей природе безразличны для этого исследования.
Следовательно, легче также решить вопрос о подлинности всего, что может принадлежать к связанной системе, которую ищет систематизатор, и всё, в чём исследование их подлинности может либо вообще не быть выяснено, либо лишь на других основаниях, переходит немедленно и само собой в третий и безразличный для него класс. Я говорю не только о тех произведениях, которые сомнительны из-за определённого их несоответствия, но также и о тех в платоновском собрании, которые никоей мерой не попадают в область философии и чья подлинность, следовательно, не может быть оценена согласно тем же правилам, что и других.
Итак, сохраняется за нами право исследовать с самых основ взаимосвязь сочинений Платона и расположить их в таком порядке, который с наибольшей вероятностью минимально отклоняется от того, в котором их написал сам Платон; и это начинание не подвергается опасности, даже если предположить, что окончательное суждение о подлинности многих диалогов должно оставаться в подвешенном состоянии для будущих времён или для более проницательной и лучше подготовленной критики.
Таким образом, поскольку отличительные признаки подлинности и вытекающие из них различные обстоятельства создания сочинений Платона были вкратце очерчены, остаётся точно так же представить читателю первоосновы их взаимосвязи и основанной на ней последовательности, в виде предварительного общего обзора всего корпуса. Ибо детальное показание того, как каждый диалог вписывается в остальные, должно быть отложено для отдельных введений к каждому из них; здесь же мы можем лишь дать отчет о принципах, лежащих в основе общего плана.
Если же, продолжая, мы будем придерживаться несколько ограниченного выбора важнейших произведений Платона, в которых лишь одних, как уже упоминалось, можно в совершенстве обнаружить основную нить этой связи, то некоторые из них выделяются среди всех прочих тем, что лишь они содержат объективное научное изложение; например, «Государство», «Тимей» и «Критий». Все свидетельства сходятся в том, чтобы отвести этим диалогам последнее место: как традиция, так и внутренний характер, хотя и в разной степени, – зрелость высшего порядка и глубокая старость; и даже то незавершённое состояние, которое они обнаруживают при рассмотрении их взаимосвязи. Но более всего этот вопрос решает сама суть дела; поскольку эти изложения опираются на исследования, pursued ранее, которыми в большей или меньшей степени заняты все диалоги; на природу познания вообще и философского знания в частности; и на применимость идеи науки к объектам, рассматриваемым в тех трудах, – к самому Человеку и к Природе.
Может статься, что между «Государством» и «Тимеем» и пролегал большой промежуток времени; но не следует предполагать, что Платон в этот промежуток составил какие-либо из оставшихся нам произведений, или же вообще любые, которые могли бы должным образом входить в связь с ними, за исключением «Законов», если их считать частью связанной серии, ибо мы обладаем прямым свидетельством относительно них, что они были написаны после книг о «Государстве». Но эти книги вместе с «Тимеем» и «Критием» образуют неразрывное целое, и если бы кто-то сказал, что «Государство», как должным образом представляющее этическую и политическую науку, хотя и написанное позднее тех диалогов, в которых рассматривается природа добродетели, её способность быть преподаваемой и идея блага, тем не менее могло быть очень легко написано раньше диалогов, непосредственно подготавливающих «Тимей», а именно тех, которые стремятся разрешить проблему причастности вещей идеям и рода знания, которым мы обладаем о природе; это было бы не только столь же неплатонично, согласно сказанному выше, как и всё что угодно, и предполагало бы грубейшее неведение тех подготовительных работ, в которых такое разделение предметов не обнаруживается; но из этого бы следовало, в частности, что «Политик», который является подготовительным к «Государству» в точно таком же отношении, как «Софист» к «Тимею», был написан раньше, и причем на значительный период, чем сам «Софист», который, тем не менее, в соединении с «Политиком» составляет лишь один диалог и является, по сути, его первой частью.
Но «Государство», как явно наиболее раннее из должным образом излагающих произведений, сразу же предполагает существование всех диалогов, не принадлежащих к этому классу, и это великолепное сооружение содержит, словно встроенные в его основание, краеугольные камни всех тех благородных арок, на которых оно покоится, и которые, прежде чем войти в то здание, чьей опорой они являются, если рассматривать их только в связи с самими собой и обозревать непосредственно в их собственной сфере, можно было бы, не будучи в состоянии угадать их предназначение, счесть бесцельными и несовершенными.
Следовательно, если «Государство» никак не допускает отделения от последующих за ним «Тимея» и «Крития», то всякий, кто стал бы возражать против занимаемого ими совместно места, должен предположить, что Платон вообще предпослал готовое изложение и лишь затем добавил элементарные исследования принципов. Но всё – как манера, в которой эти принципы вводятся в самих излагающих трудах, и в которой они исследуются в подготовительных, так и всякое возможное представление о духе Платона и стиле его мысли, – настолько сильно противоречит принятию такого обратного порядка, что едва ли нужно что-либо говорить по этому поводу; достаточно лишь спросить любого, какие диалоги он стал бы читать в этом порядке, и затем предоставить его собственным чувствам относительно обратного процесса и жалкой уловки, что исследования, ведущие назад к принципам, теперь по необходимости будут проводиться с лицами, ничего не знающими о предшествующих изложениях, чтобы отсечь все естественные отсылки к ним. Более того, вместо тех отсылок, которые он будет тщетно искать, другие отношения спонтанно навязывались бы повсюду сознанию любого, читающего в этом порядке, ясно указывая на противоположное расположение.
Надеюсь, никто не станет возражать, что в основном дело обстояло бы так же и с предлагаемым здесь порядком, поскольку согласно ему, предмет нередко предвосхищается мифически, который появляется лишь позднее в своей научной форме. Ибо сам факт, что это делается лишь мифически, не только точно согласуется с той главной целью Платона – побудить своих читателей к самостоятельному порождению идей, на признании которой покоится вся наша систематизация, но и является даже сам по себе ясным доказательством того, насколько твёрдо был убеждён Платон, что в философствовании, должным образом так называемом, необходимо начинать не с составной теории, а с простых принципов. Более того, всякий, кто глубже проникает в изучение Платона, тогда, и не ранее, осознает, как постепенное развитие и формирование платоновских мифов образуют один фундаментальный миф, равно как и переход многого мифического в научную форму, предоставляет новое доказательство в пользу правильности порядка, в котором всё это может быть воспринято наиболее ясно.
Таким образом, необходимость отводить последнее место конструктивным диалогам с любой точки зрения столь велика, что если бы и были обнаружены обоснованные исторические следы более раннего создания «Государства» до любого из тех подготовительных диалогов, – хотя таких до сих пор не найдено, и, что более важно, не будет найдено, – мы не могли бы избежать самого серьёзного противоречия с нашим суждением о Платоне, и мы были бы крайне смущены, как примирить этот случай неразумия с его обширным интеллектом.
Поскольку, таким образом, эти конструктивные диалоги несомненно являются последними, некоторые, с другой стороны, из оставшихся столь же явно выделяются как первые; например, продолжая придерживаться лишь первоклассных, – «Федр», «Протагор» и «Парменид». Ибо они противопоставляются первым, во-первых, свойственным им весьма своеобразным характером юношества, который легче всего распознать в первых двух, но даже в последнем не ускользнёт от внимательного глаза. Кроме того, обстоятельством, что как первыми предполагаются все остальные, так, напротив, повсеместно обнаруживаются многочисленные отсылки к этим последним как к ранее существовавшим; и даже взглянув только на отдельные мысли, они предстают в этих диалогах всё ещё как бы в первом блеске и неуклюжести ранней юности. И далее, эти три диалога в самом деле не подобны тем трём последним, сработаны в одно целое с определённой целью и с большим искусством, но, тем не менее, взаимно связаны теснейшим образом сходством во всей конструкции, едва ли когда-либо встречающимся вновь в той же степени, многими сходными мыслями и множеством отдельных намёков.
Но самое важное в них – это их внутреннее содержание, ибо в них развиваются первые проблески того, что является основой всего последующего: Логики как инструмента Философии, Идей как её собственного объекта, следовательно, возможности и условий познания. Эти диалоги, таким образом, в соединении с некоторыми примыкающими к ним диалогами меньшего разряда, образуют первую и, как бы, элементарную часть сочинений Платона.
Остальные занимают промежуток между этими и конструктивными, поскольку они постепенно рассматривают применимость тех принципов, различие между философским и обыденным знанием в их совместном применении к двум предложенным и реальным наукам, а именно – Этике и Физике. В этом отношении также они стоят посередине между конструктивными, в которых практическое и теоретическое полностью объединены, и элементарными, в которых оба разделены более, чем где-либо ещё у Платона.
Они, итак, образуют вторую часть, которая отличается особой и почти трудной искусственностью, как в конструкции отдельных диалогов, так и в их постепенной связи, и которую для различия можно было бы назвать косвенным методом, поскольку она начинается почти повсеместно с противопоставления противоположностей.
Таким образом, в этих трёх разделениях произведения Платона здесь и будут предложены читателю; так что в то время как каждая часть расположена согласно её очевидным характеристикам, диалоги также второго ранга занимают именно те места, которые, после должного рассмотрения каждого пункта, кажется, принадлежат им. Только должно быть позволено, что в отношении этого более тонкого расположения, не всё имеет равную достоверность, поскольку при его осуществлении необходимо учитывать две вещи: естественную последовательность развития идей и разнообразие отдельных намёков и отсылок.
Что касается произведений первого ранга, то первый из этих двух факторов вообще совершенно решающий и никогда не нарушается характером второго рода. Так, в первой части преобладающим предметом является развитие диалектического метода, и отсюда, очевидно, «Федр» – первый, а «Парменид» – последний, отчасти как самое совершенное изложение его, отчасти как переход ко второй части, потому что он начинает философствовать об отношении идей к действительным вещам. Во второй части преобладающим предметом является объяснение знания и процесса познания в действии, и во главе той части стоит «Теэтет» вне возможности ошибки, поскольку он берёт этот вопрос с его первого корня, «Софист» с присоединённым «Политиком» – в середине, в то время как «Федон» и «Филеб» завершают её как переходы к третьей части; первый – из-за предварительного наброска натурфилософии, второй – потому что в его обсуждении идеи Блага он начинает приближаться к совершенно конструктивному изложению и переходит к прямому методу.
Расположение побочных произведений второго класса не всегда вполне столь же решительно, поскольку, во-первых, некоторые являются лишь расширениями и дополнениями того же главного труда, как в первой части «Лахес» и «Хармид» по отношению к «Протагору», и в них, таким образом, мы можем только следовать определённым частным, и не всегда очень определённым, указаниям; и, во-вторых, некоторые из них могли бы быть переходами между теми же крупными диалогами, как во второй части «Горгий» вместе с «Меноном» и «Евтидемом» в совокупности являются прелюдиями, расходящимися от «Теэтета» к «Политику»: так что мы должны остаться удовлетворёнными накоплением вероятностей, собранных сколь возможно точно из всякого источника.
Третья часть не содержит иного подчинённого труда, кроме «Законов», к которым, несомненно, не только в связи с тем важным тройственным трудом, но и рассматриваемым самим по себе, мы должны дать это название, и сказать, что, хотя и обильно проникнутые философским содержанием, они всё же образуют лишь побочное произведение, хотя, благодаря их обширному охвату и подлинному платоновскому происхождению, они вполне вправе принадлежать к произведениям первого класса.
Наконец, что касается тех диалогов, которым с точки зрения принятой в расположении точки зрения мы отвели в совокупности третье место, хотя они, в пункте подлинности, имеют весьма различную ценность, они будут распределены в виде приложений ко всем трём разделам, в зависимости от того, отводят ли им исторические или внутренние свидетельства, поскольку они платоновские, вероятное место, или же в зависимости от того, с каким диалогом – этим или тем – сравнение особенно облегчает их критическое рассмотрение. Ибо они также должны иметь привилегию, принадлежащую им, – быть обеспеченными всем, что может быть сказано в кратком пространстве для их прояснения и приближения их дела к решению.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе