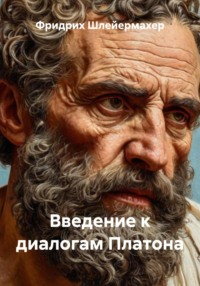Читать книгу: «Введение к диалогам Платона», страница 6
III. Протагор
Перед нами предстают знаменитейшие мужи той эпохи, выступившие в роли наставников эллинской юношества: прежде всего Протагор, который из всех мастеров спора и красноречия, в силу основополагающего принципа своего искусства, более всех заслуживал стать предметом изучения для философа, подобно тому как и сам он в древности именовался философом и был удостоен такой чести; далее, учёный Гиппий, сведущий в истории и древностях, богатый сокровищами искусства и памяти; и Продик, прославившийся главным образом своими филологическими трудами и, пусть как менее значительная фигура, вносящий вклад в общее впечатление; а также друзья и почитатели этих мудрецов – цвет афинской юности, знаменитой отчасти благодаря своим отцам, отчасти же в последующие времена – собственными деяниями в качестве полководцев, демагогов и поэтов; сыновья Перикла, его воспитанник Алкивиад, Критий, Агафон и другие, которые, хоть и присутствуют в качестве безмолвных зрителей, возвышают пышность и блеск всего собрания. Именно в общество этих людей, вместе с Сократом и одним юношей, которого тот должен рекомендовать Протагору в ученики, и вводит нас этот богато украшенный диалог. И более того, он вводит нас в самый блистательный и роскошный дом Афин – дом Каллия, богатейшего гражданина, друга Перикла (приходившегося ему сводным братом после замужества его матери на Гиппонике, от которого она ушла), зятя Алкивиада, женатого на его сестре Гиппарете, узнаваемого и высмеиваемого комическими поэтами как самого ревностного и щедрого покровителя софистов, чьё безудержное мотовство в конце концов положило конец древнему блеску его дома, ведущего свою историю почти со времён Солона.
Вот мудрые и благородные персонажи, участвующие в диалоге, который Сократ здесь излагает своему другу сразу по его окончании; не требуется никаких дополнительных предварительных сведений о них, поскольку все они, и особенно последние, отражаются в самом произведении столь ясно и отчетливо, что оно является одним из первостепенных и важнейших источников, из которых можно почерпнуть знание об их характерах.
Однако вопрос о том, как это собрание было организовано, нельзя обойти стороной, поскольку еще в древности диалогу ставили в упрек, что его автор смог наделить его таким обилием важных персон лишь самым недопустимым образом – посредством грубых нарушений хронологической последовательности и дат. Ибо находятся несколько свидетельств, которые, казалось бы, указывают на то, что Платон представлял действие диалога происходящим не ранее 90-й олимпиады. Так, Гиппоник, отец Каллия, вообще не упоминается, а Протагор останавливается непосредственно у последнего, который предстает исключительно как полноправный хозяин; между тем Гиппоник погиб в битве при Делое не позднее начала 89-й олимпиады. Более того, что решающе важно, упоминается комедия Ферекрата «Дикари», поставленная в предыдущем году и украсившая Ленейские игры в последний год 89-й олимпиады.
Афиней, таким образом, исходит из этой точки и обвиняет Платона в двух погрешностях: во-первых, что Гиппий Пелопоннесский не мог находиться в Афинах в какое-либо иное время, кроме как во время перемирия при Исархе, в первый год 89-й олимпиады (против чего Дасье в своем предисловии к переводу «Протагора» пытается оправдать Платона); и далее, что Платон в первый год 90-й олимпиады не мог сказать о Протагоре, что тот прибыл в Афины три дня назад, поскольку он выведен в комедии Евполида «Льстецы» как уже присутствующий в третий год 89-й олимпиады.
Но даже если кто-то склонен согласиться с Дасье относительно первого пункта, а относительно второго – отвергнуть свидетельство комического поэта, который, как и Платон, мог позволить себе вымысел, все же дело на этом не заканчивается, поскольку существует несколько бесспорных свидетельств, всячески противоречащих датировке диалога этим годом и заставляющих отнести его к более раннему времени; и удивительно, что они не упомянуты в том критическом пассаже Афинея, хотя он приводит их в других местах.
Ибо, во-первых, Сократ обращается с Протагором как с еще молодым человеком и даже сам себя таковым называет, чего он не мог делать всего за двадцать лет до своей смерти. Кроме того, Алкивиад, который всего через год после предполагаемой Афинеем даты именуется стратегом, здесь назван юношей с пушком на щеках, а Агафон, увенчанный как трагический поэт в той же олимпиаде, – мальчиком. Более того, что самое решительное доказательство, о Перикле говорится как о еще живом, а его сыновья, умершие раньше него от чумы, присутствуют в собрании, откуда явственно следует, что действие диалога отнесено ко времени ранее третьего года 87-й олимпиады.
Поскольку столь многие второстепенные детали (совершенно не существенные для сути диалога, как, например, Агафон и сыновья Перикла) совпадают с этой последней эпохой, очевидно, что именно она наиболее ясно представлялась Платону и которую он действительно намеревался соблюсти при написании произведения. Что же касается свидетельств в пользу более поздней даты, то можно спросить: не была ли комедия Ферекрата уже поставлена до упомянутого Афинеем представления, будь то в том же или в менее совершенном виде, особенно учитывая, что здесь речь идет о представлении на Ленеях; ибо невозможно допустить мысль об оплошности, совершенной Платоном, если предположить, что он здесь вернулся ко времени, в которое действительно писал.
Подобным же образом можно усомниться, действительно ли необходимо считать Гиппоника умершим, и не мог ли он отсутствовать, быть может, в армии под Потидеей, если не рассматривать второй год 87-й олимпиады, когда Гиппоник командовал войском против танагрейцев. Во всяком случае, скорее можно допустить, что Платон перенес в неподходящий период это одно обстоятельство, важное для его замысла, нежели что он намеренно поступил так с деталями малозначительными и несущественными; и в этом случае «Дикарей» Ферекрата также можно было бы приурочить к этой дате, дабы не оставлять этот вымысел в совершенной изоляции и сохранять более двусмысленным то, что нельзя было ясно установить.
Ибо Платон не мог выбрать лучшего места для этого зрелища, чем дом Каллия, и, вероятно, «Льстецы» Евполида послужили поводом для этой идеи и соблазном для такой вольности. И столь же необходима была для него та более ранняя эпоха, когда те мудрецы были действительно в зените своей славы и, таким образом, могли быть собраны в Афинах; и когда, более того, это поколение ищущих знаний юношей еще не было посвящено делам государственным и военным. Более того, это, должно быть, коробило чувство приличия Платона – изображать Сократа в годы его приближающейся старости участвующим в такой схватке-апоне с софистами и выставлять даже Протагора, к которому он не может не питать определенного уважения, мишенью такой сократической иронии в его действительно преклонных летах.
И даже здесь то, что говорит Протагор, хвастливо преувеличивая свой возраст, и то, как Сократ уничижительно отзывается о собственной молодости, может быть не без цели, но имело намерение бросить тень насмешки на стандарты тех, кто, быть может, упрекал самого Платона в его молодости. Ибо Протагор был изгнан из Афин в начале 92-й олимпиады, во время переворота, осуществленного Антифонтом из Рамнунта, и умер, как полагают, в изгнании, по одним сведениям, семидесяти, по другим – девяноста лет от роду. Если же мы будем искать истину даже между этими двумя датами, хотя Платон в «Меноне» явно склоняется к первому мнению, то все же пятью олимпиадами ранее он не мог так хвалиться своей старостью перед Сократом, которому было тогда почти сорок лет, без некоторой доли преувеличения.
Следовательно, я бы, продолжая, если считается невозможным разрешить противоречия в датировках, остановился на том, что более раннее время – это то, которое соответствует природе диалога и в которое Платон истинно желал бы перенести читателя, и что от более поздней даты примешаны лишь некоторые незначительные обстоятельства, возможно бессознательно, в качестве украшения. Ибо в конечном счете это не более чем поверхностный приём – удовлетвориться простым предположением, что разные даты смешаны друг с другом, и что эта кажущаяся путаница не проистекает из метода и совести древнего автора.
Но пора перейти от менее важного исследования внешних обстоятельств к рассмотрению внутреннего содержания этого несколько сложного диалога, возможно не столь основательно понятого, сколь многообразно восхваляемого. Действительно, очень легко разделить различные разделы и вывести тему каждого из них в отдельности по порядку; но тот, кто думает, что он тем самым постиг смысл целого, провозглашая замысел и композицию легкими и простыми, едва ли может предположить, что этот диалог находится в каком-либо ином положении, кроме самого худшего, и это – с большой несправедливостью. Ибо он должен предположить, что в основе целого не лежит никакая объединяющая идея, но что все вытекает случайно из предшествующего, столь же без единства, сколь без искусства и цели. Напротив, тот, кто не желает упустить предмет и идею целого, в котором много сложного переплетено повсюду, должен точно проследить связь каждой отдельной части, и именно в них читателю теперь предстоит предварительно вникнуть.
Отлично, продолжаю работу в заданном ключе: редактура с сохранением стиля и смысла, исправлением опечаток и приведением к философской терминологии эпохи.
1. Прежде всего Сократ стремится посредством скептического исследования природы и особого искусства софистов привести молодого человека, желающего быть представленным Протагору, к размышлению о своей цели. Это исследование как бы продолжается самим Протагором, столь же косвенно, хотя и с иной точки зрения, в краткой лекции, прочитанной после соответствующей просьбы, о масштабах и древности софистики. И в этом он отчасти обнажает смелость своего публичного признания этому ремеслу, отчасти выводит саму вещь как весьма древнюю, правда, не из древнейших философов, но из поэтов и творцов. Однако ничего ясного или определенного относительно этого искусства не выходит, пока Сократ в кратком диалогическом разделе не извлекает из него следующее: что политическая добродетель и есть истинно то, что составляет предмет его обучения.
2. После этого Сократ в непрерывной речи выдвигает положение, слегка набросанное, но подкрепленное примерами и выражениями общего мнения, что никакое наставление в этом деле не может быть передано; чему Протагор предлагает встречное доказательство, отчасти в мифе о происхождении людей и общественной жизни, отчасти также стараясь в некоторых дальнейших исследованиях обратить те же примеры обычных способов действия, которые выдвигал Сократ, в пользу своего собственного предложения.
3. По случаю приведенного Протагором, Сократ, после некоторых предварительных намеков относительно разницы между эпидейктической лекцией и диалогом, присоединяет обсуждение в последней форме вопроса о единстве или множественности добродетелей, в котором он сначала принуждает своего оппонента, утверждающего их множественность, противопоставить справедливость и благочестие друг другу, а затем, когда Протагор с большим трудом выпутывается из этой дилеммы, Сократ вежливо прерывает его, вынуждает у него в новой попытке признание, что также рассудительность и мудрость должны быть тождественны, и, наконец, находится на пороге доказательства того же относительно справедливости, когда Протагор, резко отстраняясь, чтобы разорвать нить, выдвигает длинное, но исключительно эмпирическое обсуждение природы Блага.
4. Отсюда естественно возникают новые разъяснения относительно природы диалога, и в то время как приходится вступать в новые условия для состязания, поскольку дело приняло форму регулярного философского агона, к возрастающему удовольствию благородных юношей, чем ближе оно приближалось к этой форме, Продик и Гиппий теперь находят возможность выступить по-своему, с краткими речами. И Сократ также, относительно предложения выбрать арбитра, излагает свое мнение в форме, которая при всей своей краткости выделяется среди прочих строгим соблюдением диалектического процесса.
5. Согласно условиям, предложенным Сократом, Протагор теперь становится вопрошающим и, введя поэму Симонида, продолжает диалог о добродетели, без однако какого-либо видимого определенного пункта, к которому он бы вел этим методом, но лишь с намерением вовлечь Сократа в противоречия. Сократ же, сначала как отвечающий, не только отражает Протагора, но также ведет далее приятный побочный спор с Продиком, а впоследствии сам объясняет эту поэму в непрерывном рассуждении, в котором положение, что все зло есть лишь волящее от заблуждения, принимается за общее мнение всех мудрецов, а также вводится вывод философии из житейской мудрости лакедемонян и критян, но в конце концов, принимая серьезный тон, обсуждение завершается выводом, что такими аргументациями, взятыми у поэтов, ничего нельзя обрести для установления идей.
6. После этого, наконец, диалог возобновляется, и Сократ теперь является вопрошающим в нем и в этом качестве продолжает показывать, что добродетель есть лишь одно – знание, наука, а именно того, что должно быть сделано. Сначала он показывает это на примере мужества, и, устранив лишь внешне убедительное возражение Протагора, он заставляет его допустить, наполовину добровольно, что нет блага, кроме удовольствия, и нет зла, кроме страдания, откуда следует, как очень легкое следствие, что вся добродетель есть не что иное, как наука расчета и сравнительного измерения. И таким образом противоречие выводится на свет самим Сократом: с одной стороны, Протагор, который все еще утверждает свою способность учить добродетели, отказался допустить, что она есть наука, в то время как с другой стороны, сам Сократ взял на себя труд доказать это, хотя его цель заключалась в том, чтобы оспаривать всякое предположение в пользу возможности обучения Добродетели.
Из этого краткого изложения деталей должно быть сразу достаточно ясно, что даже здесь общие методы рассмотрения диалога, поскольку они не могли объять целое, но довольствовались частью, потерпели, можно сказать, полную неудачу. Некоторые, например, разделяя неразделимое, как они это делают даже в пластических искусствах, направляли свое внимание исключительно на то, что можно считать лишь колоритом целого – непрерывную иронию, которой, конечно, восхищался каждый читатель этого диалога. Действительно, нельзя не заметить, что Платон здесь позволяет этому своему особому таланту играть в широчайшем диапазоне и с большим самоосознанным мастерством, отчего те, кто высоко ценит его изучение Мимов и его приближение к комическому, легко могут усвоить представление, что это ироническое обращение, или, можно сказать, уничтожение софистов, следует понимать как главный объект «Протагора». Это, конечно, не место решать, были ли эти приобретенные совершенства (по крайней мере, такими их представляют) ценимы в той же степени и в том же смысле самим Платоном, как некоторыми из его поклонников; однако две вещи несомненны и достаточны для оправдания взгляда, принятого в данном случае. Ибо, с одной стороны, то, что каждый глаз, даже невнимательный, повсеместно наблюдает в диалоге, далеко не является высшим родом иронии – ни Платона вообще, ни этого произведения в частности, но лишь то подчиненное подражательное окрашивание, которое можно встретить нередко даже среди современников, в остальном столь мало склонных к иронии, под более современным названием. Опять же следует заметить, что всякое подражание особенностям и манерам отдельных лиц проистекает лишь из стремления к истине в представлении говорящих и, следовательно, предполагает, что нечто должно быть сказано, и что это такое, что, следовательно, это ироническое подражание может встречаться где угодно у Платона, и несомненно встречается, когда какая-либо точка обсуждается с этими противниками сократовской мудрости и образа мышления, не только как простое украшение, но как средство, связанное с целью, чтобы сделать истину целого ощутимой и аутентифицировать ее тщательным устранением всего неестественного и преувеличенного; но что по той же самой причине оно никогда не должно рассматриваться как первый или истинный объект, потому что тогда, во-первых, преувеличение было бы неизбежным, а во-вторых, философский объект, без которого несомненно ни одно крупное произведение Платона не создавалось, должен был бы быть либо подчиненным, либо полностью отсутствовать.
Другие, напротив, слишком жаждущие настоящего сокровища и не являющиеся даже удачливыми искателями, поскольку они искали, не зная почвы, придерживались лишь одного из поставленных вопросов, как если бы именно он долженствовал быть здесь решён – будь то вопрос о передаваемости добродетели или о её единстве или множественности; ибо любой, кто таким образом берётся лишь за некоторый частный пункт, необходимо должен колебаться. И как недостаточен этот подход, видно из того факта, что с такой точки зрения некоторые части диалога не допускают никакого объяснения как бы то ни было; как, например, два упомянутых источника софистического искусства и Философии, и всё обсуждение относительно поэмы Симонида, более того, что даже такой материал, который более тесно связан с теми вопросами, не продвигается, но постоянно начинается снова сначала, почти натянуто и несомненно своеобразно: более того, чтобы выразить это словом, как мог главный пункт целого быть вовлечённым в исследование, о котором в конце его сказано, иронически, действительно, с одной стороны, но весьма истинно с другой, что что касается доведения его до решения, то оно велось плохо и запутанно достаточно.
Теперь, кто обращает внимание не только на тот или иной пункт в этом диалоге, но на всё, на часто рассыпанные мимоходом намеки, которые у Платона менее, чем у кого-либо из писателей, допускают возможность быть пропущенными, на изменение формы в разных разделах, на то, что постоянно повторяется в этих разделах и между ними, несмотря на всю многочисленность предметов – кто делает это, тот распознаёт в этом самом споре относительно формы и метода главную цель целого; цель, а именно, восхвалить и возвысить диалогическую форму Сократа и провозгласить ее как истинную форму всякого подлинного философского общения, в противоположность всем софистическим формам, все из которых, следовательно, появляются, не исключая даже метода комментирования отрывков поэтов. Если мы поместим себя в эту истинную центральную точку произведения, мы увидим, во-первых, самым решительным образом, как очень тесно этот диалог соединяется множеством ответвлений с «Федром». Ибо если там выставляется внутренний дух философского процесса, то здесь открывается внешняя форма, и то, что проистекает, как таковое, критикуется. Далее, как в том диалоге исследование относительно метода было также переплетено с изложением коммуникативного импульса, и не обычного, цель которого из чувства тщеславия распространять ложно так называемое и действительно пустое знание, но импульса, который должен формировать ум посредством идей, так что все остальное основано на этическом как основе сократовской философии; так и здесь вопрос о возможности удовлетворения того импульса является предметом, на котором разные формы должны проявить себя и подвергнуться сравнению, и притом таким образом, что в этом диалоге также аргумент исключительно трактует о коммуникации этического, что и составляет самый смысл вопроса о передаваемости добродетели. Более того, даже в том, что касается внешнего построения целого, проявляется поразительная связь между двумя, поскольку в этом диалоге также возникает форма устроенного состязания согласно тогдашнему состоянию дел; только еще более ярко изложенная, так как в то время софисты были связаны с философами более тесно, чем ораторы, так что даже полемический поворот «Федра» является быть здесь продолженным и развитым. Более того, с этой точки зрения целого и каждой отдельной части на своем месте внятно проявляется, и то движение, которое почти с любой другой точки кажется лишь круговым, теперь приобретает, напротив, вид прекрасного и правильного progression. Ибо в то время как путем сравнения форм недостаток софистических методов становится все более очевидным, чем дальше этот диалог продвигается, и обнаруживает себя еще более в примерах: того, как легко эпидейктическая речь позволяет себя, чтобы увести слушателей от истинной сути вопроса, и насколько даже то, что красиво по внешности, несколько лиц вместе могут выбросить, никогда не понимая друг друга, и как, напротив, диалогическая форма выводит на свет истинное значение каждого, выслеживает пункт различия и, при условии только, что она не встречается с одной стороны полным отсутствием всякого смысла, обнаруживает первоначальную ошибку; согласованно со всем этим, посредством постоянно возобновляемых изложений предмета со всех сторон, причины всегда и постоянно развиваются, которые должны препятствовать софистам достичь лучшего метода и которые делали их вполне довольными создавать худший. И эти причины – отсутствие подлинного философского импульса и низменного предприятия и цели, ради которых они главным образом упражнялись в своем искусстве. И эта гармония, которая должна оказывать свое воздействие, как все прекрасное в искусстве, даже хотя она не распознана на своих собственных основаниях, несомненно по большей части является источником крайнего восхищения, которое большинство читателей испытывают к этому совершенному произведению.
Таким образом, первая речь Протагора сразу же обнаруживает его самодовольство и скупость – так в самом первом фрагменте диалога, где он довольствуется противопоставить обратное рассудительности также знанию, становится очевидным, когда добродетель должна быть разделена, и, следовательно, различие между теоретическим и практическим выдающимся получает, что он полностью лишен всякого понимания этого. Если бы, однако, это был кусок глупости, намеренно приписанный Платоном этому человеку, то в этом случае он был бы в достаточной мере лишен искусства. Но это, без сомнения, относится к чему-то, что Платон и его современники имели перед глазами, неважно, относилось ли это к Протагору или кому-то другому. Ибо этот философ здесь менее сам себя, чем представитель своей секты. Подобным же образом дальнейшее продолжение далее обнаруживает, что с Протагором обстоит не лучше в отношении различия между приятным и хорошим. И если, в заключении, когда Сократ обнаруживает ему великое противоречие, в котором он запутан, мы узнаём, что он не размышлял даже в малейшей степени об условиях, необходимых для обучения других, или о понятии добродетели, в котором он стал бы учить их; мы между тем убеждены, как далеко удалён он должен оставаться от того метода, великий принцип которого состоит в том, чтобы привести воспитанника философии к самосознанию и принудить его к самостоятельному мышлению.
Такой метод, итак, доказал себя между тем диалогический; это метод, который выявляет всё это к обозрению и применяет те проверочные точки, предлагая их для распознавания или отвержения, путём пренебрежения которыми, Протагор обнаруживает себя как личность, которая никогда не постигала моральную истину и, следовательно, никогда не старалась достигнуть моральные цели как конец своей философии. И именно проекция этих точек и испытание, может ли правильное быть каким-либо образом найдено, является целью многообразных искусных и диалектических поворотов, которые делает Сократ, которые могут быть ложно приняты за технические уловки и софизмы в нём лишь тем, кто полностью не знаком с платоновским методом. Напротив, если мы сравним их с исполнением «Федра», они являются самыми пунктами, которые сразу составляют ясное доказательство продвижения Платона как философского художника. Ибо в «Федре» мы действительно находим тот косвенный процесс, который образует как бы существенный характер всех диалогов Платона, особенно тех, что не являются непосредственно конструктивными, мы находим его, скажу я, вполне преобладающим во всей композиции, но только весьма скупо применённым в деталях; но в этом мы имеем его проведённым не менее в деталях, чем в целом вообще, так что «Протагор» в целом является более совершенной попыткой имитировать в письме живой и вдохновенный язык мудреца. Как также диалектические максимы обмана и разоблачения, изложенные в «Федре», приведены в практику с той тщательной старательностью, с которой способные ученики в искусстве, уже достигшие значительного прогресса, или восходящие мастера в том же, ищут всякую допустимую возможность в своих упражнениях для демонстрации какого-либо из открытых ими секретов перед глазами искусного адепта.
Но не только практическая диалектика и восхваляющее признание подлинной формы философского искусства появляются здесь далее развитыми, чем в «Федре», но и научная направленность усовершенствована. Утверждение, действительно, что добродетель есть знание того, что должно быть сделано или выбрано, и, следовательно, что порок есть лишь заблуждение, это утверждение, однако серьезно Платон мог быть, высказывая его, не здесь приведено в определённую форму и выдвинуто непосредственно как его мнение, но, оставленное как оно неопределённое, принадлежит скорее к сети, в которую он запутывает тех, кто еще не завладел истинной идеей блага; что проистекает частично из очевидно иронического обращения со всем положением, частично из связи, в которую оно так легко ставится с той совершенно не-сократовской и не-платоновской точкой зрения, что благо есть ничто иное, как приятное, частично также из проистекающего применения того, что в добродетели могло бы быть знанием и наукой, к искусствам измерения и арифметики. Но во всяком случае мы здесь находим некоторые косвенные намёки, стремящиеся к тому, что несомненно должно предшествовать решению вопроса, более точному определению, а именно, идеи знания. Таким образом кажущееся противоречие, которое сам Сократ обнаруживает, заключённое в том факте, что он оспаривает передаваемость добродетели, и всё же утверждает, что она есть знание, это очевидно является побуждением к размышлению об отношении знания к обучению, после рассмотрения того, что уже было сказано в «Федре» о природе идей. Противопоставление в отношении к Школе Гераклита между бытием (to einai) и становлением (to gignesthai), хотя в то же время ироническое как касается Протагора, имеет схожую тенденцию. Как и подчинённый вопрос о единстве или множественности добродетели является лишь частным случаем, принадлежащим более общему исследованию природы единства или множественности, или способа, в котором общие идеи сообщаются с частностями, так что учение об идеях здесь начинает переходить из мифической области в научную, и самыми принципами, выдвинутыми в нём, «Протагор» содержит, поверх своего собственного непосредственного объекта, зародыши нескольких последующих произведений Платона, и притом таким образом, что сразу даже из этого ясно, что он более ранней даты, чем все другие диалоги, в которых эти вопросы рассматриваются более подробно.
Что же касается мифа, выдвинутого Протагором, нет необходимости причислять его, как некоторые делали, добродушно возводя его возвышенный ранг, к числу собственных мифов Платона; напротив, если не собственность самого Протагора, как вероятно, хотя нет свидетельств подтвердить это предположение, всё же способ, в котором Платон применяет его, делает гораздо более вероятным, что он во всяком случае сочинён в его духе. Ибо именно как естественно для кого-то с грубо материалистическим образом мышления, чья философия не простирается далее, в людях рассматривается лишь как компенсация за их недостаточное телесное образование, и идея права с чувством стыда как необходимые условия для чувственного существования, и как что-то не введенное в умы людей до более позднего периода. Отсюда также доказательство, содержащееся в этом мифе, потому что Платон не мог придать никакой другой окраски такому взгляду, весьма ораторски изложенное, так как он не столько щадит исследования принципов, как делает нехватку их воспринимаемыми, поскольку даже то, что он должен объяснить, не связано с ходом повествования, но лишь приведено как команда Зевса. Оно также представляется странным по этой причине в отношении стиля и, вероятно, подражает Протагору.
И, относительно мнения Сократа о поэме Симонида, от которой ничего, кроме этого фрагмента, не сохранилось до нас, а именно, что оно должно быть порицанием апофтегмы Питтака, это не следует принимать лишь как шутку. По крайней мере, мы во владении другой поэмой, обще приписываемой Симониду, в которой сходство в способе и стиле с этой нельзя ошибиться, которая стоит в сходном полемическом отношении к эпиграмме Клеобула, процитированной в «Федре», который также сам был одним из семи мудрецов.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе