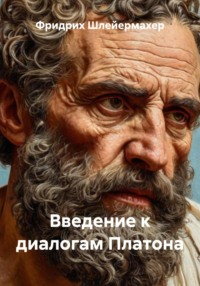Читать книгу: «Введение к диалогам Платона», страница 2
Но во всех отношениях, не случайно только, и не в силу практики и традиции, но непременно и естественно, метод Платона был сократическим, и, действительно, в отношении непрерывного и прогрессирующего взаимообмена и более глубокого впечатления на ум слушателя, несомненно столь же предпочтительным к методу его учителя, насколько ученик превосходил его как в конструктивной Диалектике, так и в богатстве и широте субъективной интуиции.
Поскольку же, несмотря на эту жалобу, Платон писал так много – от периода своей ранней зрелости до самого преклонного возраста, – ясно, что он должен был стремиться сделать письменное наставление как можно более похожим на тот лучший вид, и он должен был также преуспеть в этой попытке. Ибо даже если мы посмотрим только на непосредственную цель – что письмо, как он считал для себя и своих последователей, должно было быть лишь напоминанием об мыслях, уже бытующих среди них, – Платон рассматривает всякую мысль столь сильно как спонтанную деятельность, что у него напоминание такого рода о уже приобретённом непременно должно быть таковым и о первоначальном и изначальном способе приобретения. Следовательно по этой одной причине диалогическая форма, необходимая как подражание той изначальной и взаимной коммуникации, была бы столь же необходима и естественной для его сочинений, как и для его устного наставления.
Между тем, эта форма отнюдь не исчерпывает всего его метода, так как она часто применялась как современниками, так и в более поздний период к философским предметам без следа духа Платона или его великого искусства в управлении ею. Но даже в его устном наставлении, и ещё более в письменном подражании ему, если мы далее учтём, что целью Платона было приблизить ещё невежественного читателя к состоянию знания, или что он по крайней мере чувствовал необходимость быть осторожным с ним, чтобы не породить в его уме пустого и тщеславного представления о его собственном знании, – то по обоим этим причинам главной задачей Философа должно было было вести каждое исследование таким образом с самого начала, чтобы он мог рассчитывать, что читатель либо будет доведён до внутреннего и самостоятельно порождённого создания рассматриваемой мысли, либо вынужден будет подчиниться и самым решительным образом признать, что не обнаружил и не понял ничего.
Для этой цели же требуется, чтобы конечный объект исследования не был прямо провозглашён и изложен в словах – процесс, который очень легко может послужить тому, чтобы запутать многих людей, которые рады оставаться довольными, при условии только они обладают конечным результатом, – но чтобы ум был приведён к необходимости искать и поставлен на путь, которым он может найти его. Первое достигается тем, что ум приводится к столь отчётливому осознанию своего собственного состояния невежества, что невозможно, чтобы он добровольно оставался в нём. Другое осуществляется либо тем, что сплетается загадка из противоречий, для которой единственное возможное решение находится в рассматриваемой мысли, и часто нескольких намёков, брошенных казалось бы совершенно посторонним и случайным образом, которые могут быть найдены и поняты только тем, кто действительно исследует с собственной активностью. Или настоящее исследование переплетается с другим, не как покрывало, но, как бы, прилипшей кожей, которая скрывает от невнимательного читателя, и только от него одного, суть, которая должна быть надлежащим образом обдумана или открыта, в то время как она лишь обостряет и проясняет ум внимательного, чтобы воспринять внутреннюю связь. Или когда изложение целого является целью, оно лишь набрасывается несколькими несвязными штрихами, которые, однако, тот, кто уже имеет фигуру перед собой в собственном уме, может легко заполнить и соединить.
Вот нечто вроде тех приёмов, с помощью которых Платон добивается успеха почти с каждым – либо в достижении того, чего он желает, либо, по крайней мере, в избегании того, чего он опасается. И таким образом это было бы единственным значением, в котором можно было бы здесь говорить об эзотерическом и экзотерическом, – я имею в виду, как указывающее лишь на состояние ума читателя, в зависимости от того, возвышается ли он или нет до состояния истинно чувствующего внутренний дух; или если это всё же следует относить к самому Платону, можно лишь сказать, что непосредственное наставление было его единственным эзотерическим процессом, в то время как письмо было лишь его экзотерическим. Ибо в первом, несомненно, после того как он был сначала в достаточной мере уверен, что его слушатели следовали за ним, как он желал, он мог выражать свои мысли чисто и совершенно, и, возможно, даже последовательно разрабатывать в сотрудничестве с этими слушателями и согласно наброскам, составленным совместно с ними, отдельные философские науки, после того как сначала постиг в своём уме их высшее основание и связь.
Между тем, поскольку в сочинениях Платона изложение Философии в том же смысле прогрессирует с самого первого возбуждения исходных и ведущих идей вплоть до почти завершённого изложения отдельных наук, то из этого, при условии сказанного выше, следует, говорю я, что должна существовать естественная последовательность и необходимая связь этих диалогов друг с другом. Ибо он не может продвинуться дальше в другом диалоге, если не предполагает, что цель, поставленная в предыдущем, была достигнута, так что тот же предмет, который завершён в конце одного, должен предполагаться как начало и основание другого.
Теперь, если бы Платон закончил отдельными изложениями нескольких философских наук, тогда можно было бы предположить, что он также развивал каждую из них саму по себе в постепенном прогрессе, и мы были бы вынуждены искать два отдельные класса диалогов – этический и физический ряды. Но поскольку он представляет их как связанное целое, и его своеобразная теория всегда состоит в том, чтобы понимать их вообще как по существу связанные и неразделимые, то и подготовка для них объединены подобным же образом и сделаны через рассмотрение их общих принципов и законов, и, следовательно, существует не несколько несвязанных и параллельно прогрессирующих рядов платоновских диалогов, но лишь одна единственная, вмещающая в себе всё.
Восстановление же этого естественного порядка является, как каждый видит, задачей, совершенно отличной от всех до сих пор предпринимавшихся попыток упорядочить произведения Платона, поскольку эти попытки отчасти заканчиваются ничем иным, как пустыми и экстравагантными мелочами, отчасти основываются на систематическом разделении и комбинировании согласно установленным разделам философии; отчасти также принимают во внимание лишь отдельные частные моменты там и здесь, не имея перед собой ничего похожего на целое.
Классификация на тетралогии, которую Диоген сохранил для нас после Фрасилла, явно основывается лишь на почти драматической форме этих диалогов, что давало повод располагать их таким же образом, как произведения трагических поэтов спонтанно организовывались согласно правилам афинских празднеств, и даже на этом слабом основании классификация плохо соблюдалась и так невежественно исполнялась, что в большинстве случаев нельзя обнаружить никакой причины, почему в отдельных случаях её результаты именно таковы, какими мы их находим. Даже сходство не проведено настолько далеко, чтобы, как каждая драматическая тетралогия заканчивалась сатировской драмой, так и в этом случае диалоги, в которых ирония и эпидейктическая полемика наиболее сильно преобладают, были отнесены к заключительным частям; напротив, они все сгруппированы в две тетралогии. Так же мало учитывалось древнее предание, само по себе на первый взгляд крайне вероятное, что Платон, будучи фактически учеником Сократа, опубликовал некоторые из своих диалогов; ибо как иначе те, которые относятся к осуждению и смерти Сократа, могли быть первыми, а «Лисий» и «Федр», которые древние считают произведениями столь раннего периода, оказались отброшенными далеко в середину всего?
Единственный след разумной идеи можно, пожалуй, найти в том, что «Клитофон» помещён перед «Государством», как оправдательный переход от так называемых исследовательских диалогов, по видимости скептических, к тем, что являются непосредственно поучительными и экспозиционными, и в этом случае почти смешно, что столь подозрительный диалог может похвастаться тем, что подал эту единственную мысль. Трилогии Аристофана, хотя и исходят из того же сравнения, более понятны, по крайней мере в той мере, в какой он не подвергает всю массу сочинений этой прихоти фантазии и строит трилогию только в тех случаях, когда Платон сам с достаточной ясностью наметил сочетание; или когда такое подразумевается некоторым внешним обстоятельством, оставляя все остальное подчиненным этому расположению.
Между тем обе попытки могут лишь служить тому, чтобы показать, как скоро истинный порядок произведений Платона был утрачен, за исключением очень немногих следов его, и как плохо подходил тот вид критики, который александрийские филологи умели применять, для обнаружения принципов правильного расположения философских произведений.
Менее внешними, действительно, но в остальном не намного лучшими являются хорошо известные диалектические разделения диалогов, которые Диоген также подготовил для нас, не указывая их автора, и согласно которым, более того, издания обычно помечают каждый диалог в заглавии. На первый взгляд, действительно, эта попытка не заслуживает никакого внимания в данном месте, так как её тенденция скорее разделять, чем связывать, и она относится к вопросам, которые не претендуют на указание экспонента естественного порядка. Но великое разделение на исследовательские и поучительные могло бы, несомненно, если правильно понято, быть руководством для обозначения прогресса платоновских диалогов, по крайней мере в основном, поскольку первые могут быть только подготовительными к последним как поясняющими позитивных теорий. При условии только что дальнейшее подразделение не было сделано самым совершенно нелогичным образом, в одном согласно только форме исследования, в другом согласно предмету, в то время как последний из двух методов опять весьма неплатоновски располагает произведения согласно разным философским наукам, так что даже то, что Платон сам прямо сочетал, разрывается на части, как «Софист» и «Политик», «Тимей» и «Критий», не говоря уже о других самых странных проявлениях критики в деталях.
Тот же неплатоновский принцип соблюдается также в Сизгигиях Серрана, которые, следовательно, совершенно бесполезны для расположения Платона и в лучшем случае могут служить лишь указателем для кого-либо, желающего ознакомиться с мнением Платона по определённым предметам, где ему следует искать решающие фрагменты, хотя даже это, учитывая характер платоновских сочинений, всегда очень неопределённо и может производить только весьма неудовлетворительные результаты.
Помимо этих попыток расположения, едва ли есть что-либо ещё упомянуть, если только не попытку шотландца Джейкоба Геддеса и нашего соотечественника Эберхарда в его трактате о мифах Платона и предмете его философии. Первый, действительно, не заслуживал бы упоминания, если бы ему не приписывали больших заслуг в различных местах и даже не выдвигали требований, чтобы любой будущий переводчик располагал произведения Платона согласно его плану. Однако невозможно, чтобы эти требования были выполнены, даже при самом лучшем желании. Ибо всё открытие этого человека сводится лишь к тому, что некоторые диалоги Платона взаимно иллюстрируют друг друга, и на этом принципе он пользуется случаем написать несколько в высшей степени скудных строк о каждом из них, показывая ничто так ясно, как то, что едва ли есть единичный случай, в котором он проследил предмет Платона с чем-то вроде обычного понимания. Но даже предполагая, что всё это лучше, чем есть, и что величайшие доказательства невежества, а также непонимания отдельных фрагментов не были бы найдены, как может быть предпринят аргумент на принципе взаимной иллюстрации? Ибо который из таким образом взаимных диалогов должен быть первым, и согласно какому закону?
Что касается попытки Эберхарда, он задаётся целью доказать направленность всех произведений Платона на общий предмет в его философии, который, независимый от самой философии, заключается в формировании афинских юношей знатного рода в добродетельных граждан. Теперь в этом, несмотря на очень ясный образ, в котором положение изложена, трудно определить, должен ли этот предмет был быть в то же время основой для открытия всех высших умозрений Платона, что, я полагаю, было бы несколько слишком рискованно утверждать, и даже игнорируя круг, в котором это вовлечено, так как философия должна, несомненно, определять, что есть добродетель гражданина, это слишком подчинённое основание, чтобы на нём покоилась сама философия. Но если мнение должно означать, что Платон изобрёл свою философию независимо от этого частного предмета, и что эта философия должна предполагаться, в то время как сочинения должны стремиться к тому предмету образования и были разработаны в образе, в котором, при обстоятельствах того времени, такой предмет мог требовать, это было бы самое странное положение, когда-либо принятое в пользу их экзотерического характера.
Между тем, согласно тому взгляду, философские сочинения Платона могли только составлять педагогический, или скорее полемический ряд, в котором, из-за его отсылки к внешним обстоятельствам и событиям, всё должно быть случайным, и таким образом это было бы похоже на нить жемчуга, только капризное сцепление произведений, которые, вырванные из их органического места, были бы, учитывая далее полный провал в виду предмета, бесполезным предметом украшения. Равным образом бесполезен взгляд, поддерживаемый другими, что Платон публиковал иногда одну часть своего знания, иногда другую, либо из простого тщеславия, либо в оппозиции к таковым другим философам.
Во всех этих усилиях, следовательно, восстановление естественного порядка этих сочинений в отношении к прогрессивному развитию философии исключено.
Совершенно иной, однако, от всего, что было сделано до сих пор, является характер попытки, предпринятой в системе платоновской философии Теннемана; первой, во всяком случае, с какими-либо претензиями на полноту, обнаружить хронологический порядок платоновских диалогов по различным историческим следам, впечатанным в них; ибо это несомненно критично по своему принципу и труд, достойный во всяком отношении исторического исследователя, как автор того трактата. В этом предприятии, действительно, его взгляд направлен меньше на то, чтобы обнаружить, метод, который он принимает, реальное и существенное отношение произведений Платона друг к другу, чем обнаружить в общем даты их сочинения, чтобы избежать смешения ранних и несовершенных попыток с изложением философии зрелого и совершенного Платона. К тому же предприятию, вообще, настоящее является необходимым противовесом; и таким образом, с другой стороны, тот метод, опирающийся, как он это делает, всецело на внешних признаках, при условии, что он мог бы быть повсеместно применён и точно определять место любого платоновского диалога между какими-либо двумя другими, стал бы естественной проверкой нашего собственного метода, который исходит исключительно из внутреннего. Это может и не быть действительно необходимым по той причине, что результаты обоих должны полностью совпадать, поскольку внешнее создание произведения подвержено иным внешним и случайным условиям, нежели его внутреннее развитие, которое следует лишь внутренним и необходимым законам, откуда легко могли возникнуть небольшие расхождения, так что то, что существовало внутренне раньше чего-то другого, могло проявиться внешне лишь в более поздний период. Но при должном учёте этих эффектов случайности, которые вряд ли ускользнули бы внимательному взгляду, если бы мы имели два полных ряда и они могли быть точно сопоставлены, они не могли бы не проникнуться глубоким совпадением и взаимно подтвердить в самом решительном образе свою соответствующую правильность.
Продвигаясь этим методом, мы обнаруживаем, однако, немного определённых точек; и для подавляющего большинства диалогов – лишь несколько нечётких границ, в пределах которых они должны находиться, причём часто задан лишь крайний предел, с одной стороны.
Ибо в строгом смысле исторические следы не должны выходить за пределы жизни Сократа, в рамках которой, собственно, и заключены все диалоги, за исключением «Законов»; а также тех немногих, которые Платон поручает рассказывать другим и для которых, следовательно, он мог использовать более поздние даты – преимущество, однако, которым он воспользовался не всегда, чтобы оставить нам более точный след. Анахронизмы, которые он изредка себе позволяет, действительно пробуждают надежду на некоторые дополнительные исторические свидетельства, так что можно было бы пожелать, чтобы Платон чаще был повинен в этой ошибке; но даже это незначительное преимущество становится весьма сомнительным, если принять во внимание, что многие из этих фактов могли быть добавлены при последующей переработке произведений, когда Платон, естественно, переставал столь живо переноситься в подлинное время диалога и мог легче поддаться искушению выйти за его пределы, не сдерживаемый фактами.
Возможно, существует еще один до сих пор не использованный подход в рамках этого метода. Так, доминирующее положение, отводимое Сократу, которое, если расположить диалоги в определенном порядке, постепенно исчезает, можно рассматривать как меру удалённости в любой заданной точке от периода его жизни; или даже выбор других персонажей можно считать признаком живости интереса, который Платон питал тогда к Афинам и общественной жизни, – интерес, который подобным же образом притуплялся и разрушался с течением времени. Но все это подвержено столь многим ограничениям, что любое уверенное использование данного метода может быть более обманчивым, чем полезным, и никакие выводы из него не могут ничего решить, а лишь незначительно увеличивают вероятность. Так что с помощью этого метода вряд ли можно достичь большего, чем то, что было сделано в той работе с похвальной умеренностью, хотя, возможно, и не всегда на основе верных гипотез.
Во всяком случае, результаты, вытекающие из рассмотрения внутренних оснований произведений Платона, безусловно не могут быть ни подвергнуты критике, ни оспорены на основании тех исторических свидетельств, так как эта операция определяет лишь порядок соотнесения, но не хронологическую точку. Однако её необходимо по возможности привлекать для помощи, чтобы получить определённые точки, посредством которых этот порядок также может быть увязан с внешними обстоятельствами.
Теперь, если естественный порядок произведений Платона должен быть восстановлен из того беспорядка, в котором они сейчас находятся, то, казалось бы, необходимо сначала определить, какие произведения действительно принадлежат Платону, а какие – нет. Иначе как можно предпринять попытку с какой-либо степенью уверенности, или, вернее, в случае, если с произведениями Платона смешано что-то постороннее, как может даже подлинное не предстать в совершенно ложном свете, если насильственно пытаться связать неподлинное с ним? Или же позволительно брать саму поставленную проблему за критерий и утверждать, достаточно решительно, что то, что не может адаптироваться к этой связи, не может принадлежать Платону? Вряд ли кто-либо, полагаю, стал бы одобрять этот процесс или не увидел бы, что это было бы крайне пристрастным решением вопроса, на который следует отвечать по совершенно иным основаниям, и что невозможно, чтобы представление, возникающее из рассмотрения предположительно платоновских работ, могло одновременно выносить суждение о правильности самого этого предположения.
Или, более вероятно, большинство читателей не ожидает встретить вопрос о платоновских сочинениях совершенно цельным, а считает его давно решённым, за исключением незначительных сомнений, касающихся лишь нескольких мелочей, принятие или отвержение которых может быть делом полного безразличия. Таково, например, будет мнение всех тех, кто полагается на давно предписанный авторитет изданий. Этот авторитет действительно достаточно точно совпадает со списком Фрасилла у Диогена, с той лишь разницей, что более современная критика исключила «Клитофона» из нашего собрания; а с другой стороны, в том списке отсутствуют объяснения слов; и таким образом, эти последние были бы единственными сомнительными моментами. Более того, у нас есть ещё лучшее свидетельство в пользу этого собрания – а именно собрание уже упомянутого грамматика Аристофана, чей каталог-расположение также был перед Диогеном, и который несомненно не умолчал бы, если бы обнаружил где-либо расхождение с ним.
Но как, спрашиваю я, может взыскательная критика, даже если она не будет принимать во внимание сомнения, подсказанные собственными чувствами, опираться на эти авторитеты? Ибо не только, за исключением немногих поэтов, подложные произведения проникли во все значительные собрания сочинений отдельных авторов, сохранившиеся с древности, так что было бы удивительно, если бы произведения Платона составили исключение, тем более что философская литература в меньшей степени привлекала труд критиков; но в случае Платона добавляется дополнительное обстоятельство, важность которого, кажется, в этом отношении не была достаточно учтена: те критики уже отвергли значительное число небольших диалогов из имевшегося у них собрания как не принадлежащих Платону. Ибо из этого факта явственно следует, что в период, когда это было сделано, эти диалоги должны были уже значительное время занимать свое место среди других произведений Платона, поскольку иначе не потребовалось бы особой критической операции, чтобы вновь лишить их этого. И эта узурпация, с другой стороны, не могла бы иметь места, если бы существовали документальные свидетельства подложности этих диалогов, восходящие ко времени подлинных академиков; ибо вообще, пока находились люди, ревностно хранившие подлинную платоновскую традицию, немыслимо, чтобы чужие работы обычно приписывались Платону.
На каком же основании, следовательно, эти критики основывали своё суждение, когда принимали одни диалоги и отвергали другие? Если скажут, что относительно всех непринятых у них были определённые и достаточно древние свидетельства их признания теми, кто жил ближе всего после времени их составления, мы можем возразить, что молчание современников, которые не принимают во внимание возможность будущей путаницы и которым требуется повод для каждой цитаты, ни в целом, ни в деталях не является основанием для отвержения, и таким образом они могли очень легко ошибиться в суждении. Подобным образом, также могут быть приведены различные основания для подозрений против достаточности применяемых доказательств, поскольку несколько примеров как в прежние, так и даже в новые времена показали, как уже в глубокой древности подложные сочинения принимались даже филологами и учёными в список подлинных трудов.
Теперь, если они судили главным образом по внутренним основаниям, то никакое предписание здесь не действительно; но они должны оставаться вполне подвержены повторной проверке в каждый период, сколь бы поздний он ни был. Отсюда тогда возникает, тем более что в сознании каждого внимательного читателя многие сомнения будут возникать против многого из того, что он встречает, вопрос: не исходили ли эти люди в своей критике из слишком ограниченной точки зрения? Или, быть может, они не сумели довести принципы, хотя и правильные, до их полного объёма, и вследствие этого сохранили многое, что могло бы быть вполне столь же уместно отвергнуто?
Есть два обстоятельства, которые дают особое основание этому сомнению. Во-первых, что диалоги, отвергнутые в то время, не все отделены решающей чертой от всех признанных в тот же период; но смотрим ли мы на предмет, или на композицию и способ обработки, некоторые из первого класса довольно близко приближаются ко второму. Опять же, что с того же периода, когда эти авторитеты были общепризнанны, среди хорошо известных подозрительных обстоятельств, присущих «Эрастам» и «Гиппарху», сохранился запас сомнений, которые, возможно, лишь нужно посадить в лучшую критическую почву, чтобы заметно распространиться на значительное расстояние и дать побеги во многих других местах.
Но если наша уверенность в подлинности собрания таким образом поколеблена, любой, наделённый каким-либо, сколь бы малым ни был, талантом для подобных исследований, охотно допускает, что, в строгом смысле, каждое отдельное произведение должно само за себя ручаться, что оно платоновское. Теперь это, продолжая, может быть сделано не иначе как путём возвращения к свидетельствам; и, учитывая сказанное выше, можно было бы усомниться, существует ли для нас, в настоящее время, какое-либо иное действительное свидетельство, кроме Аристотеля. Между тем даже с ним возникают различные основания для подозрений, отчасти из-за сомнительности многих произведений, носящих его имя, поскольку и в этом собрании перемешаны подложные работы, отчасти по причине плохого состояния текста, который, кажется, гораздо более насыщен вставками, чем это было до сих пор замечено; и отчасти, наконец, из-за его манеры цитирования, так как он часто упоминает только названия платоновских диалогов без имени составителя, или даже имя Сократа, когда мы ожидаем имя Платона.
Но филологическое сознание, которое должно здесь уверенно решать, имел ли Аристотель в виду Платона или нет, и приписывал ли он ему названные диалоги, должно действительно доказать, что оно обладает высокой степенью практики, не только вообще, но особенно чтобы избежать в данном случае рассуждений по кругу и, быть может, основывая вынесенное суждение о цитатах Аристотеля на ранее сформированном суждении о платоновских сочинениях. Следовательно, любая цитата в работах Аристотеля, приведённая лишь в беглой манере, и, как нередко бывает, почти излишне и для простого украшения, не обязательно должна быть доказательством подлинности платоновского диалога.
Продолжая эту мысль, следует отметить, что именно систематический критический подход Аристотеля к анализу платоновских идей служит надёжным ориентиром. Этот метод, глубоко укоренённый в текстах Стагирита, проявляется как в явных отсылках, так и в имплицитной полемике с концепциями, изложенными в диалогах. Опытный исследователь способен распознать эти интеллектуальные переклички даже при отсутствии прямых указаний на источник.
Таким образом, когда мы наблюдаем, как аристотелевская критика направлена на конкретные пассажи или концептуальные конструкции, характерные для известных нам платоновских произведений, у нас появляются веские основания утверждать, что эти тексты признавались подлинными уже в аристотелевскую эпоху. Важно подчеркнуть, что такая атрибуция сохраняет свою силу даже в случаях, когда Аристотель ограничивается общими формулировками, не конкретизируя название диалога или приписывая его содержание Сократу вместо Платона.
Этот метод анализа обеспечивает прочный фундамент для различения подлинных произведений Платона от более поздних приписываний, создавая тем самым надёжную основу для любого серьёзного историко-философского исследования.
Объяснять это более точно увело бы нас далеко за пределы настоящего введения, и является менее необходимым, поскольку среди тех, кто не знаком с обоими наборами работ, сомнения не достаточно сильны, чтобы требовать такую процедуру, в то время как те, кто знает их, вряд ли будут делать возражения против результата, что с помощью этого метода мы едва ли не получим верное доказательство подлинности величайших произведений Платона и руководства к смыслу его философии в самых важных из них. В них, тогда, заключено то критическое основание, на котором должно строить всякое дальнейшее исследование, и в действительности не нужно лучшего. Ибо диалоги, таким образом подтверждённые, образуют основу, от которой все остальные, кажется, являются лишь побегами, так что связь с ними предоставляет лучший критерий, посредством которого судить об их происхождении.
И для следующей задачи, подобным образом, задачи расположения, из самой природы случая следует, что, когда у нас есть та основа, мы немедленно обладаем всеми существенными основаниями общей связи. Ибо должно было быть естественным для первого обозревателя платоновской системы особенно обозреть все важнейшие её развития без какого-либо исключения, и таким образом мы действительно находим их в примерах произведений, наиболее аккредитованных Аристотелем.
В качестве таковых, характера, который в обоих отношениях – как в плане их подлинности, так и их важности – даёт им право составлять первый ранг среди произведений Платона, мы считаем «Федр», «Протагор», «Парменид», «Теэтет», «Софист» и «Политик», «Федон», «Филеб» и «Государство», вместе с связанными с ним «Тимеем» и «Критием». В них, следовательно, мы имеем твёрдую точку опоры, от которой можно продвинуться дальше, как в задаче решения о подлинности остального, так и в исследовании места, принадлежащего каждому из них; и второе может быть accomplished одновременно с первым, и без того, чтобы они своим взаимным отношением противоречили друг другу, а очень естественно поддерживая друг друга взаимно различными способами, как, надеюсь, покажет последующее исследование.
Теперь первая задача – проверить остальные диалоги в нашем собрании и таким образом исследовать, принадлежат ли они Платону или нет, – сопряжена с трудностью, ибо характер, выводимый из доказанно подлинных диалогов, слагается из нескольких черт и отличительных особенностей, и кажется несправедливым ожидать, что все они в равной степени будут соединены во всех произведениях Платона, и сложно решить, на какие из этих отличительных признаков нам следует обращать внимание особенно и какой ранг присвоить каждому.
Принимаются во внимание, главным образом, три аспекта: особенность языка, определённый общий круг тем и та специфическая форма, в которую Платон обычно их облекает. Что касается языка, то вопрос был бы удачно разрешён, если бы из него можно было извлечь какое-либо доказательство относительно происхождения этих произведений. Однако лингвистический анализ, хотя и предоставляет ценные указания, редко даёт окончательные результаты, поскольку особенности стиля могли сознательно воспроизводиться учениками и подражателями. Более того, сам Платон мог эволюционировать в языковом отношении на протяжении своего долгого творческого пути, что затрудняет создание единого эталона для сравнения.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе