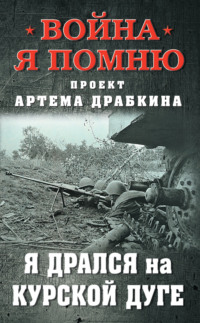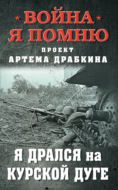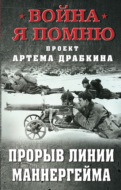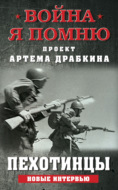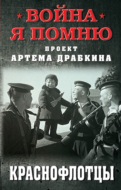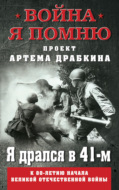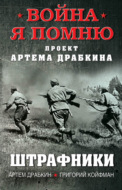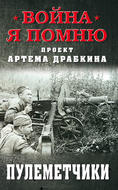Читать книгу: «Я дрался на Курской дуге», страница 3
12 же июля началось контрнаступление. Когда мы из окопов смотрели на водонапорную башню и вокзал, то казалось, что они очень далеко были друг от друга, голову нельзя было поднять. А вот когда в мирное время я попал туда и посмотрел, то выяснилось, что все было рядом. В тот же день все окрестности были сожжены, на полях сгоревшая трава, везде подбитые машины, танки, упавшие самолеты. Производило тяжелое впечатление. А утром перед наступлением началась обработка передовой противника – настоящее светопреставление. Страшная бомбежка, да еще и артиллерия работает, в том числе дальнобойная РГК, корпусная, армейская, дивизионная, полковая. И все бьют, метров на 500–600 в высоту стоит столб пыли и нам, сорокопятчикам, за этим просто-напросто покровом даже целей не видно.
К вечеру, взяв станцию Поныри, вся наша дивизия пошла в наступление, 9-й гвардейский воздушно-десантный полк атаковал как раз между двумя переездами. Позиции севернее, в сторону Орла, занимал 12-й полк, а в сторону Ольховатки слева от нас располагался 15-й полк. Вечером перед наступлением я все искал моего соседа – младшего лейтенанта, но так и не нашел. Когда взяли станцию, стали продвигаться в сторону Понырей-1, это село, довольно большое. А перед ним течет небольшая речушка, но так просто где попало ее не перейдешь. Конечно, вброд можно пройти, но вот перетащить орудие или машину не получится. Так что наша пехота стала готовиться к наступлению, подтягивались резервы. Немцы-то первое время отошли, но затем перед речкой закрепились, там был сильный заслон, располагались как пулеметные, так и орудийные огневые точки. И, само собой разумеется, вражеские стрелки между ними. И тут случилось непредвиденное. Видимо, перед боем наших полковые командиры попросили авиацию пробомбить первую полосу врага. Тут стали подходить наши танки, двинулись к рубежу залегания пехоты, и в это время появляется целая эскадрилья штурмовиков Ил-2. Первый же самолет сбросил на наши позиции все свои бомбы, к счастью, вовремя опомнились. Вероятно, первая заявка нашего командования была выполнена авиацией с опозданием, они считали, что на позициях перед рекой все еще сидят немцы, а были уже мы. Когда первые самолеты, один или два, сбросили свой груз, то они увидели наши танки и прекратили бомбежку, эскадрилья развернулась и улетела в тыл. По всей видимости, они были дезориентированы и не знали, где враг. Ко вторым же координатам, которые передали из штаба полка, летчики еще не были готовы. После бомбежки мы все залегли, никого не видно. И вот в это время поднимается фигура, сзади влетает на танк и кричит: «За мной! В атаку!» Это был наш замполит 9-го гвардейского воздушно-десантного полка, армянин, гвардии майор Вапаршак Хачатурович Унанян. И вы знаете, поднялась дружно пехота, мы за боевыми порядками следовали, впереди находился мостик, который не был взорван, немцы не успели, и наши стрелки его с ходу проскочили. Нам этот мостик очень помог, мы со своими орудиями добрались до дубовой рощи, располагавшейся за селом. И на господствующей высоте расположились, немцы предстали перед нами как на ладони. Начали вести прицельный огонь. Правая рука у меня была на перевязи, и вдруг под ноготь среднего пальца левой руки попадает маленький осколок, рука повисла, мне ее замотали, и обе руки уже не работающие. Приказали опять идти в санроту. Я туда подошел, мне все перебинтовали. Сказали топать в медсанбат, но я наотрез отказался. Несколько дней походил так и снова вступил в строй. За бои под станцией Поныри мне вручили медаль «За отвагу».
Потом что случилось? Немцы, не добившись успеха на нашем участке, вынуждены были отступить. Мы двинулись в наступление. В августе освободили городок Дмитровск-Орловский. Оказались на границе Курской и Орловской областей. Так что когда мы продвигались вперед, то проходили то по территории одной, то по другой области. Немцы сопротивлялись весьма и весьма серьезно, ведь они надеялись на то, что Курская дуга станет для них окончательной победной операцией в войне. Кстати, еще в 1941 году пришли эшелоны с красным гранитом, они хотели снять брусчатку на Красной площади, выстелить все гранитом и отпраздновать победу в Москве. Интересный эпизод, в Германию же обратно не отправили, ведь когда они отступали от Москвы, им не до гранита дело было, ноги надо унести. Мы же захватили в городке Дмитровск-Орловский эшелон с немецким красным гранитом. Теперь он лежит с правой стороны от Дома Правительства Москвы на ул. Тверской, и по этой улице все цоколи домов после войны были выложены этим гранитом.
Освободили первое украинское село в Сумской области, потом отвоевали станцию «Хутор Михайловский», освободили города Глухов и Конотоп. Бои были очень серьезные. Затем мы подошли к Прилукам, которые освободили 18 сентября 1943 г., и вышли к Киеву. Освободили Борисполь, и здесь я увидел огромный аэродром, на котором стояли многочисленные ангары для самолетов. Мне было очень интересно, пусть с авиацией я связан и в начальном плане, только на учебных самолетах летал, но вид огромных ангаров и крытых зданий, куда на руках с помощью тяжелых тракторов закатывали самолеты, привел меня в восторг. Заглянул в один из ангаров, там стоял какой-то самолетик, но уже разбитый, переломанный на одно крыло. В другом было темно и вообще ничего не видно, а бой-то идет, пехота продвигается дальше, и мы идем с ними в боевых порядках. Мы всегда били первыми по огневым точкам противника, при этом сами становились мишенью для вражеской артразведки. И после первых же выстрелов тебя начинает обкладывать снарядами со всех сторон. При этом, когда бой идет, где-то становится еще жарче, надо туда орудие перекатить, потому что немцы продвинулись на одном из флангов, нужно пехоте оказать помощь. 200–300 метров катишь орудие на себе. Только встали, уже огневую позицию не копаешь, под колеса подкопал, установил сошки, станину подкопал, чтобы она не откатывалась, и ведешь огонь. Прошло полчаса-час или два, а то и того нет, команда перейти на другое место в километре от твоей позиции. Тогда коней впрягали и отвозили нашу «сорокапятку». Здесь было важно сразу же готовить позицию. Особенно нам было тяжело при движении по Орловской области, я до сих пор помню эту землю – глина-белозерка с примесью извести. Даже лом звенит при ударе, причем только-только выкопаешь позицию – отдают приказ перейти на другое место.
Взяли мы Бровары 25 сентября 1943 г., после чего стали приводить себя в порядок и готовиться к форсированию Днепра.
Интервью и лит. обработка: Ю. Трифонов
Ковалев Владимир Тихонович
Я попал в 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию. На ее рубеже с одной стороны была станция Поныри, с другой стороны деревня Ольховатка. Это был самый страшный участок…
Мы каждый день ждали немецкого наступления, но оно не приходило и не приходило. Потом 5 июля вдруг ночью открылся страшный артиллерийский огонь, немецкие позиции запылали. Наши самолеты стали бомбить немецкий передний край. Мы думаем, еще не наступали, а уже бомбят, мы же не знали, что это был предупреждающий удар, придуманный Рокоссовским. Мы сидим в этих окопах, ждем, что будет дальше, когда последует команда: «Вперед! За Родину, за Сталина!» Правда, сколько я был на войне, ни разу не слышал такого призыва. «Бога мать» – слышал каждый день. Потом где-то полчаса было затишье, и потом немцы обрушились. Это был кошмар. «Юнкерсы» не слезали, артиллерия все время обстреливала, минометы. Страшно было. Вся земля поднялась вверх. На зубах песок, ничего не видно, гарь стояла даже днем. А тут еще смотрим, немецкие танки пошли, мы тогда первый раз их живьем увидели. А в наших позициях траншея, и тут же артиллерийские расчеты стояли, 38-й гвардейский артиллерийский полк, мы копали для них и укрытия, и позиции делали. Они молодцы, подавляли огневые точки. На нашем участке, нашей роты, они, наверное, три или четыре, а может, больше машин положили.
11 июля мы перешли в наступление, к тому времени от роты осталось 11 человек.
Интервью: А. Драбкин Лит. обработка: Н. Аничкин
Андреев Лев Васильевич

Прибыли на фронт чуть севернее Орла. Запомнил, что мы находились где-то между маленькими городками Болхов и Белев. Вначале нашу 4-ю танковую армию зачислили в состав Западного фронта, но буквально через день или два нас включили в состав Брянского фронта. Наконец своим ходом двинулись в сторону передовой. Но продвигались очень медленно, иногда целыми днями стояли на месте, потому что немецкая авиация по всей Курской дуге действовала очень активно. Особенно досаждали их пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87», которые за форму неубирающихся шасси у нас прозвали «лапотники». Самолет с очень хищным силуэтом, в пикировании очень быстрый и изворотливый. Большие двухмоторные бомбардировщики не обладали такой маневренностью, а эти прилетали и начинали змейкой пикировать один за другим. Из пике выходит, становится опять в строй, и так несколько раз, пока все бомбы не сбросит.
На отдых мы обычно располагались на целине, в лесах. Все поля были засеяны, уже колосилась почти спелая пшеница, а мы, невзирая ни на что, рыли окопы и этой золотистой соломкой маскировались, чтобы нас не было видно. А машины и зарывали, и снопами укрывали, но все это в полях. Зато наши штабы и всякие подсобные подразделения почему-то всегда стремились располагаться в деревнях, вообще в населенных пунктах. А немецкая авиация в основном их и бомбила в первую очередь, а на нас иногда если и сбросят, то совсем немного. Я, например, переживал этот стресс, лежа в ровике глубиной по колено. Глубже и не рыли почти никогда, просто некогда было, потому что все время меняли позиции, да и, честно говоря, было просто лень. А так по колено вырыл, считай все, в нем уже можно уберечься. И во время налетов я обычно лежал в ровике на спине, смотрел на небо и грыз черные сухари из НЗ. На фронте ведь хлеба негде было достать, поэтому нам почти всегда выдавали черные сухари. Причем если бы их сушили по правилам, то они бы крошились, а эти, фронтовые, были настолько твердые, словно подметка от сапог. Хорошо, у нас к рации прилагались плоскогубцы, ими отломишь кусочек и потом его во рту долго-долго сосешь. Зато это успокаивало. Лежишь себе, усиленно грызешь кусочек сухаря и смотришь наверх, наблюдаешь, как эти «лапотники» выстраиваются, пикируют и бомбят. Словно там на небе был такой экран, по которому показывали интересный, но и очень опасный, конечно, фильм…
Потом, наконец, мы приблизились к передовой линии, и наш Уральский Добровольческий корпус принял боевое крещение в очень тяжелом бою на реке Злынке. Временная линия фронта шла как раз именно по этой речке, а наш дивизион поддерживал огнем 29-ю гвардейскую мотострелковую бригаду, которой приказали взять на том берегу большое село Злынка.
Один артиллерийский дивизион мотострелковой бригады из своих 76-мм орудий целый день прямой наводкой обстреливал эту деревню. Вернее, не всю деревню, а немецких наблюдателей и пулеметчиков, которые засели на церковной колокольне. Там же стояла каменная церковь с высокой колокольней, но к концу дня от нее остался словно обглоданный кукурузный початок… Мы тоже дали залп батареи по второму, невидимому для нас рубежу немецкой обороны, в общем, к вечеру совместными усилиями Злынку освободили, а немцы отступили на 6 километров. И дальше так и пошло: весь день они твердо стоят на месте, а ночью отходят на 6 километров на заранее подготовленный рубеж обороны. Вот так, по 6 километров в день, мы за ними и двигались. В этих жестоких боях просто геройски проявила себя наша мотострелковая бригада. Ребята показывали исключительный героизм, исключительную настойчивость, отдавали все, но сколько их там полегло… Просто колоссальное количество… Например, вся переправа через Злынку была усеяна трупами наших уральцев… А ведь это были отборные люди: коммунисты, комсомольцы с уральских заводов, самые преданные и очень рвавшиеся в бой… Ведь все вооружение для нашего Добровольческого корпуса было изготовлено на уральских заводах сверх плана. И лучших людей подарили Родине, и вооружение. Кстати, для этой мотострелковой бригады каждому бойцу подарили стальной нагрудный панцирь, который ремешками застегивался на спине. Он закрывал всю грудь и немножко прикрывал бока, т. е. прикрывал только спереди. Эти панцири вполне защищали при штыковом бое и от скользящих осколков, но если пуля шла перпендикулярно, то она его свободно пробивала. И вот лежали бойцы с пробитыми панцирями на груди, все в дырах… Причем в бою этот панцирь только мешал, ведь это лишняя тяжесть, на солдате же и так столько всего. Мы, например, в первых боях еще таскали с собой противогазы. Хорошо, вещмешок был тощий, только эти сухари там лежали. И вот ему идти в атаку, а у него за плечами вещмешок, противогаз, гранаты, патронташ. Причем эти патронташи – текстильные сумочки для винтовочных патронов, у нас ведь вначале у всех были винтовки, автоматы были только у командиров, были очень неудобными. Болтались на ремне, как непонятно что, и вот при этом всем солдатам еще на грудь напяливали эти щитки весом в несколько килограммов. Поэтому их очень быстро перестали надевать, и больше я такого вооружения ни у кого не видел. И каски тоже были неудобными. Ведь было как: пилотку нахлобучивали чуть ли не на уши и уже на нее надевали каску. Потому что наша каска имела внутри такие бумажные язычки, которые схватывались и завязывались пеньковым шнурочком, и на этом они держались. Правда, был еще ремешок вокруг подбородка, но ровно каска все равно не держалась и все время ездила на голове. Другое дело у немцев. У них внутри каски были приварены металлические кронштейны, там надевалось кольцо, обтянутое кожей, и когда они эту каску надевали, то она сидела на голове как влитая, а между черепом и каской оставался небольшой воздушный зазор. Но нам, к сожалению, трофейные каски нельзя было использовать, потому что по ее характерному силуэту даже издали было сразу видно, что фриц. Правда, иногда я видел, что некоторые наши регулировщики на дорогах стояли в черных немецких касках. Но вообще у нас немецкое обмундирование, и у командования, и у солдат вызывало неприязнь, поэтому на себя его не напяливали. Тем более в нашем отборном корпусе у всех было очень хорошее обмундирование, пошитое из английского сукна.
В общем, так постепенно, по 6 километров в день, продвигались вперед. Даже успели привыкнуть к этому ритму. Весь день бомбим, атакуем, кладем залпы и прочее, а как наступает темнота, немец отходит. А мы продолжаем идти за ним, и к утру и мы, и немцы уже на новых позициях. Но эти бои были с очень большими потерями, потому что мы не просто их обстреливали, а все время атаковали, атаковали, атаковали… Сколько дней мы так наступали, я уже и не помню. Неделю, может больше, нет, не вспомню. Но в один из дней на наш участок свезли артиллерийские части, и мы все вместе как дали массированную артподготовку, после нее весь корпус вошел в прорыв, и за один день мы продвинулись сразу на 20 километров. Вот только с этого момента у нас пошла маневренная война, как и положено танковым частям. Почти сразу после этого осуществили еще один прорыв и захватили станцию Нарышкино, фактически перерезав железную дорогу Орел – Брянск. Тем самым немецкая группировка в Орле лишилась важнейшего пути снабжения, и это, конечно, способствовало тому, что наши войска, наступающие с востока, взяли Орел скорее и с меньшими потерями. А нас после этого повернули за запад, в сторону Брянска, освобождая по пути небольшие городки: Карачев, Белые Берега, станция Белобережская. До самого Брянска мы не дошли, повернули на юг, брали Трубчевск, а за тяжелые бои при освобождении станции Унеча наша 29-я мотострелковая бригада даже получила почетное наименование «Унечская».
Какой была лично ваша роль в этих боях?
Пока наступление развивалось медленно, вполне хватало и телефонной связи. Хотя мы тоже ходили с разведчиками на НП, но там обычно пользовались только телефонной связью. Кому охота мучиться с радиостанцией, когда тут по прямому проводу можно спокойно разговаривать?
А с ней разве мучения?
Определенные, конечно, ведь зачастую из-за помех было плохо слышно. К тому же нужно было кодировать разговоры. Но у нас только поначалу строго кодировали, а потом привыкли к условному кодированию. Хотя шпионаж был, с немецкой стороны шло постоянное слежение за нашей радиосвязью, особенно когда попадались власовские части. Кстати, местное население нам жаловалось, что у них зверствовали не столько немцы, сколько наши русские полицаи. И лишь когда телефонная связь обрывалась, тогда, конечно, наступал наш черед. Но такое случалось редко, повторюсь, обычно обходились телефонной связью, а нас держали на крайний случай. Например, однажды командование нашего дивизиона потеряло связь со штабом артиллерии корпуса, и нас с напарником послали его найти и оттуда помочь связаться.
Пошли, но ведь толком и не знали, где искать, поэтому блудили по нашей стороне. Там же такая однотипная местность: ровное плато, изрезанное небольшими оврагами, по которым текли ручьи и речки, а вдоль них обычно шла проселочная дорога. Ходили по этим заросшим дубовым кустарником оврагам, искали. В одном месте вышли на зеленую полянку, а там сидит группа военных. Я было хотел пойти спросить у них, но присмотрелся, а там девять человек в генеральских погонах. Девять генералов, да еще всякие старшие офицеры. Ну, думаю, не иначе как тут штаб фронта проводит выездное совещание. Говорю напарнику: «Нет, Иван Иванович, пойдем-ка лучше прочь отсюда, пока нас не заподозрили. А то посмотрят, что ходят тут какие-то двое с радиостанцией, и скажут, что мы переодетые немецкие шпионы». Развернулись и ушли оттуда, но охрана на нас действительно покосилась. Туда-то мы прошли свободно, а обратно автоматчики нас очень внимательно буквально обшарили глазами. Тем более на нас было хорошее суконное обмундирование, яловые сапоги, и это вполне могло вызвать определенное недоверие. Благополучно оттуда ушли, но штаб артиллерии корпуса так и не нашли. Но на наше счастье с ним и без нас уже установили связь.
А вот когда пошли в прорывы, то тут уже нас задействовали гораздо чаще. Ведь стала действовать разведка, появились бродячие наблюдательные пункты. Раньше они были только стационарные – окоп, в котором наши разведчики сидели целый день. А в прорывах то здесь, то там, то еще где-то, поэтому радиосвязь была нужна постоянно. Но если брать по большому счету, то на Курской дуге нас все-таки мало использовали. Зато сколько мы там километров исходили, сколько земли перекопали. Ведь когда попадали под бомбежку или артобстрел, то землю буквально грызли, чтобы хоть чуть-чуть зарыться. Но лично мое боевое крещение прошло и трагично, и немножко комично одновременно.
Когда мы еще не вступили в бои, но уже слышали музыку «передовой», в один из дней слышу, как начальник штаба дивизиона говорит нашему начальнику связи: «Надо сейчас радистов закинуть на наблюдательный пункт!» Посадили нас двоих с напарником в кузов «доджа» и поехали в какую-то деревню. Едем, вдруг машина останавливается, и слышим голоса. Наш лейтенант отдергивает брезент: «Вылезайте, товарищи, дальше проезда нет! Дорога простреливается с фланга, поэтому пробирайтесь пешком. А если начнется обстрел, то продвигайтесь перебежками. Найдете наблюдательный пункт корпуса, – или штаба артиллерии корпуса, уже не помню точно, – доложитесь, и вам скажут, что дальше делать». А сам тут же разворачивает машину и уехал.
Пошли мы по этой дороге, трусим легкой трусцой. Наши 10 и 12-киллограммовые сундуки бьют нам по лопаткам и спинам. Причем даже не с автоматами, а с трехлинейками, слава богу, что хоть без штыков. А на головах каски, которые только мешают, подпрыгивают, съезжают то налево, то направо. А главное, дорога действительно обстреливается. Снаряды ложатся то слева, то справа, а мы же новички совсем на фронте, только и успевали немного втянуть голову в плечи. И вдруг вылетает на дорогу какой-то пехотный лейтенант с пистолетом в руке. Наводит его на нас, а глаза безумные, пьяные: «Куда машину бросили?! А ну назад к машине!»
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе