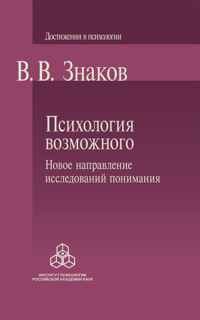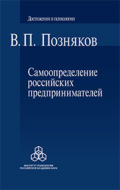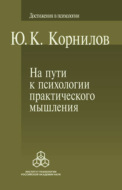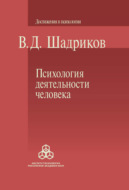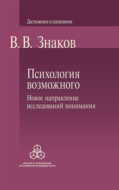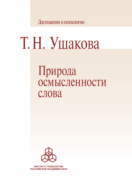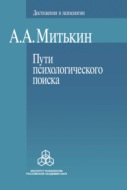Читать книгу: «Психология возможного. Новое направление исследований понимания», страница 5
Сегодня важно осознать, что во втором десятилетии XXI в. психология субъекта вышла на новый этап развития, его можно назвать самосозидательным или самопорождающим. Сегодня происходит переосмысление категории «субъект»: от его понимания как самоидентификации, обнаружения в человеке активного начала – к самоконструированию, поиску таких дискурсов и практик, в которых осуществляется раскрытие множественности вариантов динамики развития субъектности. Иначе говоря, можно сказать, что ранее психологические исследования Я-концепции в основном были направлены на поиск определений Я как совокупности личностных качеств человека. С этих позиций, Я характеризовалось «самосложностью» и «самопростотой» (Rafaeli-Mor et al., 1999). В современных исследованиях наблюдается смещение фокуса внимания ученых на такие способы конструирования Я, в которых разные его интерпретации становятся конкретными методами формирования субъектности.
Родоначальником переосмысления «субъекта» можно считать М. Фуко. Выдающийся французский мыслитель выделял два типа отношения человека к себе: определение того, чем он является на самом деле, обретение знания о своих сущностных чертах и создание такой формы субъектности, которой он до тех пор не обладал. Первое соответствует самопознанию, второе – заботе о себе (Фуко, 2014). В наше время очевидным является смещение исследовательских акцентов с истин познания на конкретные обстоятельства, в которых формируются бытийные ценности и смыслы субъекта. Представления о созидающем себя субъекте изменились, и они отражают не только научные взгляды нескольких учеников и последователей А. В. Брушлинского. Идеи о становлении субъекта как его самопорождении и самотрансформации находят воплощение в понимании личности как успешного автопроекта (Тульчинский, 2010), в идее о самопроектировании личности (Чепелева, 2013), в концепции культуропорождающего образования (Корбут, 2004). Преобразование сократовского тезиса «Познай самого себя» в призыв «Создай самого себя» (Петрова, 2013), конечно же, не отменяет эвристической ценности самопознания. Новый этап развития психологии субъекта нацелен на психологический анализ и познание, и такую нелегкую работу по изменению себя, которая отражена в кратком и емком высказывании: «Самое сложное для человека – познать и изменить себя» (Критская, Мелешко, 2015, с. 19). Для психологов это означает необходимость поиска и условий трансформации человеком самого себя, обстоятельств, оптимальных для самоизменения, и знаний о внутренних и внешних факторах, способствующих или препятствующих этому.
Сочетание эпистемологического и гносеологического подходов к проблеме дают психологам возможность исследовать две взаимосвязанные стороны формирования субъектности человека. При содержательном ракурсе рассмотрения проблемы субъекта, психологи фокусируют внимание на способах определения человеком своей идентичности посредством сознания и самопознания. Второй ракурс, предполагает поиск динамического регулятивного влияния обстоятельств, социальных условий, дискурсивного поля на изменение субъектом отношения к себе посредством осознания своих границ, пределов. При этом главными оказываются субъектно-деятельностные основания работы над собой, готовности человека выйти за свои границы, преодолеть сложившиеся представления и стереотипы.
В развитии второго этапа, не отрицающего, а включающего в себя и проблемы первого этапа, мне видится перспективное настоящее и будущее психологии субъекта. Перспективным и соответствующим второму этапу пониманием субъекта мне представляется не телеологическое, а конструктивистское направление исследований. Оно основано на принципе заботы о себе, понимаемом не столько как самопознание, сколько как трансформация себя. Человек конструирующий, т. е. заботящийся о себе живет в неопределенном и даже хаотичном мире, в котором невозможно категорично, а не размыто определить себя. Вместе с тем направленность на самопреобразования соответствует многим направлениям современных психологических исследований – самодетерминации, изучению изменений в осознании собственной идентичности и др.
В свете изложенного выше основателем психологии субъекта следует считать, прежде всего, А. В. Брушлинского, в этой области психологического знания, используя метафору М. Фуко, его можно назвать «основателем дискурсивности». Заслуга А. В. Брушлинского не только в том, что он создал новые тексты по психологии субъекта (его критериях, структурных характеристиках и т. д.). Иначе говоря, в трудах А. В. Брушлинского психология субъекта описана как новая целостная область психологического познания (в работах других психологов представлены только ее фрагменты. Кроме того, он создал нечто большее: возможности и правила рассуждений, указывающие на бесконечную вариативность дискурсов – допустимых направлений психологических исследований субъекта и правил образования научных текстов о нем. В таком дискурсивном поле, с одной стороны, уже теряется первоначальная научная значимость личностной, авторской, субъектной отнесенности сказанного к А. В. Брушлинскому. Это происходит потому, что для профессионалов высказанные им идеи уже давно стали аксиомами и даже трюизмами. К примеру, в сотнях работ воспроизводится его определение субъекта как человека на высшем для него уровне активности, целостности (Брушлинский, 2003). С другой стороны, дискурсивное поле, первоначальные границы которого были им очерчены, открывает для исследователей возможности создания чего-то, восходящего к его варианту психологии субъекта, но уже отличающегося от него (системно-субъектный и субъектно-бытийный походы, психология человеческого бытия и т. п.). Однако именно психология субъекта как заданное основателем дискурсивное поле является той системой координат, по отношению к которой определяется теоретическая и эмпирическая валидность новых направлений исследований.
Обобщенно говоря, можно утверждать, что А. В. Брушлинский пытался ответить на два главных для этой предметной области вопроса. Первый: каковы психологические характеристики человека как субъекта, чем они отличны от индивида, личности, индивидуальности? Второй вопрос об анализе самой дискурсивности (иначе ее можно назвать научной рациональностью): в соответствии с какими условиями и в каких формах субъект проявляется в разных дискурсах? В ответе на первый вопрос отразилось гибкое сочетание гносеологического (динамический и регулятивный планы анализа психологии субъекта) и эпистемологического (структурный план) подходов. Ответ на второй вопрос неразрывно связан с научными представлениями о деятельностной природе человеческой психики, т. е. о том, какие виды деятельности способствуют, а какие препятствуют проявлению и развитию субъектных качеств человека.
Таким образом, сегодня психологам нужно изучать человека, созидающего самого себя. Соответственно происходит переосмысление категории «субъект»: от его понимания как самоидентификации, обнаружения в человеке активного начала – к самоконструированию, поиску таких дискурсов и практик, в которых осуществляется раскрытие множественности вариантов динамики развития – субъектности. Человек конструирующий, т. е. заботящийся о себе, живет в неопределенном и даже хаотичном мире, в котором невозможно категорично, а не размыто определить себя. Вместе с тем направленность на самопреобразование соответствует многим направлениям современных психологических исследований – самодетерминации, изучению изменений в осознании собственной идентичности и др.
1.3.5. Альтернативы и барьеры в сознании: фундаментальные проблемы понимания в психологии возможного
Понимание во всех реальностях – эмпирической, социокультурной, экзистенциальной – связано с интерпретацией альтернативных вариантов понимаемого. При понимании-знании альтернативы ясно осознаются (кошка млекопитающее животное или нет); при понимании-интерпретации осознанность содержательных компонентов мнений значительно ниже (аборт это убийство живого существа или такое же безобидное удаление органических клеток, как стрижка ногтей или волос); при понимании-постижении полное осознание, влекущее вербальное объяснение, обычно невозможно (за что, за какие человеческие недостатки мусульманские террористы убивают «неверных»?). В этом континууме сознательного – бессознательного следующий перспективный шаг в исследовании понимания как психологии возможного – решение проблемы барьеров: все ли потенциально возможное и понимаемое является социально и морально допустимым? Применительно к пониманию как психологии возможного эта проблема фундаментальна, потому что барьерами оказываются представления понимающего субъекта о должном, приемлемом или недопустимом. А соотнесение понимаемого с должным – основополагающая характеристика любого понимания (вторая главная характеристика – выход за непосредственные границы содержания понимаемого и включение его в какой-либо более широкий контекст личностного знания). «Как убедительно показал М. Н. Эпштейн, должное является разновидностью возможного, а не формой необходимости. Любое долженствование предполагает возможность соблюдения нормы и возможность ее нарушения; выбор зависит от нашего ответственного решения, пусть даже соблюдение нормы поощряется, а нарушение наказывается» (Леонтьев, 2011, с. 20).
С точки зрения методологии современного научного познания, сознание – общий элемент физики и психологии (Менский, 2011). Сознание «видит» альтернативы мира, но в нем же существуют фильтры, способствующие фокусированию внимания ученого на одних возможностях и игнорированию других. Вот как обстоит дело в квантовой физике: «Действительно, зададимся вопросом, можно ли тем или иным способом „заглянуть“ в „другие реальности“. Пока мы принимаем (как обычно делается в „стандартной“ интерпретации квантовой механики), что все альтернативы, кроме одной, не существуют, то просто некуда „заглядывать“. Но если все альтернативы одинаково реальны и сознание просто „разделяет“ их в собственном восприятии, то существует по крайней мере принципиальная возможность заглянуть в любую альтернативу, как-то осознать ее наличие. Есть образ, который иллюстрирует разделение сознания между альтернативными классическими реальностями. Это шоры, которые надевают на лошадь, так что она не может смотреть по сторонам и сохраняет направление движения. Точно так же сознание надевает шоры, ставит „перегородки“ между различными классическими реальностями, чтобы каждая „компонента“ сознания видела только одну из них и принимала решение в соответствии с информацией, поступающей только из одного классического (а значит относительно стабильного и предсказуемого, то есть, пригодного для жизни) мира» (Менский, 2011, с. 114–115).
1.3.5.1. Сознательные и неосознаваемые причины понимания чужого человека как врага
Ранее на примерах работы мэра мегаполиса, работников спецслужб и других было показано, что в мире человека есть области и проблемы, не решаемые исключительно рациональными способами. Их решению препятствуют барьеры, существующие в психике абсолютно всех людей. Проанализирую их подробнее. Типичное и подходящее для этого явлением явление – то, как люди различных стран и в разные исторические эпохи не рационально, а интуитивно и бессознательно воспринимают и понимают других людей, отличных от себя. В современном мире это можно сделать на материале конфликтов между приверженцами христианских и мусульманских ценностей, а также этнорелигиозного терроризма, в которых наиболее отчетливо проявляются психологические причины понимания чужого человека не как друга, а как врага. В понимании чужого важную роль играют не только осознанные рациональные знания субъекта, но также бессознательное и житейские понятия. Иначе говоря, психологами должен быть сделан акцент на исследовании когнитивного и аффективного бессознательного – внепонятийных иррациональных компонентов понимания чужого. Существуют такие сферы человеческого бытия, которые вообще не приемлют рационального познания. В подобных сферах есть коренное противоречие между рациональным знанием, объяснением и глубинными эмоциями, переживаниями. Глубинные установки и предубеждения не опираются на разумные суждения и потому их нельзя разрушить обычной логикой.
Объяснение этого феномена, по-моему, следует развивать в трех направлениях. Во-первых, проанализировать данные о том, что многие моральные и религиозные решения субъект принимает автоматически, интуитивно, бессознательно. Во-вторых, из исследований Ж. Пиаже следует, что некоторые операциональные схемы действий могут противоречить идеям, которые субъект сознательно уже сформулировал. Эти идеи занимают более высокое место, чем схемы действия, и блокируют их интеграцию в сознательное мышление. В-третьих, и это принципиально важно для развития психологии возможного, со ссылкой на результаты психофизиологических исследований нужно обосновать существование в сознании человека фильтров, актуализирующихся при соотнесении древних и недавно сформированных культурных феноменов с менее и более дифференцированными мозговыми системами.
В последнее время в психологической науке понимание субъектом чужих людей как друзей или врагов стало одной из чрезвычайно значимых проблем. Причины ее актуальности следуют и из теоретико-методологических оснований развития психологического познания, и из происходящих в мире социальных процессов, в том числе революционных преобразований в политике и экономике многих стран, миграции, резком возрастании террористической активности и т. п. Разрешение конфликтов, спорных политических вопросов нередко основывается на чувствах, переживаниях, социальных представлениях, на опыте людей, а не на достоверных научных знаниях. Наше восприятие и понимание чужого как врага тоже основано не только на осознанном рациональном знании. Важную роль в этих процессах играют бессознательное и житейские понятия. Любому профессиональному психологу известны результаты исследований Л. С. Выготского о житейских и научных понятиях. Ребенок, овладевший житейскими понятиями, обращает внимание лишь на отраженные в них эмпирические связи, т. е. отношения между предметами. Он еще не способен определить понятие другими словами и установить сложные логические отношения, описать целостную понятийную структуру. В отличие от житейских научные понятия встроены в систему знаний, связаны с другими терминами в иерархической системе логических отношений, содержащей множество понятий разного уровня обобщенности.
Как известно еще со времен работы А. Шюца «Чужак», знание человека, думающего и действующего в мире своей повседневной жизни, обладает лишь частичной ясностью и не свободно от противоречий. Автор пишет, что обычно человек довольствуется тем, что в его распоряжении есть исправно функционирующая телефонная служба, но не задается вопросом о том, как работает телефонный аппарат. Он покупает в магазине товар, не зная, как тот изготовлен, и расплачивается деньгами, имея самое смутное представление о том, что такое деньги. «В повседневной жизни человек лишь частично – и осмелимся даже сказать: избирательно – заинтересован в ясности своего знания, т. е. полном понимании связей между элементами своего мира и тех общих принципов, которые этими связями управляют. <…> Более того, он вообще не стремится к истине и не требует определенности. Все, что ему нужно, – это информация о вероятности и понимание тех шансов и рисков, которые привносятся наличной ситуацией в будущий результат его действий» (Шюц, 2004, с. 536). Любой россиянин слышал аббревиатуру МРОТ (минимальный размер оплаты труда), но кто из нас знает, какую сумму он составляет и по каким экономическим законам формируется? И тем не менее отсутствие такого знания не мешает нам жить и работать.
Теоретическое обоснование различения своего, чужого (пока не своего, но могущего стать таким) и чуждого, не принимаемого субъектом ни при каких обстоятельствах, ясно и понятно представлено в тезаурусной концепции организации субъектного знания (Луков, Луков, 2008) и в модели восприятия чужого Б. Шефера и Б. Шлёдера (Шефер и др., 2004). В названной модели понятие чужого (человека) характеризуется посредством соотношения трех переменных – знания, опыта и идентичности (как неизвестного, неиспытанного и «не своего»).
Исследования, проведенные на взрослых испытуемых, показали, что в представлениях о враге центральное место занимают такие его характеристики, как эгоистичность, агрессивность и подозрительность (Знаков, 2016). Это соответствует результатам исследований образа врага в российской социальной психологии. Например, в диссертации Д. Б. Тулиновой показано, что «чем интенсивнее выражен комплекс отношений (враждебности, доминирования, агрессивности, подозрительности, эгоистичности), тем выше уровень маскулинизации врага и тем ниже оценка характеристик его внешнего облика» (Тулинова, 2005, с. 8).
Образ чужого как врага возникает в детстве, но с возрастом изменяется. В исследовании Л. Оппенгеймера на голландских детях и подростках 7–13 лет показано, что образ врага у старших детей отличается от такового у младших большей когнитивной сложностью. Старшие приписывают больше положительных качеств врагу, что может быть связано с развитием способности поставить себя на место другого. На вопрос, есть ли различия между врагом и самим респондентом, большинство детей во всех возрастных группах отвечали утвердительно. Однако с возрастом дети становятся все менее уверенными в различии: если среди 7-летних детей уверенность выражали 96 %, то среди 13-летних – только 59 % (Oppenheimer, 2010). Эти данные говорят о возрастной динамике развития когнитивной сложности межличностного понимания и идентификации, способности взглянуть на мир глазами другого (даже если он враг).
Исследования российских психологов позволили уточнить и расширить эти данные. Во-первых, значимым фактором является контроль со стороны взрослых, проявляющийся даже в простом факте их присутствия рядом с детьми. Например, дети, решавшие моральные дилеммы на компьютерном планшете, реже поддерживали «чужого», чем дети, получившие дилемму от экспериментатора. Возможную причину авторы исследования видят в том, что «снижение внешнего видимого контроля может ослаблять необходимость „сознательного контроля“ поведения – согласования своих действий с общественными нормами, что может сопровождаться процессами дедифференциации – снижением доли вновь сформированных систем, актуализируемых в данном поведении и связанных со сравнительно более поздно сформированными стратегиями решения конфликтов между членами „своей“ и „чужой“ групп» (Созинова, Пескова, Александров, 2018, с. 61). Во-вторых, «также было показано, что нравственное отношение к „чужим“ формируется как переход от эволюционно более ранних стратегий поддержки „своих“ в любой ситуации к более поздним стратегиям, основанным на справедливости и моральных нормах, например, недопустимости насилия» (Знаменская и др., 2016, с. 46). В-третьих, у взрослых в состоянии стресса наблюдается регрессия к поведению, характерному для более раннего возраста. Результаты обсуждаются авторами с позиций системно-эволюционного подхода и связываются с системной дедифференциацией – обратимым увеличением вклада низкодифференцированных систем в обеспечение поведения в стрессовой ситуации: «При стрессе наблюдается повышенная эмоциональность, что означает бо́льшую вовлеченность низкодифференцированных систем, чем в контроле, что и опосредует выбор в моральной дилемме» (там же, с. 51).
В российской психологии ценностно-смысловая и возрастная динамика различения своего и чужого представлена в исследованиях самоактуализации личности в процессе общения с другим (Рябикина, Сомова, 2001), идентификации другого человека в качестве врага или друга (Тулинова, 2005), трансформации социально-психологических характеристик представлений о друге и враге (Альперович, 2010). В социальной психологии показано, что в общении идентификация другого человека в качестве врага осуществляется на основе комплекса межличностных отношений. Образ врага имеет устойчивое ядро и периферию, которые незначительно различаются по своим психологическим качествам у мужчин и женщин (Лабунская, 2013).
Из культурологических исследований известно, что «отличие, инаковость – неотъемлемая часть нашего собственного существования, и иногда они становятся прямым условием нашей идентичности и образуют своего рода онтологическое единство. „Чужой“ нередко является частью нас самих» (Шулакевич, 2008, с. 112). Для того чтобы быть собой и понимать свой экзистенциальный опыт, мы должны осознавать неизбежность и закономерность необходимости обращения к опыту других, потому что наш опыт в значительной степени является его превращенной формой. Тем не менее распространенная в современном мире конфликтная практика межконфессиональных отношений, проявляющаяся в «мусульманском» терроризме, обнаруживает, что у представителей и христианского, и исламского мира вместо идентификации и стремления постигать психологию друг друга нередко наблюдается негативная проекция, способствующая порождению образа врага и мешающая самопониманию. Это противоречит логике и здравому смыслу, потому что, как пишет В. Г. Лысенко, «„не-Я“, чужое, все равно останется конструкцией нашего Я, поскольку мы будем выделять в нем именно то, что так или иначе перекликается с нашим „Я“. То есть наш „Я-образ“ уже заложен в саму модель чужого. Из этого вытекает четвертый принцип (ксенологии. – В. З.): образ чужого в той или иной культуре (равно как и для той или иной личности) может служить важным показателем уровня ее собственного развития: скажи мне, какой твой чужой, и я скажу тебе, какой ты! Ибо образ чужого может быть инструментом как самоутверждения (чаще всего), так и самопонимания, самооценки, самокритики и даже самосовершенствования! Иными словами, образ чужого сделан из „материала заказчика“ – „Я-образа“, его страхов, ожиданий, комплексов, ревности, любви, ненависти, чувства справедливости и т. п.» (Лысенко, 2009, с. 62–63). Однако в современном мире чужой превратился в потенциального нарушителя культурной безопасности (Романова и др., 2013), особенно если он – террорист. Между тем уже давно научно доказано, что враждебность субъекта по отношению к чужому, нередко проявляющемуся в криминальном и девиантном поведении, в конечном счете негативно влияет на формирование когнитивной и аффективной сферы его собственной личности (Ениколопов, 2007).
Сегодня человечество живет в условиях серьезных конфликтов между религиозными ценностями христиан и мусульман, в значительной мере основанными на принципиально различных моральных представлениях людей. Анализ конфликтов позволяет утверждать, что существуют такие сферы человеческого бытия, которые вообще не приемлют рационального познания. В подобных сферах есть коренное противоречие между рациональным знанием, объяснением и глубинными эмоциями, переживаниями. В частности, к ним относятся религиозные: какими бы логически оправданными соображениями мы ни руководствовались, всегда есть шанс, что невольно будут оскорблены чувства верующих. Однако пока все свидетельствует о том, что кровавые уроки людьми в западной цивилизации усвоены очень плохо. Повторю свою точку зрения: в мире человека есть экзистенциальные сферы бытия, в которые вообще не следует погружаться даже с самыми благими намерениями. В этих сферах протестные настроения и переживания не соприкасаются с разумом. Глубинные установки и предубеждения не опираются на разумные суждения и потому их нельзя разрушить обычной логикой. Фундаментальный вопрос, на который должна ответить психологическая наука, заключается в следующем: почему не только осознанные рациональные объяснения, но и бессознательные компоненты поведенческих реакций людей, говорящих на разных языках и проживающих в разных странах, оказываются очень похожими?
Приведу три аргумента, которые целесообразно использовать при анализе понимания экзистенциальных ситуаций человеческого бытия, подобных описанным выше: причин сходства поведенческих реакций, не осознаваемых групповыми и индивидуальными субъектами.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе