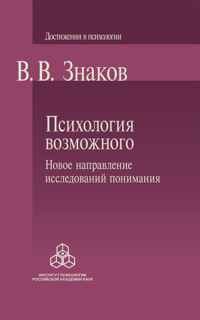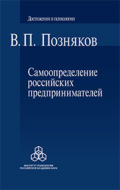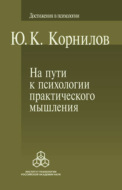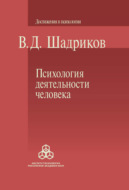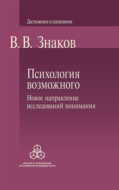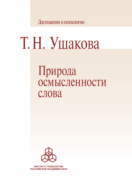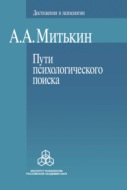Читать книгу: «Психология возможного. Новое направление исследований понимания», страница 4
1.3.3. Возможное в альтернативной идентичности в социальных сетях
Еще одной современной областью психологических исследований, в которой нельзя обойтись без категории «возможного», являются социальная перцепция и альтернативная идентичность в социальных сетях. Занимаясь психологией Интернета, А. Е. Войскунский отмечает, что представленные в социальных сетях «виртуальные» идентичности нередко отличаются от сформировавшихся в повседневной жизни «реальных» идентичностей. По его мнению, когда пользователь социальных сетей конструирует более одной идентичности, их следует называть альтернативными. Регистрируясь в социальных сетях, разумный человек понимает, что он вступает на поле, в котором наряду с действительным практически всегда присутствует возможное: «При этом никогда нет уверенности в том, что лично не знакомый (в непосредственном общении) пользователь есть тот, за кого себя выдает: презентация может оказаться намеренно ошибочной или ернической, фотоматериалы могут вообще не относиться к автору презентации, биографические данные могут не совпадать с реальной биографией пользователя либо совпадать лишь частично» (Войскунский, 2014, с. 98). Разнообразные трансформации собственной идентичности, изменение, сокрытие, отрицание сведений о себе, конструирование сетевой идентичности, отличной от реальной (выбор другого имени, пола, биографии, профессии, представления чужих фотографий) могут отражать попытки субъекта «примерить» на себя новую, альтернативную, возможную самопрезентацию. Вместе с тем не следует забывать, что «презентация не существующих в реальности (фальшивых) персон, по сути, является ложью, однако пользователи социальных сетей склонны считать такую ложь позволительной» (Войскунский, Евдокименко, Федунина, 2013, с. 67). (Замечу, что подобное отношение ко лжи типично для «общества переживания» в эпоху постправды). Разнообразные варианты расширения действительного не устраивающего пользователя по каким-то причинам, за счет желаемого, «примериваемого» на себя возможного вполне могут не иметь негативной моральной модальности, а отражать стремление человека к личностному росту. Все это свидетельствует о том, что «одним из наиболее привлекательных аспектов бытия личности в виртуальной реальности остается возможность создания личностью желательного впечатления о себе, дозированного самораскрытия и конструирования образа по своему выбору (А. Г. Асмолов, Г. А. Асмолов, Ю. М. Кузнецова и др.), способность манипулировать создаваемой идентичностью» (Рябикина, Богомолова, 2013, с. 81).
Как показывают психологические и социологические исследования, на выбор подлинной или обманной самопрезентации влияет пол: «Для мужчин главным фактором привлекательности их аккаунтов и, соответственно, критерием вовлечения в обманчивую самопрезентацию является демонстрация дохода и высокого социального положения, для женщин – привлекательная внешность» (Щекотуров, 2017, с. 331). Выбор подлинной или альтернативной виртуальной самопрезентации у подростков зависит от нескольких социальных факторов: отношения родителей к использованию социальных сетей (подростки, родители которых проявляют интерес к их виртуальной жизни, более склонны создавать подлинную самопрезентацию); отношения к виртуальным незнакомцам (подростки, поддерживающие активные связи с виртуальными незнакомцами, более склонны иметь альтернативные самопрезентации); настройки приватности в соцсети (подросток с высокими настройками приватности, при которых его профиль во многом закрыт от сторонних пользователей, более склонен создавать подлинную виртуальную самопрезентацию); количества времени, проведенного в соцсети (подростки с обманной самопрезентацией проводят большую часть суток в соцсети, подростки с подлинной виртуальной самопрезентацией – несколько часов в день; способа конструирования виртуальной самопрезентации (потребность в публичной демонстрации выше у тех подростков, которые создают фальшивые самопрезентации); способности к саморефлексии по поводу влияния соцсети на социализацию в реальной жизни (в отличие от подростков с подлинной самопрезентацией субъекты с альтернативными самопрезентациями более склонны давать оценочную характеристику, но менее способны аргументированно ответить, почему и как конкретно времяпрепровождение в соцсети влияет на реальную жизнь) (там же, с. 338).
Склонность субъекта к презентации в социальных сетях своего подлинного или фальшивого Я связана с разными установками и личностными чертами.
Представители реалистичного демонстративного Я характеризуются экстраверсией, доброжелательностью, открытостью новому опыту. Реалистичное Я положительно связано со склонностью к публичной самопрезентации, демонстрацией совершенства и отрицательно – с направленностью на других и вербальным непроявлением несовершенства. «Стремление к представлению реалистичного демонстративного образа себя в социальной сети будет характерно для людей, имеющих более высокий уровень экстраверсии, доброжелательности, сознательности и открытости, а также имеющих более высокий уровень нарциссизма» (Корниенко, Руднова, Горбушина, 2021, с. 49).
Представители группы «фальшивое Я» стремятся учитывать мнение других, они ориентируются на то, как реагируют другие, их поведение зависит от окружения. Эти участники сетевых взаимодействий демонстрируют совершенство своих личностных и поведенческих качеств, но готовы изменять собственный образ так, чтобы он больше соответствовал ожиданиям окружающих. «Презентация фальшивого обманного Я в социальной сети обнаруживает связи с психопатией и макиавеллизмом как составляющими Темной триады, что позволяет предполагать, что эмоциональная холодность и импульсивность, расчетливость и склонность к обману усиливают стремление представить нереальный образ в социальной сети. Однако регрессионная модель показывает, что именно макиавеллизм и сознательность выступают предикторами фальшивого обманного Я» (там же).
Оба типа характеризуют стремление людей продемонстрировать в сети образ компетентного и успешного человека, но в случае с фальшивой обманной самопрезентацией это проявляется в целенаправленной стратегии создания образа, не соответствующего реальности, но устраивающего самого человека.
Таким образом, с одной стороны, социальные сети расширяют поле возможностей человека, с другой – виртуальная коммуникация несет в себе опасность разрушения традиционных форм общения с присущими им преимуществами (эмоциональной включенностью, эмпатией, невербальностью экзистенциального опыта и т. п.). Эту особенность сегодняшнего мира человека отмечают современные философы: «Гораздо более глубокая деконструкция наметилась в связи с появлением в начале XXI в. виртуальных практик, которые означают уход из актуальной среды, чем наносится ущерб личному общению как внешне (сокращается время), так и внутренне (актуальное общение становится более поверхностным, приближаясь к виртуальному). Эту опасность общего ослабления, а возможно и разрушения связей с реальностью, следует считать главной опасностью с точки зрения самотворчества. Перенос практик самотрансформации в виртуальную среду обольщает человека большими возможностями: слабый может представить себя сильным, бесталанный наградить талантом, но на самом деле является глубочайшей подменой и потерей основ духовного самоизменения» (Горелов, Горелова, 2019, с. 542). Еще одна проблема – переосмысление процедуры интерпретации, ведущей к пониманию виртуальной среды: в ней происходит стирание границ между знанием и информацией, фактами и их толкованием. Следовательно, понимание виртуальной среды, в частности, медиареальности предполагает поиск новых подходов к осмыслению интерпретации, ее границ и специфических особенностей (Ищенко, 2019).
1.3.4. Возможное в психологии личности и психологии субъекта
Многомерный мир человека характеризуется существованием в нем трех реальностей – эмпирической, социокультурной, экзистенциальной. В любой момент времени человеческое бытие уже потенциально содержит то, чем оно станет в будущем. Иначе говоря, любая реальность человеческого бытия является и возможностью того, чем она станет, но пока еще не есть (Рубинштейн, 1957). Человек открывает для себя реальность в виде многообразия возможностей. Неудивительно, что психология возможного является актуальным направлением современного социогуманитарного познания. Психология возможного – перспективное направление научного анализа понимания человеком мира, в котором значительное место занимают психологические исследования субъекта и личности. Особенно отчетливо это проявляется в экзистенциальной психологии личности (Гришина, 2018б, с. 247–283), потому что «одним из базовых постулатов экзистенциальной психологии является утверждение, что человек существует в мире возможностей, что он выбирает свое бытие. Экзистенциальный человек – это человек выбирающий. Вызов мира возможностей – это вызов нашей свободе, нашему осознанию имеющихся возможностей, принятию их и готовности и способности осуществлять выборы, придающие смыслы нашему существованию» (там же, с. 259). В отличие от традиционных теорий личности, в рамках которых обычно главным становится Я как совокупность личностных черт, в экзистенциальном подходе психологи, акцентируют внимание на том, «как человек взаимодействует с миром, переживает свое существование и приобретает экзистенциальный опыт» (там же, с. 281).
В психологии личности категория «возможного» применима ко всему спектру интерпретации – от четко осознаваемого субъектом понимания-знания своего внутреннего мира до бессознательного понимания-постижения, с трудом поддающегося вербализации и осмыслению. Выражаясь метафорически, можно сказать, что при психологическом анализе личности на левом полюсе континуума «сознательное – бессознательное» оказываются осознаваемые субъектом и альтернативные возможные Я, на правом – личность как экзистенциальная тайна. Между ними находится личностный кризис как невозможность осмысления трудной жизненной ситуации (Василюк, 1984).
Основополагающей работой, в которой категория «возможного» была включена в научный арсенал психологии личности, стала статья Х. Маркус и П. Нуриус (Markus, Nurius, 1986). В ней «возможное» используется для объяснения влияния на образ Я потенциальных представлений о себе. Возможное Я анализируется как направленный в будущее (ожидания, надежды, цели) и в прошлое (страхи, осознание совершенных ошибок) компонент Я-концепции. В статье обсуждаются возможные Я, которыми человек хотел бы стать, и те, которых он избегает, а также Я, которые никогда не станут реальностью. М. Г. Эриксон приводит пример нереализуемого возможного: «Я могу иметь сильное желание владеть эксклюзивным спортивным автомобилем, формирующим возможное „я за рулем моего собственного Aston Martin“, ни одного мгновенья не ожидая, что это сбудется» (Erikson, 2007, р. 351).
Психологи не сводят возможные Я только к когнитивным механизмам (осознанию целей или оценке результатов возможного прошлого и будущего). Конструкт возможного Я включает переживание потенциальной ситуации изнутри. Он направлен на оценку возможностей действия, развития личности, личностных ресурсов саморегуляции и совладания с трудностями. Применительно к возможным Я психологи считают необходимым различать саморегуляцию и самосовершенствование. Самосовершенствование наиболее эффективно тогда, когда личностные возможности детализированы и имеются стратегии для выполнения поставленных целей. Наличие четко сформулированной цели еще недостаточно для самоусовершенствования: необходимо ясно определить поведенческие стратегии по достижению наших ожиданий и целей (Oyserman et al., 2004).
Признавая безусловную продуктивность направленности на анализ возможного как компонента психических образований, тем не менее, не следует забывать, что между психологиями понимания и личности есть существенное различие, относящееся к степени включенности обсуждаемого феномена и личностных свойств человека в его поведение: далеко не всегда понимание должно приводить к поступкам, в то время как личность не может формироваться вне поведения и деятельности. Обсуждая проблемы понимания как сферы возможного, это обстоятельство нельзя упускать из виду. По мнению М. Г. Эриксона, в возможные Я личности не входят такие представления о будущем, которые безразличны субъекту, не побуждают его к изменениям, и по этой причине их нельзя считать возможными Я (Erikson, 2007). С пониманием, поскольку оно не является психологией поведения, дело обстоит иначе: для полноты понимания события или ситуации человек должен учитывать все варианты их возможного развития, в том числе нейтральные и неблагоприятные для него.
В российской психологической науке, опираясь на идеи Х. Маркус о возможных Я и «философии возможного» М. Н. Эпштейна, термин «психология возможного» впервые использовал Д. А. Леонтьев (Леонтьев, 2011). Ссылаясь на Х. Маркус и П. Нуриус, он пишет: «По сути, за разными возможностями, из которых человек выбирает, стоят разные возможные Я; личностный выбор – это всегда выбор одного из возможных вариантов себя (там же, с. 14). Развивая мысль М. Н. Эпштейна на материале психологии личности, он отмечает, что существует целый ряд психологических феноменов, относящихся к области возможного, но не порождаемых причинно-следственными закономерностями. Такие феномены не необходимы, но и не случайны, они недетерминированные, возможные. По Леонтьеву, обнаружение того, что в человеческом бытии наряду с необходимым существует сфера возможного, вводит в жизнь человека измерение самодетерминации и автономии. Автономия и самодетерминация необходимы для ориентации поведения в пространстве возможного, «потому что превращение возможности в действительность происходит только через недетерминированный (точнее, самодетерминированный) выбор и решение субъекта» (там же, с. 12).
В целом усилия Д. А. Леонтьева по развитию антропологической модели, уже включающей контуры психологии возможного, безусловно, следует признать весьма продуктивными и интересными.
Когнитивная интерпретация возможных Я проявляется преимущественно на левом полюсе континуума «сознательное – бессознательное». Когда интерпретация «наталкивается» на невозможность осознания и соответственно реализации своей объяснительной функции, возникает личностный кризис. Ф. Е. Василюк характеризует критические ситуации как ситуации невозможности реализации субъектом своих стремлений, мотивов, ценностей. В самом общем смысле это невозможность жить, реализовать внутренние необходимости своей жизни: «Поскольку жизнь может обладать различными видами внутренних необходимостей, естественно предположить, что реализуемости каждой из них соответствует свой тип состояний возможности, а нереализуемости – свой тип состояний невозможности» (Василюк, 1984, с. 26). Реализуемость зависит от деятельности переживания, направленной на преодоление ситуаций «невозможности» и основанной на выборе альтернатив. «Чтобы осуществить выбор, человек должен отказаться от многих возможностей, привычек, намерений, в пределе – от какой-то жизни, которая была возможна до выбора. Поэтому на самых ранних фазах выбора начинается и еще долго после принятия окончательного решения тянется работа переживания по смирению с невозможностью осуществления отвергнутой альтернативы. Чем лучше развита у человека способность предвосхищающего, опережающего переживания, чем лучше он осознает всю полноту предстоящей утраты и в то же время ресурсы и перспективы совладания с нею, тем больше он способен жертвовать и тем более ответственно он может делать свои жизненные выборы» (Василюк, 2007, с. 419).
Осознание субъектом кризиса зависит не только от предвосхищающего, переживания, но и других психических процессов и внешних обстоятельств. Понимание, например, летчиком, трудной жизненной ситуации как кризисной зависит от нескольких факторов: характеристики самой экстремальной ситуации (мощности, длительности ее воздействия на человека, неожиданности возникновения); готовности людей к деятельности в сложных условиях, профессионально-психологической стойкости, волевой и физической закалки; организованности и согласованности действий в экстремальной ситуации, поддержки окружающих; наличия примеров мужественного преодоления трудностей другими людьми и т. п. (Собченко, 2019, с. 192–193).
В современной психологии, особенно психологии стресса и совладающего поведения, активно проводятся исследования, направленные на анализ не только преодоления субъектом наличного кризиса, но и способов предотвращения его в будущем. С точки зрения психологии возможного, принципиально важными являются исследования в области проактивного совладания, потому что в них акцент делается на определении усилий субъекта, направленных на приобретение ресурсов для расширения собственных возможностей и личностного роста. Проактивный копинг, предполагает оценку будущих событий не как угрозу личности, а как вызов или как новые возможности достижения личностного роста (Drummond, Brough, 2016). Общим психологическим основанием копингов, направленных не на настоящее, а на будущее, по-видимому, является такое качество, как антиципационная состоятельность. В частности, применительно к учебной деятельности она «состоит в том, насколько хорошо студент способен прогнозировать и оценивать трудности, которые могут возникнуть в процессе обучения, определять возможные способы совладания с ними, а также выявлять и накапливать ресурсы, которые обеспечат возможность предотвратить угрозу или справиться с ней» (Даниленко, Горбунов, 2018, с. 35).
На полюсе «сознательное – бессознательное» кризис является таким переломным моментом, в который субъект ясно осознает недостаточность средств рациональной когнитивной интерпретации своего внутреннего мира. Если использовать язык современной теории самоорганизации систем, то критическое состояние это точка бифуркации, которая свидетельствует о неустойчивости экзистенциальной системы. В этот момент интерпретирующий субъект должен принять решение: считать ли свой внутренний мир неустойчивым и неопределенным или искать новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности. И здесь наблюдается парадокс: упорядоченности можно достичь не только путем синтезирования аналитически осознанных знаний, но и холистическим пониманием того, что экзистенциальная личность есть тайна.
Обсуждая вопросы активного осмысления личностью множества возможных альтернатив, нельзя игнорировать проблемы самоизменения личности и самопорождения субъекта. Общие для современного человекознания в целом и психологии личности в частности тенденции научных исследований анализирует Н. В. Гришина Она вводит понятие потенциала самоизменений личности, отражающего возможности изменчивости человека. Она отмечает, что «понятие потенциала получает все большее распространение в гуманитарных науках благодаря их растущему вниманию к сфере возможного. Понятие потенциала и потенциальных возможностей человека начинает активно развиваться представителями гуманистического направления в психологии в рамках идеи самоактуализации, реализации заложенных в человеке возможностей» (Гришина, 2018а, с. 133).
В XX в. традиционные психологические исследования личностных черт основывались на парадигме устойчивости, согласно которым настоящее в личности в основном определяется прошлым: «Исследователь, – пишет Вальсинер, – выбирает из прошлого новый фактор А, пытаясь найти связь со следствием С. Если такая связь математически подтверждается, он просто добавляет новую причинную связь к ранее принятым. Однако эта „новая“ связь есть не что иное, как реконструкция условий прошлого» (Костромина, Гришина, 2021, с. 23). Изменение научных представлений о детерминации психических явлений и возникновение психологии возможного привело к смещению фокуса внимания специалистов по психологии личности на поиск неадаптивных, не связанных с прошлым опытом механизмов ее формирования и развития: «Пространство возможного расширяет понимание личности за счет явлений, которые необязательны, наполняет реальность действиями, не сводимыми к адаптивным, снижает определенность и максимизирует потенциальные смыслы» (там же, с. 32).
В XXI в. мир изменился – это очевидная и даже банальная истина. Но сегодня для нас важнее понять, что из этого следует для изучения психологии личности и психологии субъекта. В конце прошлого века многие психологи искали в личности устойчивые структуры и называли их свойствами – тревожность, ригидность, макиавеллизм и т. п. Теперь пришла пора задуматься над тем, как в сложном мире, по словам Л. И. Анцыферовой, «изменить себя, не изменяя себе» (Анцыферова, 2006, с. 341). Иначе говоря, в изменчивом мире психологи должны изучать динамику становления субъектной сущности человека, не утрачивающего внутреннего стержня, индивидуально-личностного своеобразия. Творческий характер человеческой психики означает стремление субъекта в любой ситуации сделать все возможное, использовать свои возможности в полной мере. Другими словами, творческий субъект всегда должен открывать новые возможности реализации своих планов, а также превращать в возможное то, что кажется невозможным. В связи с этим актуальными являются две главные задачи.
Первая – необходимость содержательного разграничения категорий «субъект» и «личность». Для решения этой задачи была выдвинута гипотеза о соотношении частного и общего в проявлениях человека как субъекта и как личности. Согласно гипотезе (впоследствии доказанной эмпирически), личность является стрежневой структурой субъекта, задающей общее направление самоорганизации и саморазвития. Личность задает направление психического развития, а субъект – его конкретную реализацию через координацию выбора целей и ресурсов индивидуальности человека. Личность является носителем содержания внутреннего мира человека, которое субъект реализует в конкретных жизненных условиях и обстоятельствах. Субъектность человека формируется и проявляется в процессе осуществления трех функций: когнитивной, регулятивной и коммуникативной (Сергиенко, 2013).
Вторая задача, которую предстоит решить психологам, – определение соотношения процессуальных и структурных компонентов в субъекте и личности. В последнее время в исследованиях субъекта и личности наблюдается переосмысление психологами категории «процессуальность», а в научном познании чаще используется процессуальный подход к анализу психических явлений, чем структурный. И это неудивительно, потому что в современных психологических исследованиях во главу угла ставится проблема изменчивости: «Проблема изменчивости человека относится к фундаментальным темам психологии: параметр „изменяемость – неизменность“ входит в систему базовых характеристик в описании личности» (Гришина, 2018а, с. 126). В российской науке процессуальный подход применительно к психологии личности развивается в работах С. Н. Костроминой, а также С. Н. Костроминой и Н. В. Гришиной, в психологии мышления он анализируется В. В. Селивановым (Костромина, 2019; Костромина, Гришиной, 2018; Селиванов, 2019).
Н. Е. Харламенкова на основании идей Е. П. Никитина и Л. И. Анцыферовой развивает динамический подход к исследованию психики человека в целом и психологии личности в частности (Харламенкова, 2018). Как утверждает американский психолог П. Джордано, целостную личность лучше всего понимать как процесс, а не как структуру. Процессуально центрированный подход к личности описывает ее как открытую, динамичную, изменяющуюся систему. В структурно центрированном подходе, ориентированном на западную модель онтологии бытия (Giordano, 2015), психологи изучают относительно стабильные личностные черты или целостную структуру Я. В этом подходе наиболее значимыми для психологического исследования личности признаются сравнения между индивидом и группой. В процессуальном подходе, культурным и философским основанием которого является не онтология бытия, а онтология становления, внимание психологов фокусируется на понимании процессов и вариаций внутреннего мира человека, а также на их временной трансформации. С этой точки зрения, самым важным является анализ становления, динамики и новизны личностных образований (Giordano, 2017).
Истоки возобновления интереса психологов к процессуальности психики можно искать в публикациях, относящихся к самым разным наукам. Современные социологи говорят о том, что социокультурная реальность представляет собой «не статическое состояние, а динамический процесс, она происходит, а не существует, она состоит из событий, а не из объектов» (Штомпка, 1996, с. 266). Философ и арабист А. В. Смирнов видит логико-смысловую картину арабо-мусульманского мира в виде многообразия действий, по его мнению, мир состоит не из вещей-субстанций, а из вещей-процессов. Он объясняет это так: «Нам непривычно, быть может, называть вещью процесс. Но если мы понимаем под вещью нечто зафиксированное в качестве основания различения, нечто, способное стать носителем предикатов, то именно процесс должен быть назван здесь вещью. Процессуальность задает иную архитектонику сознания: оно устроено иначе, это верно; оно по-другому выстраивает полотно осмысленности» (Смирнов, 2015, с. 137). Философские рассуждения западных ученых о вещно-предметной онтологии бытия и динамической онтологии становления (Being and Becoming ontologies) (Giordano, 2015) находят конкретное воплощение в различных направлениях психологической науки. П. Джордано применяет их для построения процессуально центрированной модели личности (Giordano, 2017). В экзистенциальной психологии со времен М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра известно, что «существование предшествует сущности». Д. А. Леонтьев, анализируя взгляды И. Пригожина, отмечает, что деятельность первична по отношению к психическим образованиям, а «актуальный, протекающий здесь и теперь процесс первичен по отношению к устойчивым структурам, которые являются скорее следствиями этого процесса» (Леонтьев, 2018, с. 11).
Анализ соотношения процессуальных и структурных компонентов в психике субъекта и личности очень важен для выявления и определения источников активного начала в человеке. Такой анализ недавно осуществила С. Н. Костромина, которая содержательно различает «динамику», «динамичность» и «процессуальность» психических образований. Динамический подход к исследованию психического характеризует собственно движение, проявляющееся в поиске ответов на вопросы: «как человек совершает самодвижение?» «как человек созидает себя?» «как связаны друг с другом онтогенетические стадии и уровни развития личности с психологической организацией личности?». «Динамика отражает активность системы – этапность происходящих изменений, трансформацию, чередование устойчивых форм активности и переходных состояний. Применительно к личности она подчеркивает активность, ее субъектное начало. Иными словами, динамика через анализ активности (ее направленности, последовательности, структуры процессов, механизмов, результата) раскрывает свойства процесса и логику разворачивающегося во времени изменения. Динамичность – характеристика, подчеркивающая подвижность и изменчивость (вариативность), то есть описывающая состояние системы, ее способность и готовность к преобразованию. По своим параметрам динамичность более точно отражает сущность личности» (Костромина, 2019, с. 57–58). Процессуальность, как и динамичность, характеризует состояние системы: «Но, в отличие от динамичности, процессуальность – свидетельство нестабильности, непостоянства. В ракурсе процессуальности интерес представляет не то, в какой последовательности или направлении (процесс), и не то, как происходит движение (динамичность), а само текучее состояние системы, то есть то, насколько система изменчива по своей сути и насколько она способна и готова меняться» (там же, с. 58).
Приведенные выше рассуждения, направленные на поиск активного личностного начала в человеке имеют давнюю традицию в российской психологии субъекта. Она уже прошла первый этап развития, который я назвал бы содержательно-структурным. В отечественной психологии этот этап исследований начался в 1990-е годы (Брушлинский, 1991).
На первом, этапе, фактически познавательном, психологам было важно получить достоверное знание о субъекте. Этот этап развития обсуждаемого научного направления по существу был телеологичным, он характеризовался направленностью психологов на получение знаний о раскрытии человеком своего Я (способностей, мотивов, интересов) и присвоении форм субъектности, лежащих в основе определенной профессиональной практики. Как это и закономерно для становления любого нового научного направления, на содержательно-структурном этапе психологами активно обсуждались определения субъекта, разные точки зрения на его понимание, критерии субъектности человека и другие аспекты проблемы.
В этом контексте значимыми были психологические исследования, в которых решалась задача различения признаков индивидуального и коллективного субъекта. На теоретико-методологическом уровне анализа проблемы отмечалось, что «в самом полном и широком смысле слова субъект – это все человечество в целом, представляющее собой противоречивое системное единство субъектов иного уровня и масштаба: государств, наций, этносов, общественных классов и групп, индивидов, взаимодействующих друг с другом» (Брушлинский, 2003, с. 29). На конкретно-эмпирическом уровне анализа психологические исследования характеризовались закономерной направленностью ученых на определение явных вербализуемых признаков коллективного субъекта, в них проявлялся интерес психологов к структурным компонентам индивидуального и коллективного субъекта. Именно в этом качестве аналитически были выделены присущие нескольким людям состояния предактивности, коллективная саморефлексия, групповая устойчивость, удовлетворенность и т. п.
Разумеется, окончательных ответов на все обсуждавшиеся вопросы в исследованиях, проводившихся на первом этапе, не найдено, но если ограничиться только их психологическим анализом, то возникает опасность впасть в порочный замкнутый круг – необходимы новые перспективы и горизонты.
И такие перспективы есть. На втором этапе главными становятся те условия, в которых реализуется самотрансформация субъекта, и те приемы, например духовные практики, с помощью которых она происходит.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе