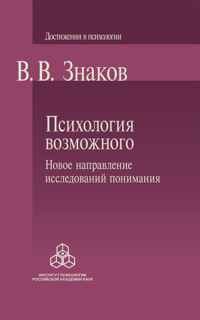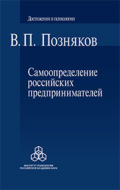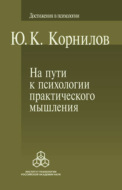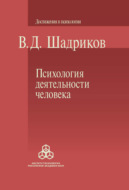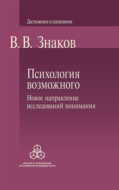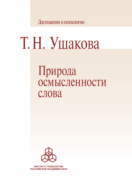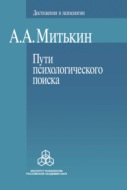Читать книгу: «Психология возможного. Новое направление исследований понимания», страница 7
В современном информационно-сетевом обществе представления о средствах труда кардинально изменились. Раньше молоток, телефон и тому подобные инструменты были явным продолжением органов чувств и частей тела человека. Вот как писал об этом Б. Г. Ананьев: «Известно, что благодаря материальному производству, особенно производству средств производства, общество вооружает человека самыми разнообразными техническими средствами, бесконечно „усиливающими“ естественные органы человеческого тела, а подчас и создающими новые подвижные функциональные системы или „функциональные органы“, т. е. орудия в самом широком смысле слова. С помощью таких технических средств человек воздействует на окружающую природу, изменяет ее, а в процессе ее изменения преобразует и собственную природу» (Ананьев, 1968, с. 25).
Сегодня ученые говорят не об «усилении» (или продолжении) органов человеческого тела техническими устройствами, а о симбиозе, синтезе естественного и искусственного. В прошлом исследования искусственного интеллекта реализовывались на технической основе сопоставления мышления отдельного человека с возможностями машины. По свидетельству выступлений на масштабных научных конгрессах и авторов фантастических романов, предельно огрубляя, можно сказать, что целью исследований было копирование человеческого разума. Иначе говоря, искусственный интеллект строился на основе редукции соотношения индивидуального и коллективного к познающему индивиду. В наше время Э. Файола и другие ученые говорят о становлении киберсознания и человеке дополненном. Возникает представление о формировании коллективного разума, сетевого интеллекта: в компьютерных системах с межсетевым взаимодействием человеческий интеллект становится одновременно распределенным и объединенным. В медицине давно уже используются приборы типа кардиостимуляторов, которые не позволяют однозначно ответить на вопрос: является ли ритм сердца больного естественным или искусственным? Нечто подобное теперь происходит со становлением киберсознания: в инновационном поле современного общества мы наблюдаем становление социально-разделенного сознания. Это означает слияние компьютерных технологий не только с разумом, но и с телами людей. «Инвазивные технологии дополняют понимание телесно воплощенного человеческого опыта» (Файола и др., 2016, с. 155). Живым примером может служить канадец Роб Спенс, которому в глаз имплантировали видеокамеру, соединенную с передатчиком. Приведу недавний случай взаимодополнения компьютерной и обыденной реальностей: летом 2016 г. во всем мире стала популярной игра Pokemon Go. В ней действия частично происходят в реальном мире, в местах, обладающих конкретными географическими координатами. И в этих местах якобы действительно присутствуют компьютерные вымышленные персонажи, которых ищут игроки.
Подобное направление развития науки и техники сегодня не стало бы неожиданным для Б. Г. Ананьева, который еще полвека назад писал: «С успехами техники развились такие исторически сложившиеся системы, как „рука + механические орудия“, „глаз + оптика“, „ухо + акустика“. Благодаря такому соединению органов человеческого тела – анализаторных систем мозга – с орудиями бесконечно расширяется сфера чувственного познания и постепенно возрастает так называемая „разрешающая сила“ органов чувств человека. Можно сказать, что „каналы связи“ и „информационные системы“ человеческого мозга на каждой ступени цивилизации таковы, какими их делает соединение со все совершенствующимися техническими приспособлениями, „орудиями“ в самом широком смысле слова» (Ананьев, 1968, с. 26).
Итак, если современные технологии считать средствами производства, то в сетевом обществе знаний они уже не «продолжают» человека, а сливаются с ним. Это происходит потому, что знания, распределенные между членами коммерческих организаций или научных сообществ, все равно остаются достоянием конкретных людей, входящих в такие структуры. И такой взгляд на средства труда отражает характерную особенность социокультурной реальности XXI в.
В новых условиях снова стираются грани между субъектом и орудием как объектом. Говорят, что новое это хорошо забытое старое. О противоположности и вместе с тем единстве субъекта и объекта, внутреннего и внешнего бытия еще сто лет назад писал С. Л. Франк. Сегодня в интерпретации Э. Файолы, А. Е. Войскунского и Н. В. Богачевой эта мысль звучит так: «Мы пока не можем разграничить тело и машину, поскольку телесные процессы расширяются технологиями за его пределы, а цифровые процессы изменяют процессы опосредствования. Субъект и средство становятся единым целым, концепция социального происхождения разума реконструируется, а поведение изменяется под воздействием новой системы сетевого сотрудничества. В постчеловеческой эре искусственное сознание не заменит природных процессов; скорее они превратятся в единое целое, где сознание станет продолжением коллективного социокультурного мира, произойдет зарождение симбиотической жизни, эволюция киберкультурного распределенного опосредствования (Файола и др., 2016, с. 158).
2.2. Три реальности, образующие действительность мира человека
Мир представляет собой такую совокупность вещей и явлений, которая соотнесена с людьми и является организованной иерархией различных способов человеческого существования (Рубинштейн, 1997). Иерархия способов существования предполагает их отнесенность к различным реальностям и, соответственно, уровням человеческого бытия. В психологических исследованиях многомерность мира проявляется даже тогда, когда мы изучаем конкретные феномены, такие, как сознание. На это указывает Е. В. Субботский: «Итак, реальность сознания не гомогенна: она состоит из нескольких типов реальностей, и в каждом из них – свой тип причинности, пространства и времени… И в каждом типе реальности мы встречаем разные виды объекта, пространства и времени, и каждый раз – иные понятия о том, что реально, а что – иллюзия» (Субботский, 2007, с. 4–5).
Моя точка зрения на структуру многомерного мира человека формировалась в процессе научного анализа отличительных признаков реальностей, в которых живет человек – эмпирической, социокультурной, экзистенциальной; традиций психологических исследований – когнитивной, герменевтической, экзистенциальной; способов понимания субъектом мира – парадигматического, нарративного, тезаурусного; форм понимания – понимания-узнавания, понимания-прогнозирования, понимания-объединения и его результатов – типов понимания-знания, понимания-интерпретации, понимания-постижения.
Современные люди живут в многомерном мире, и это отражается не только на его понимании, но и на том, как мы определяем этот феномен. Понимание имеет большое значение на разных уровнях человеческого бытия. Под многомерностью мира я имею в виду то, что факты, события и ситуации окружающего нас природного и социального мира таковы, что их понимание не может всегда строиться на одинаковых психологических основаниях. В одних ситуациях оно основано главным образом на достоверных знаниях, в других – на интерпретациях, проявляющихся в мнениях разных людей; наконец, есть ситуации, которые психологу не понять без вдумчивого анализа глубин бессознательного и экзистенциального опыта испытуемых. Тем не менее у понимания как общепсихологического феномена во всех трех реальностях есть два системообразующих признака. Первая психологическая особенность понимания заключается в том, что мы всегда выходим за непосредственные границы понимаемого (фактов, событий, ситуаций) и включаем его в какой-нибудь более широкий контекст. Второй отличительный признак понимания заключается в том, что для того, чтобы что-либо понять, нам всегда нужно соотнести понимаемое с нашими представлениями о должном – принимаемыми социальными, групповыми, моральными нормами поведения. Только наличие в психике понимающего субъекта обоих компонентов дает ему возможность порождать смысл понимаемого. Именно такого «определения» понимания я буду придерживаться в книге.
2.2.1. Эмпирическая реальность
В нашей жизни немало ситуаций взаимодействия с объективной и очевидной для всех действительностью. Такой тип ситуаций нидерландский методолог науки Ф. Анкерсмит определяет как «принуждение опытом» (эмпиризм). Говоря о реальности, субъект (в частности, историк) только описывает ее в терминах отдельных утверждений о событиях, обстоятельствах, каузальных цепочках и т. д. При этом субъект выступает как эмпирик, подчиняется принуждению опыта (Анкерсмит, 2007). Следуя за Анкерсмитом, я назвал первый тип реальности «эмпирическим». Эмпирическая реальность включает два вида окружающей человека среды: природную, состоящую из объектов и явлений, и предметную, созданную людьми. Основными характеристиками эмпирической реальности оказываются пространственно-временные: расстояние, скорость, тяготение и т. п. Эмпирическая реальность – это неодушевленная природная (включающая животных) и предметная среда, в которой живет и с которой взаимодействует человек.
В соответствии с парадигматическим способом понимания тексты об эмпирической реальности понимаются по двоичному принципу «да – нет»: «К понятным текстам можно отнести технические инструкции, медицинские рецепты, математические объяснения, т. е. всё то, что исключает возможность двоякого толкования. Такие тексты можно понять или не понять» (Абрамова, 2013, с. 98). В психологии мышления к таким текстам относится детерминистская задача П. Васона (проблема четырех карт) с двушаговым выбором для правильного решения (Valina, Martin, 2016). Психологические исследования показывают, что в ситуации неопределенности существуют ситуативные и личностные факторы, связанные с предпочтением мыслящими субъектами детерминистских, а не вероятностных выборов. Первые проявляются в предпочтении детерминистских ответов студентами-медиками, которые в процессе профессиональной подготовки приучаются к поиску определенности в постановке диагноза болезни и принятии решений о способах лечения больного. Вторые, личностные, факторы предпочтения детерминистских альтернатив проявляются у людей с высокими баллами по шкале интолерантности к неопределенности (Разваляева, 2021).
Эмпирическая реальность воспринимается и понимается людьми как совокупность фактов, допускающих опытную проверку. При знании соответствующих измерительных процедур субъект без труда может оценить истинность описывающих ее суждений. Или, как говорил К. Поппер, использовать принцип фальсифицируемости, принципиальной опровержимости утверждений. Например, опираясь на метрическую систему мер, любой образованный человек выберет истинное высказывание из пары: «Кит весит больше карася» и «Расстояние от Москвы до Владивостока не превышает тысячу километров». В соответствии с парадигматическим способом понимания люди, так же как объекты и предметы, тоже могут включаться в эмпирическую реальность. Это происходит тогда, когда мы рассматриваем людей не как субъектов, обладающих разумом, чувствами и т. п., а как объекты логических рассуждений, по отношению к которым применяется парадигматический способ понимания мира. Примерами могут служить логические задачи на поиск лишнего слова. В перечне «стол, шкаф, кровать, стул, телефон» лишним является слово «телефон», потому что оно не входит в понятие «мебель». Аналогично из списка «мать, начальник, дочь, отец, брат» необходимо удалить слово «начальник» как не относящееся к определению понятия «семья». В таких случаях, рассуждая логически, мы парадигматически понимаем обсуждаемый фрагмент мира человека. При этом не принципиально, состоит он из неодушевленных объектов или живых людей – методы рассуждений и способ понимания такие же, как при научном исследовании природы или предметов, созданных человеком. Этот способ соответствует пониманию мира как правильного.
Понимание эмпирических явлений, например не зависящих от человека природных катастроф, осуществляется не непосредственно, а на основе некоторых знаний о понимаемом. Верные это знания или нет, определяется экспертным сообществом, облающим согласованными знаниями о предмете понимания. Так, используя свой почти двадцатилетний опыт председательства в диссертационном совете Институте психологии РАН, я без труда определяю, соответствует ли представленное к защите научное исследование требованиям, предъявляемым к кандидатским или докторским диссертациям. И мое мнение не противоречит мнениям других членов совета.
Обсуждая проблему истинности знаний о реальности, Г. Л. Тульчинский пишет: «Что такое реальность, мы знаем на основе каких-то предваряющих знаний. В этом случае любой язык описания, в конечном счете, будет теоретически нагружен. Мы слышим какие-то потрескивания, а кто-то в этом слышит уровень радиации. Это зависит, скажем условно, от уровня теоретических знаний, которые применяются к описанию реальности. Мы можем ее не видеть, а ученый, специалист видит эту реальность. Покажи нам некие фотографии, мы скажем, что это какие-то пятна, а студент-физик скажет, что это фотография из камеры Вильсона, а продвинутый физик скажет, что тут показана траектория движения нейтрино, он ее видит. Это все зависит от теоретической нагруженности описания. Мы приходим к врачу и говорим – болит вот-тут и болит так-то. А врач уже начинает писать диагноз конкретной болезни, расстройства конкретных органов» («Фейки»…, 2021, с. 11). Приведенные примеры свидетельствуют о том, что понимание одного и того же события различно у разных социальных групп (профанов, студентов, ученых, врачей), потому что основывается на неодинаковых знаниях. Однако внутри каждой «экспертной» группы знания сходны, и потому понимание одинаково.
Таким образом, мы не видим и не понимаем эмпирическую реальность непосредственно. В сознании понимающего мир субъекта реальность возникает как процесс и результат понимания, основанного на предыдущих знаниях. В науке новые знания представлены в теориях, концепциях: «Мы понимаем структуру реальности, только понимая объясняющие ее теории. А поскольку они объясняют больше, чем непосредственно осознаем, мы можем понимать больше того, в чем непосредственно отдаем себе отчет» (Дойч, 2015, с. 23).
Теоретическая нагруженность понимания реальности определяет и то, что видит и осмысливает в ней понимающий субъект. Так произошло с открытием У. Гершелем планеты Уран, которую ранее многие астрономы видели и знали, но принимали за звезду. «История астрономии располагает многими другими примерами изменений в научном восприятии, вызванных влиянием на него парадигмы; некоторые из этих примеров не подлежат сомнению. Разве можно считать, например, случайностью, что астрономы на Западе впервые увидели изменение в ранее неизменных небесных явлениях в течение полустолетия после того, как Коперник предложил новую парадигму?» (Кун, 2020, с. 178). Можно упомянуть еще А. Р. Лавуазье, который после открытия кислорода изменил свою точку зрения на другие уже известные вещества и по-иному увидел природу.
Для понимающего мир субъекта эмпирическая реальность отличается от социокультурной и экзистенциальной: события и ситуации в ней имеют бесцельный, ненаправленный, неодушевленный характер. По мнению И. Гофмана, для их понимания люди используют «природную систему фреймов», т. е. рамок, в которых структурируется индивидуальный опыт. Полвека назад психологи Р. Абельсон, У. Кинч, Т. А. ван Дейк, П. У. Торндайк обнаружили, что субъект понимает мир, сопоставляя входные сообщения с обобщенными схемами памяти – фреймами, сценариями, макроструктурами. Говоря о фрейме как об обобщающем понятии, И. Гофман писал: «Основное различие между природной и социальной системами фреймов заключается в роли, исполняемой, в частности, индивидами. Если речь идет о природном взгляде на реальность, индивиды, как и любые другие действующие лица, не обладают никаким особым статусом, они подчиняются детерминистскому способу существования, не зависящему от чьей бы то ни было воли и не имеющему никакого отношения к морали. Если же мир рассматривается через социальную систему фреймов, индивиды ведут себя иначе. Они определяются в терминах самодовлеющей активности (self-delermined agencies), они знают, что можно делать, а что нельзя, и несут моральную ответственность за свое поведение» (Гофман, 2003, с. 146–147).
Такой ракурс научного познания фокусирует внимание ученых на соотношении видимого и невидимого, действительного и возможного. С точки зрения психологии возможного, важно подчеркнуть, что эта проблема значима на самых разных «этажах» научного познания – от онтогенеза индивидуального психического развития до исследования ненаблюдаемых сущностей в квантовом мире (Мамчур, 2017). В эмпирической реальности человек живет в объектно-предметной среде, имеющей пространственно-временные координаты.
Казалось бы, чего проще: в этой реальности мы можем обсуждать только то, что видим. Однако, как известно еще из исследований Ж. Пиаже и его последователей, сама способность различения видимого и действительного у детей возникает не сразу, а формируется постепенно: «Особо эффектное исследование по проблеме различения видимости и реальности, которое полностью подтвердило наблюдения Пиаже, было выполнено Р. Де Ври, у которой был очень хорошо воспитанный черный кот по кличке Мэйнард (De Vries, 1969). 3-летних детей знакомили с Мэйнардом и давали им поиграть с ним. Затем мордочку Мэйнарда закрывали экраном, хотя его хвост оставался виден, и на голову кота прикрепляли вполне реалистичную маску собаки. Де Ври говорила ребенку: «Теперь это животное выглядит совсем по-другому. Посмотри, его морда похожа на собачью». Когда экран убирали, она спрашивала ребенка: «А теперь какое это животное? Это на самом деле собака? Она может лаять?» 3-летние дети почти целиком сосредотачивались на новой внешности кота, некоторые говорили, что он на самом деле превратился в собаку. 4–5-летние дети были смущены, в то время как 6-летние не верили, что кошка может стать собакой» (Баттерворт, Харрис, 2000, с. 224).
Итак, у детей способность различения видимого и действительного формируется к школьному возрасту, причем, даже у взрослых она далеко не во всех ситуациях может реализоваться. Достаточно вспомнить споры в теоретической физике о том, являются ли элементарные частицы реальными объектами или представляют собой социальные конструкты? (Мамчур, 2017). «Обладать или не обладать способностью придавать кажимости статус реально существующего – не то же самое, что развитие способности понимать, что один объект может иметь несколько цветовых окрасок или форм в один и тот же момент времени. Намеренное игнорирование факта отличия кажущегося объекта от его реального состояния (то есть принятие кажимости за реальность) часто встречается даже у образованных взрослых. Так, если в трансатлантическом полете нас обслуживает улыбающаяся стюардесса, мы можем осознавать, что те реальные чувства, которые испытывает к нам уставшая стюардесса, на самом деле далеки от симпатии. Тем не менее, на эмоциональном уровне мы предпочитаем игнорировать это знание и принимать кажимость за реальность» (Субботский, 2007, с. 115–116). Если учитывать более широкий контекст, чем онтогенетические способности к различению видимого и действительного, то надо сказать, что вся эта книга направлена на то, чтобы доказать, что в мире человека, во всех трех реальностях человеческого бытия, действительность состоит не только из видимого, но из неочевидного возможного.
2.2.2. Социокультурная реальность
Социокультурная реальность возникает в результате объективации содержаний индивидуального и группового сознания. Такая реальность не существует вне представлений людей о ней, а любое описание социокультурной реальности одновременно является ее элементом (Савельева, Полетаев, 2003). Например, журналистский текст нельзя рассматривать как концепт некой «объективно существующей» реальности, которая является ее денотатом. Журналистский текст следует интерпретировать как компонент, фрагмент самой реальности, проявляющейся в публикации журналиста. Понимание оказывается одним из главных психологических механизмов создания, конструирования людьми социокультурной реальности. Понимая, порождая смыслы возникающих в коммуникации высказываний, суждений, мнений, мы тем самым творим реальность. Если нет понимания, то нет и социокультурной реальности! Эта реальность производна от сознания и психики познающих и понимающих ее субъектов. Эта реальность производна от сознания и психики познающих и понимающих ее субъектов. Такая реальность «имеет двойственный характер: в нее, с одной стороны, входят объекты, обладающие признаками вещности (то, что в античной философии обозначалось как res); с другой стороны, сама мыслительная деятельность принадлежит к реальности (и обозначается, прежде всего, как субъективная реальность)» (Макаров, 2004, с. 9).
Такое понимание реальности особенно характерно для конструктивистского подхода, в рамках которого делается вывод, что «социальная реальность – суть континуум реальностей различных людей, отличающихся подходами к интерпретации действительности, но сохраняющих объективную фактичность в силу совместного признания их объективности членами данного общества. Действия отдельных людей в данном случае оказываются производными от восприятия и оценки социальной ситуации, и сами включены в социальную реальность, которая, в свою очередь, становится сферой конструирования под воздействием ранее принятых установок» (Мусиец, 2019, с. 97). Однако каждый участник коммуникации понимает реальность несколько отлично от других: «Каждый действующий субъект вычленяет в составе и конструкции социальной реальности собственные смыслы, которые становятся основаниями его действий. Преобразование социальной реальности в этом плане – всегда трансформация содержания смыслообразующих понятий» (там же, с. 97).
События и ситуации в социокультурной реальности имеют целенаправленный, мотивированный, осмысленный характер. Интерпретационной схемой их понимания, по Гофману, является «социальная система фреймов». Важная функция фреймов заключается в том, что они не только указывают рамки, в которых следует понимать конкретные фрагменты мира, но и содержат нормативные предписания, т. е. указания на то, что должно оказаться в фокусе внимания понимающего субъекта. Фрейм только направляет, но жестко не детерминирует понимание социальных фактов.
Неизбежным следствием множественности и неопределенности мира является противоречивость человеческой психики. В психологии понимания большое внимание уделяется исследованиям и того, как субъект понимает противоречия, и того, насколько противоречива психика человека. Понимание противоречий рассматривается как когнитивный стиль, проявляющийся на разных, иерархически связанных между собой уровнях познания и деятельности. Проблема противоречий включает в себя одновременное или последовательное рассмотрение целостности предмета познания с разных позиций, попытки вставать на различные точки зрения, включение полярных взглядов на предмет в более общую систему, в которой снимаются локальные противоречия. «Так, Р. Брэмсон и А. Харрисон выделяют синтетический и идеалистический интеллектуальные стили, ориентированные диалектически, и недиалектический аналитический стиль. Синтетический стиль проявляется в склонности строить из множества элементов целостное ви́дение проблемы, в котором совмещаются несовместимые на первый взгляд идеи. Для идеалистического стиля также характерен широкий взгляд на вещи, но в отличие от синтетического стиля такой взгляд основан на интуитивных оценках, проявляющихся в склонности игнорировать конкретные факты и требования формальной логики. Аналитический стиль, напротив, направлен на построение ясной, упорядоченной и, можно добавить, непротиворечивой картины происходящего, что позволяет считать его ориентированным недиалектически» (Блинникова, 2012, с. 54). Обобщая, можно сказать, что психологи изучают условия, обстоятельства и способы снятия противоречий при построении целостной картины мира человека.
Убедительные доказательства противоречивости психики человека можно найти в описаниях творчества и высказываниях гениального художника С. Дали. По его мнению, истина изменчива и непостоянна, и потому он часто делал противоречивые заявления, которые делали его выступления непредсказуемо интересными для слушателей: «Я никогда не знаю, когда начинаю притворяться, а когда бываю искренним. Это свойство моей натуры. Очень часто мне случалось говорить какие-то вещи, будучи уверенным в их важности и серьезности; а через год я замечал, что они наивны и лишены всякого интереса, причем до такой степени, что выглядят просто жалко. И напротив, то, что я высказал со смешком, чтобы блеснуть умом или удивить, с течением времени все больше утверждает меня в мысли, что я изрек нечто прекрасное и очень важное. Эта резкая смена отношения к сказанному доводит меня до того, что я сам начинаю путаться, но всегда с честью выхожу из положения. Главное, чтобы публика ни в коем случае не могла догадаться, смеюсь я или серьезен. Кроме того, и сам я не должен этого знать. Я постоянно ищу ответ на вопрос: «Где начинается Дали, глубокий мыслитель и философ, а где заканчивается Дали, нелепый и смешной чудак?»» (цит. по: Нюридсани, 2018, с. 39). В этой интересной самохарактеристике отчетливо просматриваются три плана противоречивости внутреннего мира художника. Первый план – притворство-искренность, второй – мнения публики (они думают, что я смеюсь или серьезен), третий – определение подлинности Я («сам я не должен этого знать»). Дали всегда нацелен не на изображение видимого, а на выявление сущего: «Ядром искусства Дали является двойственный образ. Это некая картина, которая то „включается“, то „выключается“, открывая взору другую, мешающую взгляду сосредоточиться, приводящую зрителей в изумление, сбивающую их с толку, вызывающую восхищение» (там же, с. 7).
Типичным пониманием социокультурной реальности как ее порождения, конструирования является не только искусство, но и телевизионная реальность. Как полагает Дж. Фиске, «телевидение не представляет (или повторно представляет) фрагмент реальности, а скорее производит или конструирует его. Реальность не существует в объективности эмпиризма, реальность является продуктом дискурса. Телевизионная камера или микрофон не фиксируют реальность, а кодируют ее. Кодирование придает реальности смысл, который является идеологическим. Представляемое является идеологией, а не реальностью» (цит. по: Новикова, 2013, с. 17). Соответственно, специфические особенности телевизионной реальности зависят от ее понимания тележурналистами, она «есть такая картина действительности, которая соответствует представлению о ней авторов программы и стоящим перед ними социальным задачам. Эта картина складывается из визуальных и звуковых элементов (выразительных средств) и технологических приемов их использования, сопоставленных (смонтированных) с учетом воздействия на аудиторию» (там же, с. 37).
Еще одним важным для общества социокультурным феноменом является «судейское усмотрение» в сфере гражданского и уголовного судопроизводства. Судейское усмотрение проявляется в том, что в российских судах за одинаковые по характеру и степени общественной опасности преступления и сходной характеристике личности преступника нередко назначаются разные виды и сроки наказания. Это неудивительно, потому что в процессах применения уголовно-правовых норм нередко возникают ситуации, при которых внешне одинаковые обстоятельства совершения преступления по-разному оцениваются разными судьями, что влечет принятие различных решений. В этой сфере усмотрение – это полномочие, данное судье, выбирать между двумя и более альтернативами, когда каждая из альтернатив законна. Иначе говоря, по своему усмотрению судья имеет право выбирать из ряда возможностей, каждая из которых законна в контексте правовой системы (Барак, 1999, с. 13). Все альтернативы, из которых выбирает судья, являются законными, но только одно решение для конкретной ситуации будет обоснованным, правильным, справедливым (Грачева, 2015).
«Усмотрение может касаться трех объектов. Во-первых, фактов. В данном случае речь идет об оценке доказательств, которую судья осуществляет на основе сложившегося внутреннего убеждения. Безусловно, при осуществлении такой оценки, например, свидетельских показаний или объяснений сторон, жизненный опыт судьи может сыграть весьма важную роль. Во-вторых, усмотрение может касаться выбора нормы, подлежащей применению. В-третьих – собственно ее применения, т. е. вынесения окончательного решения по делу» (Лозовская, 2012, с. 26).
Многие факты, например, похищено ли имущество в крупном или особо крупном размере, не требуют доказательства и, соответственно, судейского усмотрения. Однако в реальной судебной практике определение достоверности предоставленных следствием фактов во многом зависят от мировоззренческих и иных установок судьи, определяющих предварительное понимание им обстоятельств преступления. «Первопричиной, осложняющей определение достоверности, является природа самого факта-знания, которым в результате судья оперирует: он образуется в результате „двойного фильтрования“ – сначала факт-явление (его следы на материальных носителях) проходят через сознание свидетелей (экспертов/специалистов etc), а затем – воспринимаются судьей в показаниях, заключениях и пр. Таким образом, в судебном факте всегда и неизбежно заложен такой компонент, как пред-понимание субъекта» (Никонов, 2014, с. 24). Немалую роль в доказательстве фактов играет и феномен «туннельного зрения». В судебной практике он проявляется, во-первых, в предвзятости подтверждения: люди склонны приписывать большую достоверность материалам, не противоречащим осознанно или неосознанно избранной ими версии правонарушения, и понижать достоверность материалов, противоречащих ей; во-вторых, в ретроспективном искажении: люди склонны думать, что полученный ответ был неизбежен, наиболее вероятен или предсказуем; в-третьих, в эффекте повторения: «Чем дольше полиция и прокуратура (а также свидетели) живут с выводом о виновности некоего лица, тем скорее им будет казаться, что все улики указывали изначально на этот вывод» (там же).
Что касается формулировки законодательных норм, то также как не нужно абсолютно точно определять понимание (см. параграф «Определение „понимания мира человека“» – Знаков, 2016), нет необходимости формулировать в законе абсолютно определенные нормы, это бывает нецелесообразно. При определении размера наказания нередко точность и определенность отсутствуют: «Это объясняется тем, что каждое конкретно совершенное преступление и личность преступника столь индивидуальны, что законодатель не в силах установить в законе конкретную меру наказания, одинаково эффективную для всех преступников, совершавших данное преступление. Поэтому он ограничивается установлением общих правил, которые, с одной стороны, исключают судебный произвол, а с другой – дают возможность суду учесть индивидуальные особенности совершенного преступления и личности преступника» (Грачева, 2015, с. 6).
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе