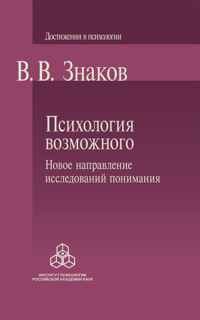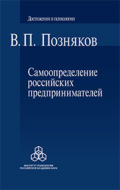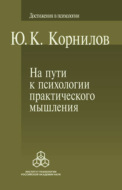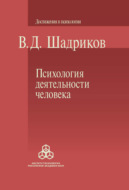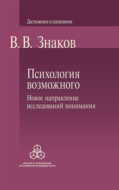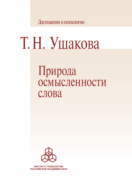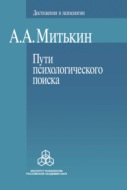Читать книгу: «Психология возможного. Новое направление исследований понимания», страница 6
1.3.5.2. Связь религиозного и морального сознания
В психике миллионов людей религиозные и моральные понятия неразрывно связаны. В частности, «для многих в Соединенных Штатах моральные нарушения равнозначны нарушениям религиозных норм, действиям, которые попирают слово Господа» (Хаузер, 2008). Особенно отчетливо внутреннее психологическое родство религиозных и моральных представлений проявляется в дискуссиях о допустимости или недопустимости прерывания жизни (аборты, эвтаназия и т. п.).
Между тем в науке уже есть немало данных о том, что очень многие моральные решения субъект принимает автоматически, интуитивно, бессознательно (Waldmann, 2006). М. Хаузер, внесший большой вклад в психологическое обоснование этой точки зрения, полагает, что господствующее представление о нравственном решении как результате рассудочного выбора ведет к ошибкам в сфере политики, права и образования. В защиту правомерности своей позиции он приводит данные осуществляемого по его программе масштабного кросс-культурного исследования. Результаты свидетельствуют о том, что люди разных стран, национальностей, вероисповеданий, сталкиваясь с моральными дилеммами, не имеющими однозначного решения, интуитивно приходят к очень похожим выборам (Хаузер, 2008).
Однако, выясняя причины одинаковости понимания одних и тех же событий и ситуаций миллионами людей, необходимо анализировать не только сходство религиозного и морального сознания. Сознание религиозных людей имеет и специфические особенности, отличные от мировоззрения атеистов. Эти различия обнаруживаются, в частности в исследованиях имплицитных представлений российских студентов. Студенты приписывают верующим межличностные и духовные добродетели (способность прощать, чувство благодарности, доброта, скромность), а атеистам – когнитивные и связанные с деятельностью положительные психологические характеристики – лидерство, гибкость мышления, любопытство, креативность, интерес к учению (Кошелева, Осин, 2012). По данным М. Фридмана, убежденные американские верующие отличаются от атеистов меньшей когнитивной сложностью и критичностью в размышлениях об экзистенциальных проблемах, связанных с верой (например, о смерти любимого человека или моральной допустимости аборта). Однако различия в сложности рассуждений о других проблемах (например, об охране окружающей среды) отсутствуют (Friedman, 2008).
В этом контексте необходима проверка гипотезы, с помощью которой можно было бы объяснить интуитивный, иррациональный, аналитически не расчлененный характер понимания чужих как врагов мусульманами из разных стран. Это гипотеза о преимущественно холистическом, а не аналитическом характере религиозного мышления и мировоззрения. В первом случае континуальность рассматривается как принципиальное свойство мира, нередко наблюдается пренебрежительное отношение к формальной логике и более выражена терпимость к противоречиям. Во втором – преобладает аналитическое мышление, мир представляется дискретным, состоящим из обособленных объектов. Соответственно характеристики объектов объясняются принадлежностью к определенным категориям (Nisbett et al., 2001). Гипотеза о холистичности религиозного мышления частично подтвердилась в исследовании М. Е. Пирс (Pierce, 2007), но пока этого явно недостаточно.
1.3.5.3. Аффективное и когнитивное бессознательное
При анализе причины удивительного сходства в понимании событий и поведенческих реакций людей в экзистенциальной реальности, следует учитывать представления Ж. Пиаже о существовании аффективного бессознательного и когнитивного бессознательного (Пиаже, 1996). В течение почти полвека с тех пор, когда Пиаже сформулировал эти идеи, в современной науке появилось множество исследований, направленных преимущественно на психологический анализ содержания и функциональных механизмов когнитивного бессознательного. Сегодня в него включают имплицитное научение, подпороговое восприятие, прайминг-эффекты, экспертное знание и другие феномены.
Пиаже считал, что обычно субъект не знает, ни откуда приходят его чувства, ни почему. Человек также не осознает структуры или функций внутренних механизмов, направляющих его мышление, ему ясны лишь результаты. Именно эти внутренние механизмы Пиаже называет когнитивным бессознательным. Основополагающими понятиями для объяснения структуры и функций когнитивного бессознательного в концепции Пиаже являются «сенсомоторные схемы» и «операциональные схемы». Он пишет: «Следовательно, проблема может быть сформулирована следующим образом: почему некоторые сенсомоторные схемы становятся осознанными (т. е. принимают репрезентативную, в частности вербальную, форму), в то время как другие остаются бессознательными? Причина этого лежит, по-видимому, в том, что некоторые схемы действий противоречат идеям, которые субъект сознательно уже сформулировал. Ситуацию можно сравнить с аффективным вытеснением: когда чувство или побуждение противоречит эмоции или тенденции более высокого порядка (например, идущей от Суперэго), они устраняются сознательным или бессознательным вытеснением. Таким образом, в познании можно наблюдать механизм, аналогичный бессознательному вытеснению» (Пиаже, 1996, с. 128). По мнению Пиаже, осознание – это следствие реконструкции на высшем, сознательном уровне элементов, которые до этого уже были организованы иным образом на низшем, бессознательном уровне.
Для понимания результатов Пиаже научно значимы представления о соотношении эксплицитных и имплицитных теорий в психике людей: неосознаваемые и формирующиеся стихийно конкретные закономерности и предубеждения, которые использует человек, понимая других и при этом основываясь на ограниченном, как правило, недостаточном объеме исходной информации о них. Интерпретируя результаты экспериментальных исследований, важно учитывать характерные особенности имплицитных представлений не только испытуемых, но и экспериментатора. Психология возможного всегда направлена на анализ неявных знаний о мире, а также того, какая имплицитная модель познаваемого объекта направляет усилия экспериментатора: «Хороший экспериментатор в этом смысле должен заранее, из опыта жизни обладать „имплицитной теорией“ объекта, с которым он работает. Возможно, его эксплицитная теория никогда не достигает уровня имплицитной теории. Так, почему-то эксперименты, изобретенные Ж. Пиаже, имели тенденцию совпадать с предсказаниями его эксплицитной теории, в то время как другие исследователи нашли немало несоответствий. Не в том ли дело, что имплицитная теория, на основании которой Пиаже строил свои эксперименты, но которую никогда в полной мере не смог прояснить, была точнее его эксплицитно сформулированных утверждений?» (Ушаков, 2018, с. 78).
1.3.5.4. Барьеры в сознании понимающего субъекта
Мысль о том, что идеи «высшего» уровня могут служить барьером, препятствием на пути осознания некоторых событий и ситуаций, получила продуктивное развитие в современных исследованиях формирования субъективного опыта в культуре. Психофизиолог Ю. И. Александров изучает соотношение мозговых систем на нейронном уровне и культурных влияний как факторов формирования опыта. При этом общая системно-эволюционная закономерность состоит в переходе от менее дифференцированных к более дифференцированным формам. Новые, более дифференцированные системы сосуществуют с ранее возникшими менее дифференцированными. С этой позиции мораль и религия сопоставляются с древними элементами мозговых систем, существующих в культуре. Более новыми, дифференцированными являются законодательные нормы и правила (включая те, которые относятся к науке). Автор пишет: «Из такого представления логически следует, что низкодифференцированные системы общи для разных людей, эпох и ситуаций: масса самых разнообразных единиц на протяжении всего развития культуры имеет основанием ограниченное число общих низкодифференцированных систем. Они должны быть общими не только для разных эпох, для разных степеней дифференциации культуры, но и для разных культур» (Александров, Александрова, 2009, с. 211).
Результаты теоретического анализа причин сходства поведения людей, не осознаваемых ими во многих экзистенциальных ситуациях христианских и мусульманских конфликтов, а также религиозных и атеистических ценностей, можно обобщить следующим образом. Моральные и религиозные представления о чужом как о враге являются недифференцированной общечеловеческой системой житейских понятий, выступающей в роли внутреннего регулятора поведения. В этом виде система обыденных знаний бесконфликтно существует в психике множества людей и не требует осознания, вербализации. Однако при реальном столкновении с визуальными или вербальными проявлениями чужого как чуждого (неприемлемого с моральной или религиозной точки зрения) возникает необходимость вербального оформления невербализуемых правил поведения, превращения их во внешние нормы. При этом правила начинают соотноситься с высокодифференцированными системами и неизбежно вступать в конфликт с ними: ясно, что малодифференцированные представления противоречат необходимости сознательного совершения поступков. И это становится одним из психологических механизмов общего для множества людей такого интуитивного понимания-постижения чужого как врага, которое нельзя превратить в понимание-знание или понимание-интерпретацию (Знаков, 2016).
Большое значение для анализа указанной проблемы имеют исследования психологических барьеров в сознании людей. Поразительное сходство в результатах изучения барьеров в сознании наблюдается в работах психологов, анализировавших проблему самообмана. Известно, что чисто логическими методами проблема самообмана не может быть решена – необходимы дополнительные знания о психике людей, поведение которых, как известно, нередко строится на нарушенной логике. Для психологов, знающих о существовании защитных механизмов личности, в частности, отрицания и обособления, проблема не кажется столь уж неразрешимой. Как пишут Д. Креч, Р. Кратчфилд и Н. Ливсон, «человеческий разум способен, в определенных обстоятельствах, развивать две логически несовместимые концепции одновременно (курить и не курить), не осознавая их очевидную противоречивость. Этот феномен получил название „логиконепроницаемой перегородки“, что является одной из форм феномена обособления. Этот механизм изолирует одно направление мыслей от других таким образом, что взаимодействие между ними ослаблено и таким образом конфликт не возникает» (Психологическое самообразование…, 1992, с. 98).
В обоих случаях речь идет об общечеловеческих причинах возникновения барьеров, перегородок в сознании, влияющих на то, какие возможные альтернативы субъект признает действительными, имеющими право на существование.
В педагогике, теории и практике обучения и воспитания барьеры в понимании учебного материала рассматриваются как необходимые элементы познания и средство поддержания познавательного интереса учащихся. Барьеры возникают при наличии противоречия между имеющимися знаниями, умениями, навыками и содержанием предъявляемой познавательной задачи: «Барьер понимания – разрыв между содержанием обучения и жизненным опытом, противоречие между имеющимися знаниями, умениями, навыками и уровнем предъявляемой познавательной задачи. Барьер – объективная характеристика педагогического понимания. По М. А. Данилову, в процессе обучения барьер выступает как факт разрыва между обучением и жизненным опытом школьника, как противоречие между уровнем имеющихся у него знаний, умений и уровнем предъявляемой ему познавательной задачи. Наличие барьера должно быть осознано учащимися, тогда сопротивление смысловых полей при понимании увеличивают ценность общения, диалога, поскольку противоречия по поводу непонимания превращают барьер в средство поддержания познавательного интереса, в стимул решения познавательной задачи, в движущую силу понимания» (Сенько, Флоровская, 2007, с. 45–46).
Более общий характер имеет психологическая проблема моральных и социальных барьеров и фильтров. Для психологии возможного она является актуальной и даже острой. Ее научная значимость и фундаментальность состоит, во-первых, в обязательности поиска должного, с которым всегда соотносится понимаемое, необходимости определения социальных и моральных критериев принятия или отвержения возможных альтернатив. Во-вторых, в открытии того, что понимание направлено не только на действительное, но и на возможное. В этом состоит расширение наших знаний о мире, которое неизбежно возникает во время творческого процесса понимания. В-третьих, важным с исследовательской точки зрения является вопрос о том, как и в какой степени для понимания необходимо осознавать альтернативы понимаемого. Наконец, в-четвертых, вопрос: осуществляет ли понимающий субъект выбор из осознаваемых альтернатив? Известно, что применительно к мыслительной деятельности, включающей в себя понимание условий задачи, целей, промежуточных результатов и т. п., А. В. Брушлинский аргументированно ответил на него отрицательно. Испытуемые на разных стадиях мыслительного процесса последовательно выявляют и разрабатывают несколько способов решения задачи, но в любой конкретный момент времени субъект обдумывает только один путь достижения цели. Ученый пишет: «Впрочем, мои оппоненты выдвигают „в защиту“ ситуации выбора еще один очень существенный аргумент: свобода (понимаемая ими лишь как свобода выбора) означает именно возможность и необходимость осуществить моральный выбор между добром и злом, нравственным и безнравственным. Но, на мой взгляд, даже в этом случае выбор далеко не всегда является неизбежным. Например, для честного человека не существует выбора: совершить или не совершить бесчестный поступок. Однако в жизни очень часто бывает нелегко понять, какой поступок в данной сложной ситуации будет хорошим и плохим. В этом случае особенно сильно активизируется мышление и вообще вся деятельность субъекта, и тогда мы снова возвращаемся к проблеме процессуальности мышления» (Брушлинский, 2006, с. 555). Очевидно, что, обсуждая понимание как возможное, психологи не могут не обращать внимания на недизъюнктивность психических процессов – внутренних условий анализа понимаемых альтернатив.
Таким образом, многие возможные и, казалось бы, очевидные варианты понимания людьми даже не осознаются. Это происходит потому, что когнитивное бессознательное и аффективное бессознательное, с одной стороны, являются непременными компонентами понимания человеком многих проблем, особенно экзистенциально значимых для него. С другой стороны, именно когнитивное и аффективное бессознательное становятся теми барьерами сознания, которые нередко препятствуют адекватному пониманию субъектом мира, в частности, других людей. Процесс понимания чужого как врага – типичная проблема, в размышлениях о которой такие барьеры проявляются. В этом процессе настолько тесно переплетаются осознаваемые и неосознаваемые составляющие, что для создания стройной научной картины взаимодействий между ними надо провести еще не один десяток психологических исследований.
* * *
Итак, анализ показал, что возможное играет значимую роль в самых разных областях познания, в том числе психологической науке. Вместе с тем нельзя не увидеть некоторой односторонности приведенных взглядов на возможное. В рассмотренных контекстах этот феномен проявляется как рубинштейновское «потенциальное бытие», т. е. внутри изучаемых явлений, событий, ситуаций: гипотезы в мыслительных задачах, позволяющие направить фокус внимания познающего субъекта на новые, пока еще скрытые от него возможные варианты преобразуемого объекта; возможные Я личности, сопоставимые с актуальным осознаваемым Я, и т. п.
С методологической точки зрения, такой тип анализа, по сути дела, основан на позиции реализма: позитивистской убежденности в том, что мир един, причинно детерминирован, и дело науки – обнаруживать, выявлять то, что уже есть, существует. Реалисты считают, что наука изучает фактическое положение дел в мире, существующее независимо от того, известно ли о нем ученым или нет. Конструктивисты думают иначе: они полагают, что фактическое положение дел в мире человек не может узнать до тех пор, пока у него нет адекватных процедур, алгоритмов познания. Процедуры не только конструируются в процессе научного исследования, в ходе создания новых правил они изменяют познаваемую действительность. Различение знания и создания учеными правил научного познания мира принципиально для психологического анализа возможного: «Так, определенная картина будущего может показаться невозможной, если мы не знаем правил, которые могли бы сделать ее возможной, но та же самая картина точно может показаться необходимой, если мы думаем, что знаем правила» (Фуллер, 2021, с. 259).
Представленное мной выше реалистическое понимание «возможного» более или менее непротиворечиво описывает положение дел в эмпирической реальности, характеризующейся пространственно-временными отношениями и наличием всем известных измерительных процедур. Только «более или менее», потому что любую физическую ситуацию человек понимает не точно, выявляя все ее причины и следствия, а приблизительно, осознавая лишь главные закономерности ее формирования и развития. Примером может служить понимание результата подбрасывания монеты – выпадет «орел» или «решка». Монета обязательно упадет, подчиняясь закону всемирного тяготения И. Ньютона, но то, какой стороной, зависит от сочетания многих факторов – скорости падения, наличия вращающих моментов, температуры, влажности, движения воздуха (Асеев, 1978). Так в эмпирической реальности проявляется взаимодействие между действительным, реальным и возможным, случайным. Роль случайного, возможного увеличивается в ситуациях социокультурной и экзистенциальной реальностей, применительно к которым психологи должны задумываться о правилах конструирования, на основании которых осуществляется понимание. И здесь главную роль приобретает сам процесс понимания, без которого нельзя говорить о существовании этих реальностей. Такой процесс, как будет показано далее, уже не может происходить внутри деятельности, ситуаций, явлений, он должен быть направлен за их пределы, на выход за непосредственные границы понимающего мир субъекта. Это относится и к поиску возможного: фокус познания надо направлять на новые неизвестные области мира человека.
Глава 2. Многомерность мира человека и множественная детерминация его понимания
2.1. Изменение мира человека в XXI в.
Современная психологическая наука как одна из областей научного познания человека является неотъемлемой частью общества, в котором происходят значительные изменения. По мнению А. В. Смирнова, сегодня изменения в мире человека происходят на четырех основных уровнях: военном, политическом, социально-экономическом, культурно-цивилизационном. В социогуманатарных науках изменения проявляются в осознании учеными необходимости перехода от монологической к множественной полилогической рациональности. Такая тенденция отражает доминирующий геополитический тренд: «Текущий момент современной эпохи характеризуется как закат однополярного мира, в котором роль гегемона в финансово-экономическом и военном плане играли США как ведущая держава Запада, и переход к многополярному миру» (Смирнов, 2019, с. 23).
Для развития методологии психологических исследований необходимо определить, в чем конкретно заключаются изменения и как они сказываются на формировании новых взглядов на классические научные проблемы. Изменение социальной структуры общества, превращение знаний в средства производства, сетевая организация знаний способствуют порождению оригинальных идей, которые сегодня необходимо продуктивно использовать для трансформации методологии. В социогуманитарном познании научные представления о трех реальностях человеческого бытия: эмпирической, социокультурной, экзистенциальной, составляющих многомерный мир человека, – постепенно расширяются и углубляются. В течение последнего столетия они трансформировались из описаний индустриального «общества потребления» (Ильин, 2008) в теоретический анализ постиндустриального «общества знания» (Друкер, 2015), а затем в выявление признаков «общества переживания» (Schulze, 2005). Трансформация означает не отрицание предыдущих стадий развития общества, а их изменение, совместное существование старого и нового.
Индустриальное «общество потребления» – понятие, обозначающее совокупность общественных отношений, связанных со средствами производства. Оно характеризуется массовым потреблением материальных благ и формированием соответствующей системы ценностей и установок. Для общества потребления очень важным считается информирование граждан о жизненно важных для них товарах, услугах, событиях. Необходимость информирования определяется правами человека: в демократическом обществе каждый имеет право знать все, что может повлиять на его жизнь (Kuklinski et al., 2000). Например, в консультативной психологии применяется принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. Он заключается в том, что психолог должен сообщить клиенту о содержании проводимой с ним психологической работы, ее цели, способах получения информации. С этой точки зрения, «общество потребления» иначе можно назвать «обществом информирования».
Постиндустриальное «общество знания» в социогуманитарных науках описывается как современный этап общественного развития, на котором доминирующей экономической и социальной ценностью становится знание. Оно признается необходимым условием достижения успеха во всех сферах деятельности, решения задач, создания новых видов продукции и услуг, эффективного функционирования систем производства. Знания становятся не только производительными силами, метафорически говоря, они являются средствами производства. В психологии, и не только когнитивной, многие проблемы исследуются именно с позиций «общества знания» с применением методов психологического анализа социокультурной реальности. Они основаны на представлениях о том, что люди могут иметь различные мнения об одном и том же знании и неодинаково интерпретировать его смысл. В частности, так изучаются психологические основания интерсубъектности и передачи людьми друг другу неявного личностного знания.
Многомерный мир человека состоит не только из «общества информирования» и «общества знания», но и из «общества переживания» (Schulze, 2005). В постиндустриальном мире желания людей приобретают характер базисных производительных сил, а экономическое развитие общества определяется воздействием массива человеческих желаний. Согласно Г. Шульце, сегодня происходит модернизация переживания, которая означает изменение целей поведения людей с внешних на внутренние. Осознание изменения не отрицает «направленности вовне», а акцентирует внимание экономистов и психологов на дополнительной ориентации внутрь: человек стремится к тому, чтобы достичь чего-то в самом себе (ibid., S. 419). С позиций «общества информирования», при внешне ориентированном потреблении каждый человек стремится получить ответ на вопрос: «Мне нравится (нужно) Х, как я могу это получить?». В «обществе переживания» люди с внутренней ориентацией задают себе сложный философский вопрос, ответ на который радикально трансформирует последующее поведение: «А чего я, собственно, хочу?» (ibid., S. 34).
В концепции Г. Шульце важная роль отводится коллективным переживаниям: коммуникация или даже просто присутствие большого числа других людей на каком-либо мероприятии создают пространство для получения впечатлений и усиливают его эмоциональное воздействие: возникает нечто ценное и уникальное, что можно назвать аурой. Согласно Г. Шульце, сегодняшняя популярность выставок, концертов, их телетрансляции на весь мир становятся неповторимыми событиями, которые люди переживают сообща. Самым притягательным для них является то, что возникает благодаря самим участникам, находящимся в активном поиске неповторимых переживаний (ibid.).
В последние годы «общество переживаний» содержательно расширилось путем включения в него «экономики впечатлений». Суть последней заключается в том, что современный человек, когда платит за товар, учитывает не только его качества, но и контекст использования, различающийся разной степенью удовлетворенности потребителя от покупки. Один из авторов «экономики впечатлений» иллюстрирует это положение таким примером: «Однажды, приехав в Венецию, мой друг поинтересовался у портье, куда ему и его жене стоит пойти, чтобы в полной мере насладиться этим удивительным городом. Ему тут же посоветовали Caffe Florian на площади Святого Марка. Вскоре они уже были там, вдыхали свежий утренний воздух, пили ароматный кофе и наслаждались видами и звуками самого удивительного из городов Старого Света. Спустя час моему другу принесли счет, и он узнал, что эти незабываемые минуты обошлись ему более чем в 15 долл. за чашку. „Стоил ли кофе таких денег?“ – спросили мы. „Несомненно!“ – ответил он» (Пайн, Гилмор, 2019, с. 36). Таким образом, психология, чувства потребителей учитываются и включаются продавцами в цену товара.
Экономика впечатлений, активно использующая рекламу, опирается на психологические законы такого многомерного восприятия человеком мира, в котором, порой, трудно отделить образы, модели от реальности: «Наглядный образ потребляемой вещи становится значимым более, чем сама вещь. Отсюда индустрия рекламы, формирование брэндов предлагаемой к потреблению вещи, подсказывающих выбор. Перед покупателем предстает для продажи не столько вещь, сколько ее модель, подобие, имидж, симулякр. Продуманные визуальные образы вещей завлекают, соблазняют, привносят множество искусственных смыслов, подчиняя личность процессу потребления. Грани между образом и реальностью размываются, превращая мир в некую игровую площадку, где вещи-маски играют свои роли соблазнителей, соревнуясь в провокативной способности друг с другом (Бодрийяр, 2000). И в сфере потребления, в повседневной сфере жизни человека происходит подмена реального мира симулякрами – символически наглядными знаками (работа дизайнеров), ориентирующимися на эстетическое восприятие» (Красноярова, 2015, с. 45).
Глубинным основанием возникновения «общества переживания» является трансформация мира человека, основанная на изменениях ценностей и мотивов людей (Инглхарт, 2018). Главная причина изменения – поколебавшаяся уверенность в том, что только разум, рациональный выбор и научное мировоззрение влияют на формирование культурных изменений. «Культурные изменения определяются не только когнитивными факторами. В еще большей степени они формируются персональным опытом индивидов, связанным с экзистенциальной безопасностью или ее отсутствием» (там же, с. 43). В современном мире люди очень многих стран уже давно живут в условиях стабильности и материального благополучия, способствующих возникновению чувства экзистенциальной безопасности. В этих условиях, как показывают масштабные социологические исследования, материалистические ценности экономического роста и богатства начинают приобретать меньшую значимость, чем постматериалистические ценности свободы, равенства, справедливости, терпимости, помощи другим людям и странам. Конечно, в периоды временных экономических спадов удельный вес материалистических ценностей снова возрастает. «Тем не менее, крупнейшая трансформация ценностей уже случилась: в 1970 г. материалистов было значительно больше, чем постматериалистов во всех западных обществах, а к 2000 г. количество постматериалистов уже превысило количество материалистов, но поскольку постматериалистические ценности обычно концентрируются в определенных общественных стратах, а именно – в наиболее защищенных, образованных и заметных группах, то они и задают тон всем остальным: их ценности становятся новой нормой. Межпоколенческие изменения ценностей уже не являются основным источником перемен в этих странах; молодые и пожилые теперь придерживаются практически одних и тех же ценностей (за исключением наиболее пожилых когорт)» (там же, с. 56).
Как утверждал крупный теоретик менеджмента П. Друкер, в мире человека каждые 50 лет происходят необратимые общественные изменения (Друкер, 2015). Еще в 1980-х годах человек, идущий по улице и разговаривающий, казалось бы, сам с собой, воспринимался большинством из нас как странное отклонение от нормы. Тогда практически невозможно было предсказать существование мобильных телефонов, Интернета, всплеска терроризма и других отличительных признаков нашего времени. Одна из главных причин произошедших изменений заключается в переформатировании классовой структуры общества. В конце прошлого века актуальным было марксистское деление людей на классы по их отношению к средствам производства. Рабочий класс, хотя сам не обладал средствами производства, но с помощью машин преобразовывал природную и предметную среду. Преобразование было направлено на получение для человека и человечества средств к существованию. При этом машины направляли человека и сами показывали ему, что и как нужно делать: с помощью снегоуборочной машины можно расчистить дорогу, но нельзя сделать самолет.
В современной социальной теории понятие «класса» отличается от марксистского: оно связывается уже не с владением средствами производства. Очевидно, что в мире и нашей стране сейчас так называемый традиционный машинный труд на заводах, фабриках и т. п. находится в кризисном мало востребованном состоянии. Например, в середине 2016 г. это могли бы засвидетельствовать полтора миллиона российских безработных. Сегодня отнесение людей к определенному классу определяется не по тому, владеют ли они орудиями труда, а по тому, какими жизненными шансами они обладают. Шансы определяются образованием, материальным положением семьи, способами получения дохода. В нашей стране к этому добавляется еще и наличие родственных и социальных связей. Экономисты называют современное общество «обществом знаний», построенным на сетевых информационных технологиях. В этих условиях так называемый креативный класс не только получает вознаграждение за свои знания, умения, навыки, но и сам является владельцем неотчуждаемых от него средств производства. В роли последних выступают те же знания, понимаемые очень широком смысле – как потенциал интеллектуальной деятельности. В когнитивно-опытной теории личности С. Эпштейна (Epstein, 2003) такой потенциал соответствует целостному континууму «знания-мнения-опыт». В отличие от средств производства в марксистском понимании современные средства не могут указать представителям профессий, связанных с интеллектуальным трудом, что и как делать. Для таких работников характерно самостоятельное творческое применение своих знаний.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе