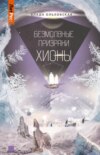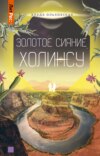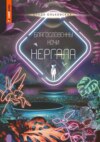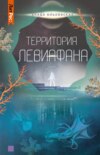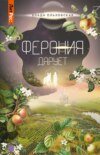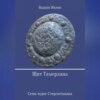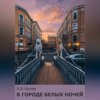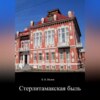Читать книгу: «В городе белых ночей», страница 3
На сегодняшний день количество "университетов" по названию в России исчисляется сотнями. В результате мы получили забавные оксимороны, названия, составленные из противоречивых, взаимоисключающих определений: "медицинский университет", "педагогический университет" и так далее. Официальная статистика оперирует понятием "вузы", сейчас их в России насчитывается около 700. Настоящих университетов, не по названию, а по сути, не более 8–10.
Начиная с 1821 года Санкт-Петербургский университет регулярно менял своё название. Сегодняшнее название «Санкт-Петербургский государственный университет» стало тринадцатым по счёту за всю историю Университета. Причина такой чехарды чисто политическая, основанная на особо пристальном внимании к Университету властей предержащих.
Первым ректором Академического университета (до 1747 года этой должности не было) стал известный историк и этнограф Герхард Фридрих Миллер, который занимался изучением Сибири, много путешествовал и считал Россию своей второй Родиной.
В 1750 году его сменил на этом посту выдающийся естествоиспытатель, путешественник и исследователь Дальнего Востока Степан Крашенинников, который составил первое полное описание Камчатки, не потерявшее своего значения до сих пор.
Михаил Ломоносов занимал пост ректора с 1758 по 1765 год. Именно при нём лекции стали проводить на русском языке.
из 3
Начиная с конца 19 века Императорский Санкт-Петербургский университет воспитал выдающихся учёных общемiрового значения, которые произвели настоящую революцию в науке (Вернадский, Гумилёв, Докучаев, Ландау, Менделеев, Попов, Бердяев, Лосский).
XIX век стал для Университета веком подлинного расцвета, в его стенах складываются и получают развитие всемирно известные научные школы: П.Л. Чебышева – в математике, Э.Х. Ленца – в физике, Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова – в химии, А.Н. Бекетова – в ботанике, И.И. Мечникова и А.О. Ковалевского – в эмбриологии, И.М. Сеченова – в физиологии, В.В. Докучаева – в почвоведении, А.А. Иностранцева – в геологии, Ф.Ф. Соколова – в антиковедении, К.Н. Бестужева-Рюмина – в отечественной истории, Н.И. Кареева – в истории Европы, В.П. Васильева и В.Н. Розена – в ориенталистике.
1 из 3
Ни один из вышеперечисленных учёных не был удостоен чести закрепления его имени в названии Университета. Не посягнули на это и российские императоры и императрицы. После революции коммунисты, ничтоже сумняшеся, присвоили себе эту привилегию.
В мою бытность студентом Университета он носил имя А.А.Жданова, высокопоставленного партийного функционера, весьма далёкого от науки. Этот персонаж печально знаменит тем, что в 1946 году возглавил травлю известных ленинградских писателей и поэтов, печатавшихся в журналах «Звезда» и «Ленинград», в их числе Ахматова и Зощенко.
До 25 апреля 1934 года Ленинград оставался научной столицей СССР, в нём находилась Академия наук СССР и её основные институты. Цвет гуманитарных и естественных наук сохранялся именно в Ленинградском университете, вплоть до начала широких политических репрессий. Несмотря на титанические усилия партноменклатуры, вольнолюбивый дух русской науки в Ленинградском университете окончательно не исчез. Твёрдость в научной позиции и энергичное её отстаивание были очень важны во взаимоотношениях с партийными функционерами. Пример такой твёрдости продемонстрировал ректор Университета академик А. Д. Александров в 1952-1964 годах. Именно ЛГУ под его руководством нанёс смертельный удар казавшейся непобедимой лысенковщине в биологии и аграрном секторе. Наряду с Ботаническим институтом АН СССР одним из главных центров этой борьбы стал Ленинградский университет. Преподаватели и профессора Университета выступили застрельщиками дискуссии по виду и видообразованию, которая фактически положила начало ревизии итогов августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года и в значительной степени подорвала абсолютную монополию антинаучных воззрений Лысенко в печати. На биолого-почвенном факультете ЛГУ впервые в стране была возрождена кафедра генетики, её заведующий, М.Е. Лобашев, написал первый учебник по генетике, который Университет выпустил в свет.
Объективно оценить уровень конкретного университета можно только по качеству образования и достижениям его выпускников.
Диапазон сфер деятельности и научных открытий выпускников Петербургского-Ленинградского университета неправдоподобно широк, даже слишком, но в этом суть настоящего университета, в процессе обучения в нём студенты получают не только и не столько сумму специальных знаний, но образовываются в полном смысле этого слова, приобретают способность мыслить независимо, широко и универсально.
Вот самый короткий список, составленный мною, который состоит из имён знаменитых учёных, писателей, поэтов, художников, рок-музыканта и государственных деятелей, выпускников Петербургского (Ленинградского) университета:
• Александров, Александр Данилович
• Бенуа, Александр Николаевич
• Бердяев, Николай Александрович
• Бианки Виталий Валентинович
• Блок, Александр Александрович
• Брюллов, Павел Александрович
• Булгаков, Сергей Николаевич
• Вернадский, Владимир Иванович
• Врубель, Михаил Александрович
• Гоголь, Николай Васильевич
• Гребенщиков, Борис Борисович
• Гумилёв, Лев Николаевич
• Гумилёв, Николай Степанович
• Докучаев, Василий Васильевич
• Дягилев, Сергей Павлович
• Зощенко Михаил Михайлович
• Карпов, Анатолий Евгеньевич
• Керенский, Александр Фёдорович
• Ландау, Лев Давидович
• Ленин, Владимир Ильич
• Лосский, Николай Онуфриевич
• Медведев, Дмитрий Анатольевич
• Менделеев, Дмитрий Иванович
• Павлов, Иван Петрович
• Перельман, Григорий Яковлевич
• Полянский, Юрий Иванович
• Попов, Александр Степанович
• Путин, Владимир Владимирович
• Рерих, Николай Константинович
• Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович
• Собчак, Анатолий Александрович
• Столыпин, Пётр Аркадьевич
• Тимирязев, Климент Аркадьевич
• Тургенев, Иван Сергеевич
• Флоренский, Павел Александрович
• Хлебников, Велимир
• Чернышевский, Николай Гаврилович
У истоков Университета стоял один из его первых студентов М.В.Ломоносов.
В стенах Университета сдавал экстерном по юридическому факультету и получил диплом первой степени В.И.Ленин. Огромный, во всю стену портрет, живописующий это эпохальное событие, висел на южной стене Главного коридора.
В сонме учёных, работавших в Университете, неоспоримым первенством обладает Дмитрий Иванович Менделеев, который в 1984 году был признан ЮНЕСКО самым великим учёным всех времён и народов. Университет бережно хранит память о нём.
Именно в Петербургском университете, на естественном отделении, зародились и получили развитие принципиально новые подходы к изучению окружающего нас мiра как органического целого. Дмитрий Иванович Менделеев не был классическим кабинетным учёным, корпевшим над химической посудой в лаборатории. Он был естествоиспытателем, изучал весь окружающий нас мiр во всём его разнообразии и не боялся рискованных полевых исследований.
Пример:
19 августа 1887 года в подмосковном Клину 53-летний профессор Менделеев в одиночку поднялся на воздушном шаре, заполненном водородом, чтобы наблюдать полное солнечное затмение. К восьми часам утра аэростат достиг высшей точки – 3800 метров. В корзине ученый произвел целый ряд атмосферных измерений и наблюдений. Пролетев над землей около 100 километров, шар с учёным благополучно приземлился близ деревни Спас-Угол.
Вот этот неугомонный исследовательский дух царил на естественном отделении Петербургского университета, а позже и на биолого-почвенном факультете, и я впитал его в полной мере.
Великие учителя воспитывали великих учеников. Студентом естественного отделение (специальность "агрономия") физико-математического факультета Санкт-Петербургского Императорского университета был Пётр Аркадьевич Столыпин, знаменитый реформатор России. Во время обучения Столыпина одним из преподавателей университета был Д. И. Менделеев, который принимал у него экзамен по химии и поставил «отлично».
Начиная с 1906 года и по сей день выпускники Петербургского университета, от Столыпина, Керенского и Ленина до ныне действующего Президента, во многом определяют направление развития России. Напомню, что логос или основополагающая идея Здания двенадцати коллегий есть создание административного центра управления Российской империей. Логосы вечны и не подлежат изменениям. Для подробных разъяснений рекомендую труды Гераклита, Платона, Аристотеля и Н.О.Лосского.
Ещё одним очень важным достоинством Главного здания Университета было его окружение. Буквально в нескольких минутах ходьбы от него находились Эрмитаж, Зоологический музей, Кунсткамера, Музей почвоведения, библиотека Академии Наук, Меншиковский дворец и Петропавловская крепость с Петропавловским собором, где находится усыпальница всех российских императоров и, конечно, Исаакиевский собор, главный православный собор Великой России.
Вывод: уникальное местоположение в структуре красивейшего и наиважнейшего города России Санкт-Петербурга, богатейшая история, начиная с петровских преобразований, традиции свободомыслия и научного подвига и непрерывный исторический континуум выдающихся учёных, связанных с Университетом, сделали его наиболее благоприятным местом для развития личности студентов. Как я убедился на собственном опыте, успешный выпускник Ленинградского университета мог добиться успехов в любой области науки и производства, искусства и политики, занять высшие посты на государственной службе.
Официальный список бывших студентов, которыми гордится Университет, постоянно корректируется его руководством. Такова наша отечественная история, вчера смутьян, а сегодня заслуженный, уважаемый народом человек, а иногда и наоборот.
Яркий пример: А. И. Ульянов (1866-1887+), старший брат В. В. Ленина.
Вот описание его короткой, безсмысленно загубленной жизни:
В 1886 году, на третьем курсе Петербургского университета, он получил золотую медаль за научную работу по зоологии беспозвоночных. В декабре 1886 года организовал «Террористическую фракцию» движения «Народная воля», которая объединила главным образом студентов Петербургского университета. На деньги, вырученные от продажи его золотой медали, была приобретена взрывчатка для бомбы. 1 марта 1887 года «Террористическая фракция» планировала осуществить покушение на Александра III, но покушение было предотвращено, а организаторы и 15 участников арестованы. Никто не пострадал, незадачливые заговорщики так и не превратились в убийц.
Вместе с другими организаторами покушения Александр Ульянов был заточён в Петропавловской крепости, в которой находился вплоть до перевода в Шлиссельбургскую крепость, где впоследствии был казнён.
Для справедливости замечу, что этот эпизод не характерен для естественного отделения, впоследствии биофака, естествоиспытатели люди мирные.
Позднее, с интервалом в 7 лет, на том же естественном отделении петербургского университета учился великий русский философ Николай Онуфриевич Лосский (1870-1965+), создатель наиболее совершенной философской системы, раскрывающей Тайну Человека, природу мiрового добра и зла. Два этих примера судеб студентов Петербургского университета показывают, насколько был широк спектр их мiровоззрений и жизненных целей.
По непонятной мне причине, тот факт, что Петербургский университет вырастил целую плеяду выдающихся русских философов 20 века, совершенно очевидно скрывается. На официальном вэб-сайте СПбГУ их фамилии не упомянуты.
Нет в последнем официальном списке и А.А.Собчака, довольно заметной фигуры в новейшей истории России. В.В.Путин в 1970—1975 годах учился на международном отделении юридического факультета ЛГУ, где вступил в ряды КПСС. В стенах университета он встретил Анатолия Собчака, в то время доцента ЛГУ, что стало началом их политического сотрудничества, в котором Собчак поначалу исполнял роль ведущего.
В рассматриваемом списке пока ещё присутствует Б.Б.Гребенщиков, патриарх петербургского рока.
Вольнодумство и склонность к политическим авантюрам в среде студентов и преподавателей Петербургского, а затем и Ленинградского университета всегда было серьёзной проблемой для властей предержащих. Среди студентов Университета, к сожалению, встречались и злодеи. Как известно, самые злые черти водятся в кафедральных соборах.
Автор радикального «Катехизиса революционера» Нечаев с сентября 1868 года слушал лекции в Санкт-Петербургском университете в качестве вольнослушателя (он никогда не был зачислен), где и познакомился с антиправительственной русской литературой декабристов, петрашевцев и отца русского анархизма Михаила Бакунина.
Борис Викторович Савинков (1879—1925+), русский террорист и храбрый авантюрист, один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров, учился в Петербургском университете, из которого был исключён за участие в студенческих безпорядках.
Осенью 1905 года Петербургский университет стал одним из центров революционного движения. Профессорским Советом поощрялись студенческие сходки, манифестации и митинги в аудиториях Университета, организацией которых с начала октября занимался новый студенческий орган самоуправления Совет старост, преимущественно социал-демократический (РСДРП) по составу. После издания Манифеста 17 октября, даровавшего гражданские права и свободы населению, в Петербургском университете, с которого в ночь на 18 октября было снято войсковое и полицейское оцепление, состоялся митинг с участием универсантов, интеллигенции и рабочих. Начавшийся в Зале торжественных собраний (Актовый зал) митинг выплеснулся на Университетскую улицу (Менделеевскую линию): балкон центрального ризалита здания Двенадцати коллегий стал трибуной для ораторов, на кресте домовой университетской церкви Св. Апостолов Петра и Павла было закреплено красное знамя.
Не могу не упомянуть печальный факт, что выпускником Университета, а впоследствии даже деканом биолого-почвенного факультета был Исаак Израилевич Презент, правая рука «народного академика» Т.Д. Лысенко, идеолог «мичуринской генетики», яростный гонитель всех честных учёных в области естественных наук до 1951 года.
В Ленинграде в 1960-е годы действовали две подпольные диссидентские организации, которые привлекают интерес исследователей. В обеих участие принимали студенты Ленинградского университета. Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа (ВСХСОН), подпольная антикоммунистическая организация, существовала в СССР в 1964-1967 годах. Члены ВСХСОН готовились возглавить антикоммунистическое движение в России и насильственную революцию против существующего порядка, если таковая начнётся. В феврале 1967 года КГБ ликвидировал организацию. К этому моменту в ВСХСОН состояли 26 человек и около 30 человек считались кандидатами в члены организации.
Революционные настроения 1960-х сошли на нет и остатки её выродились в банальную уголовщину с политической подоплёкой. Последнее громкое дело, связанное со студентами ЛГУ, датировано осенью 1974 года, когда была ликвидирована особо опасная банда Балановского-Зеленкова. Это уже в мою бытность студентом биолого-почвенного факультета. Помню, как беспрецедентное прочёсывание силами милиции и войсковых подразделений, с целью поимки банды, проводилось на обширной территории Ленинграда и области. Когда студенты, как обычно, спешили на электричку, приходилось предъявлять документы (студбилет, как правило) патрулю у входа на платформу в Старом Петергофе. В мае следующего года тотальная проверка в общежитиях с собеседованиями.
Отголоски тех печальных событий тем или иным образом повлияли на жизнь студентов Университета вплоть до 1980-х. Усиленный надзор и профилактические меры, пожалуй, себя оправдали. Тем не менее, в отличие от многих своих именитых собратьев, Ленинградский университет был чем угодно, но только не казармой. Он не был компактным образованием, с чётко определёнными границами и вертикальной структурой управления, что для советского периода было крайне необычным. Автономные в своей жизнедеятельности факультеты, кафедры, лаборатории и другие научные подразделения Университета были разбросаны произвольно, на огромной территории Ленинграда и области. Студенты крайне редко, мельком видели своих деканов, ректора, не получали приказов и инструкций, Никаких правил внутреннего распорядка и прочих регламентов рядовые студенты не знали. На мой взгляд, структуру Ленинградского университета образца 1970-х можно сравнить с Афинской республикой времён Фемистокла. В нашей студенческой среде не наблюдались вольница и распущенность, мы наслаждались максимальной степенью полноценной нравственной свободы, доступной в тот исторический период. Мы были свободны от конформизма, старались мыслить критически, поверяли свои действия личной моралью и чувством собственного достоинства.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Всеобъемлющий рассказ об истории Петербургского-Ленинградского университета не входил в мои планы. Труд этот воистину титанический и требует специальной подготовки, посему оставляю это дело учёным-историкам.
В предлагаемом повествовании я хотел поделиться с читателем наиболее интересными моментами моей студенческой жизни на биолого-почвенном факультете ЛГУ.
Факультет этот был основан в 1930 году на базе биологического отделения физико-математического факультета. До 1934 года Ленинградский университет оставался ведущим, наиболее авторитетным вузом страны с прочным основанием, заложенным ещё Петром Первым. Традиции академического образования оказались чрезвычайно стойкими. Они выдержали чудовищное идеологическое давление и многочисленные приступы административного восторга властей предержащих с их безумными попытками реформировать университет в угоду политической конъюнктуре.
Сегодня, спустя полвека с начала моей университетской одиссеи, я отчётливо понимаю, какие мощные силы подхватили меня тогда, дали толчок и средства к неограниченному развитию и совершенствованию моей личности.
Уже одно моё каждодневное путешествие на занятия в Университете было захватывающим переживанием, с глубоким эмоциональным воздействием.
Судите сами:
Факультетское общежитие находилось в добром и тихом Старом Петергофе, на южном берегу Финского залива. Утренняя пробежка до железнодорожной платформы (студенты всегда опаздывали на электричку), затем вполне комфортный, зимой тёплый путь в вагонах ещё старого образца, с деревянными сиденьями электрички до Балтийского вокзала, одного из старейших вокзалов России. Время в пути минут 40, расстояние 35 км. В электричке можно было доспать, подготовиться к зачёту, пообщаться с интересными людьми. Распитие спиртных напитков, даже пива, в электричках нашего направления не практиковалось. Все ехали чинно-благородно, из развлечений были доступны только облавы контролёров. Хотя месячный проездной билет на электричку до Старого Петергофа стоил всего несколько рублей, некоторые студенты ездили «зайцами», то есть безплатно.
С привокзальной площади отходила легендарная «десятка», автобус номер 10, в утренние часы забитый студентами. Почти что прямой маршрут шёл на север, по радиусу, к axis mundi Санкт-Петербурга, сиречь к месту его рождения. Именно этим маршрутом всегда двигались гости из европейских стран, прибывавшие поездом на Варшавский вокзал, что стоит рядом с Балтийским вокзалом. В наши дни это готовый туристический маршрут, один из лучших, если не самый лучший в Петербурге, протяжённостью чуть больше 4 км. Даже названия проспектов, улиц и площадей, в порядке следования, говорят о многом: Вознесенский проспект – Измайловский проспект с величественным, мощным, белоснежным собором Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка, с видными издалека куполами небесного цвета – Троицкий проспект – Исаакиевская площадь с правительственным Мариинским дворцом, памятником Николаю I и громадой главного собора Великой России, несравненным гранитно-бронзовым, златоглавым Исаакиевским собором. Затем выход на Малую Морскую улицу, невероятно насыщенную историческим объектами, и на широкий Невский проспект, ведущий к Адмиралтейству. Затем поворот на Дворцовую площадь с Александрийской колонной и Зимним дворцом. Следующим шёл подъём на Дворцовый мост. Эта последовательность, несомненно, была делом не случая, но провидения.
До Исаакиевской площади мы проезжали прекрасно сохранившуюся часть старого города, Петербург Достоевского, в котором протекала жизнь его литературных героев. С Исаакиевской площади начинался нетронутый современными вандалами императорский Петербург, во всём своём блеске и величии. Исаакиевский собор выглядел фантастически. Облик его менялся самым неожиданным образом в зависимости от времени года и суток, погоды и освещения. Это не имеющее аналогов строение не от мiра сего, и мне выпало счастье двенадцать лет моей молодости наслаждаться этими невероятными образами почти каждый день.
С Дворцового моста, куда въезжал автобус пред следующей остановкой "Университет", разворачивалась самая знаменитая, захватывающая дух, торжественно-радостная панорама Санкт-Петербурга. Широкая гладь Невы открывала простор, продуваемый уже свежим морским ветром. Справа по ходу – Петропавловский собор с высоким золотым шпилем, окружённый могучими каменными бастионами, самый высокий собор Санкт-Петербурга (Исаакиевский собор по высоте второй), слева Ростральные колонны и стрелка Васильевского острова, Академия наук, Кунсткамера, виднелся и южный торец Здания двенадцати коллегий. Отсюда пошёл строиться Санкт-Петербург, а вместе с ним новая, вечно молодая, устремлённая в будущее петровская Россия, которая стала Великой, не знающей границ. Зрелище это каждый раз вызывало эмоциональный подъём и душевное волнение, ощущение чего-то хорошего, что ожидало меня в ближайшем будущем.
Это чудесное путешествие в 1974-м обходилось в 5 копеек (стоимость автобусного билета).
Высадившись из автобуса прямо у входа в Университет со стороны набережной, мы входили в здание чрез неширокую дверь, поднимались на второй этаж и вступали на скрипучий, натёртый до блеска дубовый паркет Главного коридора, соединявшего все корпуса. По восточной, правой стороне коридора имелись входы в каждую из двенадцати секций длинного здания. С площадки широкой лестницы налево был вход в большую аудиторию, где читались лекции. Вниз по лестнице, на первом этаже, располагались лаборатории, а на третьем этаже – кафедры, специальные библиотеки, коллекции.
В те годы коммунальное пространство общего пользования в главном здании принадлежало студентам. Преподаватели и администраторы укрывались в своих кабинетах и других служебных помещениях, мы их видели только на занятиях или мельком, на ходу. Личные контакты между студентами и преподавателями были редкими и скоротечными, только по делу.
Вторым после Главного коридора, наиболее оживлённым местом встреч и разговоров были лестничные площадки второго этажа, ибо они служили курилками. Курили все, за редким исключением, дым стоял коромыслом. Кондиционеров и даже вентиляции в те времена не было, равно как и случаев возгорания. Здесь же случались и знакомства, перераставшие в отношения. Не занятые аудитории, лаборатории были доступны в любое время. Не помню ни одного случая, когда в университете какая-то дверь передо мной оказалась закрытой. Полагаю, что по ночам университет всё-таки закрывали. Никаких охранников и сторожей мы не видели, равно как и чужих людей в стенах университета. При этом ценности в университете имелись – старинные книги, произведения искусства, геологические и зоологические коллекции, лабораторное оборудование, даже драгметаллы.
На моей памяти было только два случая кражи: платиновых тиглей из лаборатории и морского бинокля с военной кафедры. Украл студент из числа ленинградцев, мы догадывались кто, но помалкивали, таков был неписанный кодекс студенческой этики.
Замечу, что фрагментарная корпоративность в студенческой среде наблюдалась исключительно на уровне конкретного курса. Отчётливо выделялись два сообщества: классические студиозусы, поступившие в университет сразу после окончания школы и рабфаковцы.
Рабфаковцами или слушателями подготовительного «рабочего факультета» называли тех, кто был зачислен на дневное отделение после обучения на подготовительном отделении, без конкурса. Это были, как правило, ребята, отслужившие в армии, имеющие стаж работы на производстве, заметно старше основной студенческой массы. Они выделялись уверенностью в себе, обязательностью, сторонились студенческих пирушек и пустых разговоров. Учёба им давалась тяжелее, чем вчерашним школярам, они ценили свой шанс и занимались упорно, лекции не прогуливали, не "сачковали".
Все студенты делились ещё на ленинградцев и неленинградцев. Почти все неленинградцы жили в общежитии, где и общались. Ленинградцы держались несколько отстранённо, компаниями по интересам.
Уже в те годы по всему мiру стал нарастать интерес к биологическим наукам и охране природы. Умные люди понимали, что 21 век станет веком биологии и экологии. Среди студентов-ленинградцев преобладали дети влиятельных родителей-профессоров университета, генералов, адмиралов, секретарей районных и областных партийных организаций. Не буду приводить фамилии, они были весьма известные.
На первом курсе попадались и представители «золотой» молодёжи, которые баловались лёгкими наркотиками и прочими глупостями. В университете они не задержались.
Границы между различными студенческими компаниями были достаточно размытыми и индивидуальное общения между членами различных групп ничем не затруднялось, все были "чуваками и чувихами". Разница в имущественном положении также явно не прослеживалась и не афишировалась. На нашем факультете существовали некоторые отличия во внешнем виде, студенты биофака одевались попроще, с элементами полевой экипировки. У кого были деньги, старались одеваться "фирменно", американские джинсы, куртки современного покроя, дорогие ботинки. Обувь была очень болезненной темой. Фабрика "Скороход", обувавшая советскую армию так и не смогла освоить модели для штатских граждан, в первую очередь для женского пола. Импортную обувь достать было крайне трудно и очень дорого. Носили какую-то жуть.
Наколки-татуировки в студенческой среде не наблюдались, как вещь недопустимая, позорная.
В общем и целом, жизнь в студенческой среде была по большому счёту невинной и скорее консервативной в хорошем смысле этого слова. В мою бытность в студенческой среде никаких скандалов, инцидентов и тем более преступлений не произошло. Представители охраны правопорядка в стенах университета не появлялись.
Особых требований к внешнему виду студентов не существовало. Одевались кто во что горазд. Многие девушки предпочитали длинные платья и брюки. Длинные волосы юношам дозволялись до начала занятий на военной кафедре на втором курсе, на старших курсах длинные волосы маскировали, зачёсывая их за уши и прилизывая. Студенческие пирушки носили камерный характер, в немногочисленных компаниях. Разврат и непотребство нам были незнакомы. Мы слушали рок-музыку, чрезвычайно популярными в любых компаниях были анекдоты, в том числе политические, но при этом не сквернословили. По выходным в общежитиях устраивались танцы, на которых студенты были предоставлены сами себе, но за рамки дозволенного не выходили. Студенческий жаргон имел весьма ограниченное распространение и был свободен от тюремно-лагерной терминологии. Мне не удалось найти более-менее правдивое языковое исследование этой темы, посвящённое именно 1970-м, как правило в таких публикациях собраны словечки бывшие в употреблении за пределами университета, в большинстве своём банальные заимствования из английского языка.
Какой-то суетливости, тем более раболепия перед преподавателями, услужливости и лицемерия в студенческой среде не наблюдалось, в этом не было никакой необходимости. Студенты были исполнены самоуважения и уверенности в своём будущем, взаимоотношения между студентами и преподавателями были максимально простыми, всем понятными и безкорыстными. Дать взятку преподавателю за услугу в нашей студенческой среде было делом немыслимым, мне такие случаи неизвестны. Когда на последнем курсе мне, супруге и моему годовалому сыну необходимо было разместиться в общежитии, в отдельной комнате, я в первый раз в жизни, он же и последний, попытался дать взятку в 100 рублей нашему коменданту, Юре, бывшему подводнику, служившему на атомной субмарине. Попытка позорно провалилась, Юра денег не взял, комнату нам предоставил, по своей доброте, безвозмездно.
Знакомые мне рассказывали, что в весьма авторитетных вузах в те годы процветало своего рода «дедовщина» со всякими дикими обычаями, типа «прописки», где старшекурсники вымогали деньги у первокурсников. В Ленинградском университете ничего подобного не было, для старших курсом мы, первокурсники, никакого интереса не представляли. Правда, у меня такой контакт всё же состоялся.
По каким-то причинам я приглянулся пятикурсникам, и они взяли меня, единственного первокурсника, в свою агитбригаду для поездки в Москву, в университет-побратим, МГУ (Московский государственный университет). Поездка оказалась весьма познавательной и поучительной. Почвенный факультет МГУ располагался в главном здании, на Воробьёвых горах. Резкий контраст с ЛГУ, настоящая казарма с жесточайшей дисциплиной. Им даже не разрешали сидеть днём на заправленных кроватях в общежитии. Там я по молодости и глупости в разговоре с москвичом высказал вслух мысль, что комсомольские собрания это пустая трата времени. Агитбригада была как бы комсомольской инициативой и совместное комсомольское собрание с москвичами провели по правилам. То, что неприметный паренёк рядом со мной в курилке оказался стукачом, я понял позже, когда у меня начались неприятности, которые могли закончиться для меня весьма печально. Тоже своего рода наука.
Это было ещё одно, весьма заметное отличие ЛГУ от других вузов – нескрываемая аполитичность. В Главном здании отсутствовали портреты партийных вождей и «основоположников», равно как и любая наглядная агитация. Никто не вывешивал праздничных флагов и транспарантов. Мы не ходили на демонстрации, митинги и собрания коллектива, не участвовали в выборах, не слушали пропагандистов, не читали газет, телевизор не смотрели, радио не слушали, а интернета ещё не было. Политинформация и прочая пропаганда до нас не доходили. Тогдашние студенты жили ещё в условиях вербальной цивилизации, что позволяло им успешно противостоять пропаганде, например читая «между строк», вырабатывая критическое мышление. В целях самосохранения мы пользовались самоцензурой, говорили и писали то, что было нужно, даже если это противоречило нашим убеждениям, исправно цитировали навязанные обществу изречения. Современная визуальная цивилизация, пришедшая на смену вербальной, чрезвычайно агрессивна и эффективна, слаборазвитым личностям очень трудно ей противостоять. Комсомольских собраний в Университете я не помню, но считался хорошим комсомольцем, поскольку исправно платил взносы. Замечу, что в 1977 году с большим размахом в последний раз отмечали круглую дату со дня Великой Октябрьской революции, 60 лет. Денег и ресурсов не жалели, но всё это уже не работало. Таким образом, коммунистическая пропаганда, работавшая в трёх пространствах: физическом, информационном и виртуальном, уже в 1970-х полностью провалилась в пределах ЛГУ. Последней надеждой оставалось виртуальное пространство, в котором формировались правильные образы прошлого, настоящего и будущего. В этом направлении были брошены лучшие силы советской интеллигенции.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе