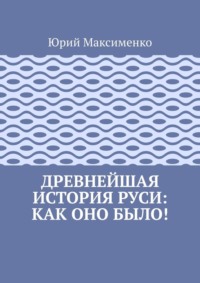Читать книгу: «Древнейшая история Руси: как оно было!», страница 5
Вслед за кончиной последовал ряд других, не менее ужасных смертей и братоубийств. Святополк (Окаянный), захвативший власть в Киеве, принялся с методичной последовательностью устранять конкурентов-соперников и возможных претендентов на престол [именно так]. Первыми жертвами стали святые мученики Борис и Глеб (за ними брат от другой матери – Святослав). Высказывалось предположение, что убийством Бориса и Глеба, которое потрясло и всколыхнуло всю Русскую землю, Святополк всего лишь нанёс упреждающий удар. Будущих святых братьев родила Владимиру жена-«болгарыня», но была она не дунайской славянкой, как полагает большинство читателей, а волжской булгаркой [волжские булгары не имеют никакого отношения к болгарам]. Для укрепления своих позиций Бориис и Глеб намеревались воспользоваться услугами родичей по материнской линии и привести к Киеву в противовес полякам – союзникам Святополка (его тестем был могущественный король Болеслав), а также наёмным варягам – союзникам Ярослава – тюркскую орду. Для того и отправились на родину своих предков, но по пути их настигли убийцы, посланные Святополком.
Это – по летописи и каноническому житию. Но опять-таки: нельзя не учитывать, что Ярослав, приведший под стены Киева 40-тысячное новгородское ополчение да ещё тысячу профессиональных воинов-варягов, не менее Святополка был заинтересован в устранении любых конкурентов [верно, два приёмных сына Владимира рвались к власти, поэтому потом начали воевать между собой]. Никаких сентиментальных чувств ни к братьям, ни к отцу с матерью, ни к какой-либо другой родне он не питал [а прямого родства и не было…]. Перед описываемыми событиями накал дошёл и без того напряжённых семейных отношений до предела – так что отец [не отец, а отчим] намеревался проучить строптивого сына с помощью карательной дружины и сам её возглавил. Это потом, когда вокруг не осталось соперников, Ярослав, что называется, поумнел и прослыл Мудрым [это на бумаге, а на самом деле он имел прозвище «Хромой»]. Таковым, кстати, ни современники, ни летописцы его не величали, а эпитет придуман Карамзиным [позорное действие фальсификатора].
Интересна также судьба первого русского митрополита Илариона, о котором мало что известно. В определённый момент на страницах летописей имя его больше не появляется – ни в какой связи. Странно, не правда ли? Прямо наваждение какое-то! Иларион – фигура воистину Дантова масштаба: первый русский митрополит, первый русский писатель и философ, выдающийся общественный деятель, сподвижник Ярослава Мудрого, надёжная опора всех его славных дел и начинаний, он вдруг оказался изгнанным, вычеркнутым со всех летописных страниц. Просто так сие произойти не могло. Значит, было сделано умышленно. Перед нами почти что детективная история. Но она отчётливо читается между строк – тех самых летописных строк, которые были тщательно вымараны и выскоблены последующими «правщиками».
В 1054 году умирает Ярослав Мудрый. Иларион лишается могучего покровителя и в результате политических и церковных интриг вынужден оставить митрополичью кафедру. С тех пор о нем ни слуху, ни духу – ни на страницах летописи, ни в церковных анналах. Куда же он мог деться? Ломать голову особенно не приходится: Иларион ушёл в монастырь, начало коему сам же и положил, и принял постриг, получив при этом, как и подобает, новое иноческое имя. И в самом деле – именно в это самое время среди братии Киево-Печерского монастыря появляется новое лицо – мних Никон, ставший выдающимся деятелем отечественной истории, настолько выдающимся, что получил прозвание Никона Великого. С 1078 года и до самой смерти, последовавшей в 1088 году, Никон был игуменом Киево-Печерского монастыря. Все это вместе взятое и дало основание выдающемуся ученику академика А. А. Шахматова Михаилу Дмитриевичу Приселкову (1881—1941) выдвинуть вполне приемлемую гипотезу: под именем Никона скрывается таинственным образом исчезнувший со страниц летописей Иларион.
Но и это ещё не все. Задолго до Приселкова сам Шахматов путём скрупулёзного текстологического анализа и сопоставления фактов установил, что Никон-Иларион является также и автором Начального летописного свода, составленного примерно в 1073 году (с учётом уже существовавшего древнейшего свода 1037 года) и использованного Нестором при написании «Повести временных лет». Собственно, Никон – главный идейный вдохновитель Нестора – с полным основанием может считаться соавтором Начальной русской летописи. Гипотеза Шахматова считается общепризнанной. За девяносто лет своего существования она была подкреплена дополнительными аргументами.
В 1051 году Иларион был поставлен собором епископов и без разрешения Константинопольского патриарха главой Русской православной церкви. Событие из ряда вон выходящее! Думается, в Царьграде оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Но не надо было забывать, с кем имеешь дело: Византия – не Тмутараканское княжество, с которым можно было поступать сегодня так, а завтра этак. Способов справиться с непокорными, а если надо, то и избавиться от таковых, там всегда было с избытком. Церковная иерархия – вещь вообще нешуточная. Потому-то со смертью Ярослава Мудрого в Константинополе быстро решили судьбу русского митрополита: Иларион был отстранён от власти. А в Киево-Печерском монастыре, представлявшем тогда всего лишь одну пещеру с единственным насельником Антонием, появляется его первый сподвижник – чернец Никон (прозванный впоследствии Великим). Это и был опальный митрополит Иларион.
Другие важные события связаны с тем, что в 1052 году сын Ярослава Мудрого Всеволод женился на греческой царевне – дочери византийского императора Константина Мономаха (как ни странно, ни русские, ни греческие источники имени прекрасной избранницы не сохранили [это более чем странно]). Через год у молодой четы родился первенец, наречённый Владимиром, получивший к тому же от своего венценосного деда ещё и звучное прозвище – Владимир Мономах (1053—1125) [главный фальсификатор истории Руси, именно он дал поручение Сильвестру о переделке летописи Нестора]. Однако его деяния, да и саму личность, вопреки стараниям летописцев и последующих историков, однозначно оценить невозможно. Ибо он и есть тот конкретный заказчик [верно], который, взойдя на киевский трон, немедленно приказал переписать Несторову «Повесть временных лет», изъяв из неё неприемлемые, с его великокняжеской точки зрения, неприглядные факты и их оценки [верно].
Сам Владимир Мономах женился на Гите – дочери англосаксонского короля Гаральда и имел от неё восемь детей. Надо полагать, у всех этих Мономаховичей – наполовину англосаксов, на четверть византийских греков – кровная привязанность к Русской земле и к русской культуре была относительной и имела преимущественно территориальный характер. Кроме того, одна из сестёр родоначальника русского Мономахова гнезда была замужем за германским королём, другая – за венгерским; связи с венгерской династией были в дальнейшем закреплены и с помощью собственной дочери.
Без знания этих генеалогических деталей трудно понять феномен Владимира Мономаха, направленность его внешней и внутренней политики, а также мотивы противоречивой деятельности. Если называть вещи своими именами, то чаяния Русской земли были весьма далеки от личных амбиций наследника угасающей ветви византийских императоров. Ведь у русского князя были достаточно реальные шансы сесть на константинопольский трон. Потому-то мысленный взор его был постоянно устремлён к Византии. Стать императором? Но ведь это было возможно только за счёт интересов Русской державы. Разве Византия присоединилась бы к Киевской Руси, стань наследник Мономахов легитимным правителем новой империи? Смешно даже подумать! Конечно же, великий князь сделал бы все от него зависящее, чтобы русские земли превратились в третьестепенные провинции Византии.
Именно это прекрасно осознавали печерские патриоты (братья во главе с Илларионом), на себе испытавшие жестокий деспотизм церковных греческих иерархов. Не надо было иметь семь пядей во лбу, дабы понять, что ожидало бы русский народ и русскую государственность в политическом и экономическом плане – татаро-монгольское иго с византийским лицом. Однако обстановка на самой Руси и вокруг неё мало благоприятствовала Владимиру Мономаху. Страна, как в топком болоте, погрязла в непрерывных междоусобицах. Потомки крестителя Руси Владимира Святого и наследники Ярослава Мудрого пребывали в состоянии «войны всех против всех». Брат поднимал меч на брата, сын не доверял отцу, а отец сыну. Жизнь людей – от князя до смерда – не стоила ничего, данное слово или достигнутый договор – тем более.
Владимир Мономах был плоть от плоти своего времени. Несколько десятилетий подряд он находился в самом эпицентре междоусобной борьбы: плел интриги, затевал коалиции против одних, заговоры – против других, физическое устранение – в отношении третьих. Цель одна – великокняжеский трон. Но до него было, ой, как далеко и добраться, ох, как не просто. После смерти отца – великого князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого – престол достался двоюродному брату Святополку, тот сумел удержаться у власти целых двадцать лет. Желающих любыми путями сократить княжение Святополка до минимума и занять освободившееся место было хоть пруд пруди, но смерти не потребовались помощники – она пришла, когда пробил урочный час.
Как духовно-идеологический центр Древней Руси Киево-Печерский монастырь занимал совершенно чёткую государственническую позицию по всем вопросам внешней и внутренней жизни, и именно данная позиция с самого начала оказалась противоречащей по многим пунктам точке зрения Владимира Мономаха. Подвижники отстаивали свою правоту пером и словом, князь – мечом и кознями. Лет сорок шла позиционная борьба – почти на равных и с переменным успехом. Но придёт время, 60-летний Мономах [можно только представить, сколько в нем накопилось злости и ярости] дождётся вожделенного часа, займёт киевский престол и отомстит несгибаемой братии. Что там люди: одним десятком казнённых, утопленных, задушенных больше или меньше – разве в этом дело? Главное – манускрипты, пергаментные свидетели его неблаговидных дел и предательств, бесстрастные обвинители нескончаемой череды преступлений против братьев, семьи и народа. И Владимир Мономах приказывает печерским монахам выдать ему летописные хартии, засаживает за них доверенное лицо – выдубицкого игумена Сильвестра [именно так], и тот под личным контролем князя осуществляет безжалостную обработку Начальной русской летописи.
Наиболее крамольные части её были переделаны до неузнаваемости, выскоблены разоблачительные факты, вырезаны целые главы, концовка, посвящённая трём годам перед воцарением Владимира Мономаха, выброшена совсем, на её месте появилась приписка, сделанная рукой Сильвестра: «Игумен Силивестр святаго Михаила написах книгы си Летописець, надеяся на Бога милости прияти, при князи Володимире, княжащу ему Кыеве, а мне в то время игуменящю у святаго Михаила в 6624, индикта 9 лета; а иже чтеть книгы сия, то буди ми въ молитвах». Далеё первоначальный (и изуродованный) текст Несторова труда обрывался вообще и начинался другой, подобострастно восхваляющий нового киевского князя. Сюда же чисто механически (без органической увязки с летописным контекстом) вставлены собственноручно написанные великокняжеские «Поучения», что как раз и доказывает: Владимир Мономах лично участвовал в «редакторской работе» Сильвестра и указывал, что надо убрать, а что добавить.
Изъятое из Несторовой летописи безвозвратно утеряно [наверняка]. Все последующие добавления, сделанные чужой рукой, так или иначе связаны с восхвалением Владимира Мономаха, получившего наконец в 1113 году великокняжеский стол. На излёте жизни пришло время и ему подумать о вечном. Какая память сохранится о нем в веках, все ли тайные злодеяния удастся скрыть – состарившемуся великому князю было далеко не безразлично. Что касается коварных козней, что плелись на протяжении почти семи десятилетий против конкурентов-сородичей, то за это ему отвечать перед Богом. Что же касается благих деяний и помыслов, то их можно суммировать в некотором эссе, назвать «Поучением» и как бы невзначай вставить в «Повесть временных лет» [!]: пускай доверчивые потомки считают, что обширная вставка принадлежит самому Нестору.
В. Н. Дёмин правильно выделил главного фальсификатора летописных источников – Владимира Мономаха с его подручным Сильвестром. На них целиком и полностью лежит вина в том, что мы, Русский народ, имеем лживую, намеренно оболганную историю «начала» Руси. Весь ужас такой ситуации состоит также в том, что академическая историческая наука приняла эту ложь и до сих пор этой ложью пичкают наших детей, обманывают всё население страны, ничего не предпринимая для исправления этой поистине гнусной ситуации в древней истории Отечества.
III. О едином происхождении языков
По обозначенному вопросу российский учёный В. Н. Дёмин писал: «Как известно, славянские языки относятся к большой и разветвлённой семье индоевропейских языков. Ещё в прошлом веке [XIX] было доказано (и это стало одним из блестящих триумфов науки), что все входящие в неё языки и, следовательно, говорящие на них народы имеют общее происхождение: некогда, много тысячелетий тому назад, был единый пранарод, именуемый иногда арийским, с единым праязыком [верно].
Всего известно свыше 30 самостоятельных языковых семей – точная классификация затруднена из-за неясности: на сколько обособленных языковых семей подразделяются языки индейцев Северной, Центральной и Южной Америк; в различных энциклопедиях, учебной и справочной литературе их число колеблется от 3 до 16 (причём ряд лингвистов вообще предполагает отказаться от традиционной классификации и перейти к группировке на совершенно ином основании). Языковые семьи не равномощны: например, на языках китайско-тибетской семьи говорит около миллиарда человек, на кетском же языке (обособленная семья) – около одной тысячи, а на юкагирском языке (тоже обособленная семья) – менее 300 человек (и кеты и юкагиры – малые народности России)».
При этом Дёмин был убеждён, что «слова-лексемы любого языка берут своё начало в самых невообразимых глубинах человеческой истории. Они, точно несмываемые следы, сохраняют на себе отпечаток тех неимоверно далёких времён, когда современные языки представляли собой единое целое в составе пусть несколько примитивного, но зато общего человеческого праязыка [первая неточность Дёмина: общего человеческого праязыка никогда не существовало, был, например, только общий арийский язык Белой расы человечества, названный «академиками» «индоевропейским»]. То была эпоха, когда, говоря словами самой же Несторовой летописи, «быша человеци мнози и единогласни» [то есть «говорили на одном языке»]. (Другой перевод соответствующего резюме из Лаврентьевской летописи: был «род один и язык един»). Здесь Нестор опирается на Библию: «На всей земле был один язык и одно наречие» (Быт. 11, 1) [вторая неточность Дёмина: он не понял, что библия – намеренно выдуманная сказка, и на неё ссылаться в поиске истины нет резона]. Это – канонический русский текст. В дословном научном переводе знаменитая фраза звучит ещё более впечатляюще: «И был на земле язык один и слова одни и те же» [перевод, может, и канонический, только вот содержание не соответствует истине].
Дёмин подчёркивал: «Не надо думать, что легендарное представление о былом единстве языков, кроме Библии, нигде больше не встречается. Предания о некогда общем для всех языке зафиксированы в разных концах земного шара у таких экзотических, совершенно непохожих друг на друга и абсолютно не связанных между собой народов, как племена ва-сена в Восточной Африке, качча-нага в индийском Ассаме и у южно-австралийских туземцев, живущих на побережье бухты Энкаунтер. О былом единстве языков свидетельствуют и древнейшие шумерийские тексты. Так, в известном фрагменте о Золотом веке прямо говорится о том времени, „когда речь человечья единой была“, и лишь впоследствии языки расщепились и возникло „разногласие“» [как может быть единым язык у разных по происхождению народов и живших в разные эпохи: у лемурийцев, у атлантов, у ариев?].
И это Дёмин считал ключом к разгадке многих тайн древнейшей истории! [это неверная точка зрения]. «Не надо никуда ездить и ничего раскапывать. Всё под руками, точнеё – перед глазами. Нужно только научиться реконструировать первоначальный смысл, заложенный и навечно сохранённый в текстах, прослеживать его трансформации на протяжении тысячелетних перипетий. Понятно, придётся отказаться от некоторых укоренившихся предрассудков и приобрести определённые навыки, дабы в буквальном смысле научиться читать не только между строк, но и между слов и даже между букв».
Большинство филологов и историков данную концепцию активно отвергает, считая, что все языковые семьи возникли когда-то самостоятельно, как грибы после дождя. И между ними существует – если уж не «китайская стена», то непреступная загородка. Как же вообще возникает язык? И почему? Дёмин пишет на этот счёт: «Ответы на поставленные вопросы традиционно вращаются вокруг чуть ли не фатальной случайности. Случайно на Земле появился человек – к тому же „от обезьяны“ [человек появился не случайно и не от обезьяны!]. Случайно первоначально издаваемые им нечленораздельные звуки превратились в связную речь [речь возникла во времена лемурийцев, письменность только у атлантов]. Классические теории происхождения языка все как одна ориентируются на случайность и вообще даже по своим неформальным названиям, негласно данным им филологами, носят какой-то легкомысленный характер: теория „вау-вау“ (язык возник в результате звукоподражания животным, птицам и т.п.); теория „ням-ням“ (слова языка – результат первоначального детского лепетания); теория „ой-ё-ёй“ (всё началось с непроизвольно произносимых звуков и выкриков) и т.д.» Поддерживаем недоумённость Дёмина и видим всю абсурдность и наивность позиции современной «науки»!
И далее: «Между тем слова любого языка образуются не в виде свободного или случайного набора звуков и столь же случайного привязывания их к обозначаемым объектам. Существует общая закономерность, обусловленная природной структурой энергетического поля Вселенной [во как завернул…46]. На таком понимании глубинных законов Космоса настаивал великий русский учёный и мыслитель Константин Эдуардович Циолковский (1857—1935). Согласно данной концепции, в самой природе содержатся информационные матрицы [слово матрица здесь не подходит; согласно Эзотерическому учению, Вселенная и всё в ней создаётся по так называемым шаблонам и случайности, о которых говорит современная «наука», здесь совершенно ни при чём] с единой смысловой структурой, что, в конечном счёте, и реализуется в словах и понятиях. Смысл не зависит от языка (и соответственно – от системы письма, звукового или знаково-графического выражения); напротив, любой язык целиком и полностью зависит от смысла.
Потому-то и есть достаточно оснований утверждать, что в самых глубинных истоках, на заре становления людского рода все без исключения языки имели общую основу [неверно, это касается только индоевропейской (арийской) семьи языков, т.е. языков Белой расы, главенствующей сейчас на планете] – а, следовательно, и сами народы [«индоевропейские», арийские] имели общую культуру и верования. К такому выводу приводит, к примеру, анализ самого архаичного и консервативного пласта лексем всех языков мира – указательных слов и местоимений и возникших позже на их основе личных местоимений всех модификаций. Удаётся выделить несколько первичных элементов, которые повторяются во всех без исключения языках мира – живых и мёртвых, донося до наших дней дыхание Праязыка. Какая-то случайность здесь полностью исключена».
Серьёзные учёные-языковеды во все времена по-разному доказывали, что утверждение Библии о былом единстве языков – отнюдь не метафора [именно метафора, касающаяся народов арийского происхождения, в том числе и евреев, потому что их «ведущие», которые все напридумывали, просто не знали истины о бытие]. Наиболее убедительно это было сделано уже в наше время. В начале ХХ века итальянский филолог Альфред Тромбетти (1866—1929) выдвинул всесторонне обоснованную концепцию моногенеза языков, то есть их единого происхождения. Практически одновременно с ним датчанин Хольгер Педерсен (1867—1953) выдвинул гипотезу родства индоевропейских, семито-хамитских, уральских, алтайских и ряда других языков.
Примерно в то же самое время набрало силу «новое учение о языке» советского академика Николая Яковлевича Марра (1864—1934), где неисчерпаемое словесное богатство, обретённое многочисленными народами за их долгую историю, выводилось из четырёх первоэлементов: «сал», «бер», «йон», «рош». Лингвистическая теория Н. Я. Марра по-другому именовалась яфетической, а учение в целом – яфетологией. Вполне научный и широко распространённый до спровоцированного Сталиным погрома термин является производным от имени Иафет – сына библейского патриарха и праотца Ноя. В то время имя Иафета писалось как Яфет (в древнерусском написании – Афет). С ним сопряжено имя древнегреческого титана Япета, отца Прометея. Названные имена-мифологемы – отзвуки не дошедшей до нас в виде письменных источников далёкой предыстории человечества, связанной с последним глобальным геофизическим, гидрологическим и климатическим катаклизмом, известным в обиходе по ёмкому понятию «всемирный потоп». Вот почему яфетология как обобщённая концепция (не узко-лингвистическая в марристском понимании, но предельно широкая, учитывающая многообразные данные науки и культуры) вполне заслуживает возрождения и всемерного развития. После появления известной работы И. В. Сталина по вопросам языкознания марристская теория была объявлена лженаучной, а её приверженцы подверглись гонениям. Сама тема долгое время считалась запретной.
Помимо концепции «языковых первоэлементов» Марр во множестве публиковал и конкретные лингвистические доказательства в пользу былого единства языков, культур и не родственных на первый взгляд этносов. Так, в 1926 году вышла в свет его статья «От шумеров и хеттов к палеоазиатам», где демонстрируется общность происхождения слова «женщина» (а также «вода») в южных месопотамских и малоазиатских языках, с одной стороны, и в северных палеоазиатских (чукотский, эскимосский, юкагирский языки), с другой стороны. А в 1930 году Марр опубликовал обширную работу с беллетристическим названием – «Яфетические зори на украинском хуторе (Бабушкины сказки о Свинье Красном Солнышке)», где на многочисленных и конкретных примерах продемонстрировал доиндоевропейские базовые элементы славянских языков.
В середине века наибольшую популярность получила так называемая «ностратическая» (термин Педерсена), или сибиро-европейская (термин советских лингвистов), теория. В ней идея Праязыка доказывалась на основе скрупулёзного анализа крупных языковых семей. На эту тему было опубликовано несколько выпусков сравнительного словаря рано погибшего учёного В. М. Иллича-Свитыча. Недавно американские лингвисты подвергли компьютерной обработке данные по всем языкам Земли (причём за исходную основу был взят лексический массив языков северо-, центрально- и южноамериканских индейцев), касающихся таких жизненно важных понятий, как деторождение, кормление грудью и т. п. И представьте, компьютер выдал однозначный ответ: все языки без исключения имеют общий лексический базис [конечно, у американских индейцев общий базис, они все потомки атлантов].
В результате В. Н. Дёмин делает следующее заключение: «Теория моногенеза языков вызывает скептическое неприятие специалистов. Однако гораздо более нелепой (если хорошенько вдуматься) выглядит противоположная концепция, в соответствии с которой каждый язык, группа языков или языковое семейство возникли самостоятельно и обособленно [именно так, надо выделять лемурийскую, атлантскую и арийскую основу], а потом развивались по законам, более или менее одинаковым для всех [это так и есть, т.к. человечество на планете едино, но подразделяется на несколько эпох бытия, например, после нашей цивилизации на Земле будет ещё две, совершенно отличных от нас нынешних, в том числе и по языку]. Логичнее было бы предположить, что в случае обособленного возникновения языков [подразделяются по эпохам существования человечества] законы их функционирования также должны были быть обособленными, не повторяющими (гомоморфно или изоморфно) друг друга. Такое совпадение маловероятно! [Беда таких умозаключений в том, что ни наука, ни тот же Дёмин не подразумевали (а может просто отвергали, что не принципиально) деление человечества планеты на эпохи и не заглядывали в глубь далее 5 тысячелетий]. Следовательно, остаётся принять обратное.
Как видим, аргументов в пользу языкового моногенеза [арийских языков – да] более чем достаточно. И можно с полным основанием утверждать, что единый пранарод, единый праязык и их общая прародина относятся не к одним лишь индоевропейцам…» [третья неточность Дёмина: прародина была в каждой эпохе существования человечества своя – у лемурийцев, у атлантов и у ариев, см. главу 2 о Гиперборее]. По нашему мнению, в данном случае можно говорить лишь о единстве, в смысле высказанном у Дёмина, арийских народов, среди которых базовым были древние Русы, прямые древнейшие предки Русского народа.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе