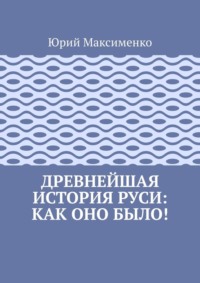Читать книгу: «Древнейшая история Руси: как оно было!», страница 4
В-третьих, ключевым во всей разбираемой фразе является упоминание не о прежнем прозвании новгородцев – «словени», то есть «жители Словенска», а о том, что они являются соплеменниками варягов («ти суть людье ноугородьци от рода варяжьска»). Другими словами, если рассуждать, так сказать, «от противного», получается, что и сами варяги, и Рюрик с братьями были обыкновенными русскими людьми [Русами, русскими они не были] (хоть и жили в Заморье) и говорили на обычном русском языке [на его наречии], а не на каком-либо из скандинавских. В противном случае получится, что на норвежском, шведском или датском языке говорили новгородцы, ибо были они, как и Рюрикова семья, «от рода варяжська».
Самое главное, что текст Нестора о призвании варяжских князей не совпадает в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях [именно так и проявляет себя фальсификат]. Не менее любопытен данный отрывок и в факсимиле Радзивиловской летописи, где соответствующий 8-й лист (с четырьмя миниатюрами на аверсе и на реверсе) является самым зачитанным – с текстом частично вообще утраченным, оборванным по краям и замусоленным от прикосновений пальцев тех, кто пытался разгадать тайну первой царской династии Рюриковичей. Вот как звучит знаменитый сакраментальный фрагмент в передаче Ипатьевской летописи (точнее – по Ипатьевскому списку «Повести временных лет»): «В год 6370 (862). И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали: «Поищем сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и по закону». Пошли за море к варягам, к руси [никто варягов не призывал, князь Гостомысл послал ободритам грамоту со своим завещанием, где Рюрику, как среднему внуку Гостомысла, и только ему одному из братьев, отдавался городок Ладога на княжение, т. е. Рюрику досталось некое наследство как и другим потомкам Гостомысла на Руси; отмечаем, что Ладога уже существовала к тому времени, Рюрик ничего не строил].
Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные – норманны и англы, а ещё иные готы – вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И подставили город Ладогу [см. комм. выше]. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой, Синеус, – на Белом озере [нет, захват этого городка осуществлён позже], а третий, Трувор, – в Изборске [не сразу он там сел]. И от тех варягов прозвалась Русская земля [Русской земле на тот момент было уже тыячи лет! Во Влескниге приводится дата в 20 тысяч лет; в Сказах Захарихи говорится о переселении Русов с Северного материка предположительно в 75 тыс. до н.э.!]. Через два года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и пришёл к Ильменю, и поставил город над Волховом, и назвал его Новгород [так откуда же Рюрик получил «приглашение», с неба что ли? Как известно, Словенск и Новгород существовали задолго до прихода Рюрика!], и сел тут княжить [и не сел там, а силой и кровью завоевал Новгород и новгородцев, которыми руководил в качестве законного князя старший двоюродный брат Рюрика Вадимир], и стал раздавать мужам своим волости и города ставить – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а коренные жители в Новгороде – славяне, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик».
Конечно, сам Нестор также освещал вопрос о призвании варягов не по документам, а понаслышке – на основе тех устных преданий, которые сложились ко времени начала работы над «Повестью временных лет» в дружинной среде. Историю, связанную с Новгородом (не говоря уж о предыстории), он знал плохо, фрагментарно и в основном в тех аспектах, которые имели непосредственное отношение к киевской великокняжеской династии. Это отмечает и В. Н. Татищев, приступая к изложению начальных страниц русской истории в соответствии с Иоакимовской летописью. Точнее – он присоединяется к мнению тверского монаха Вениамина, сделавшего необходимые выписки из в дальнейшем утраченной Новгородской летописи, составленной епископом новгородским Иоакимом в основном во времена Ярослава Мудрого. «О князех руских старобытных Нестор монах не добре сведом бе, что ся деяло у нас славян во Новеграде…» – таков приговор автору «Повести временных лет» в отношении знания им фактов ранней истории своего Отечества.
Но и это ещё не все. По Флетчеру, в первоначальном распределении власти участвовали не трое братьев-варягов, как у Нестора, а целых восемь претендентов на управление Русской землёй [совершенно верно, и все они известны, см. комм. ниже]. Помимо Рюрика, Синеуса, Трувора и Варяга [А это что за птица? Не было такого…] то были ещё хорошо знакомые нам братья Кий, Щек, Хорив и сестра Лыбедь [четыре последние лица к этому не имели никакого отношения, т.к. жили на 400 лет ранее; как можно пользоваться таким бредовым источником?]. Выходит, в Москве, предоставляя англичанину такую информацию, считали всех восьмерых современниками, а акт распределения земель и сфер влияния – единовременным. Из сказанного следует также, что первой русской правительницей-женщиной была не благоверная княгиня Ольга, а легендарная язычница Лыбедь [бред], к которой восходит фольклорный образ прекрасной царевны Лебеди. Конечно, когда писалась христианизированная история Руси (а процесс непрерывного «редактирования», купюр и подчисток продолжался и в XVI веке, например, при составлении Степенной книги и Никоновой летописи), таким деталям уже не придавали серьёзного значения – их просто опускали за ненадобностью.
В противовес имеющейся парадигме или, вернее, подправляя мнение Дёмина, констатируем, что на самом деле ни за какой помощью к варягам новгородцы не обращались, нигде нет сведений, что варяги были лучше организованы. Русь Словенская жила сама по себе, а варяги-русы на южном побережье Балтики сами по себе. Они жили по-соседски и имели смешанные браки. Ещё их сближала борьба против норманнов, которые постоянно наведывались с грабежами на обе территории проживания Русов. Что же было на самом деле?
Согласно Будинскому Изборнику42, правящий князь на Руси Словенской Гостомысл потерял в битвах с норманнами четырёх сыновей, но судьба подарила ему восемь потомков, которые должны были заменить ему его сыновей. причём конкретная династия словенских князей началась, по сведениям БИ, с Вандалария (Вандала) с 365 года и Гостомысл был 18-м по счёту в этой династии. Т.е. около 500 (пятьсот!) лет Русь Словенская (Новгородская) жила по своим собственным законам и процветала настолько, насколько ей позволяли неспокойные соседи – норманны.
И далее, в соответствие со старшинством Гостомысл, не имея наследника-мужчину по прямой линии, и распределил каждому своему родственнику-потомку соответствующее место для княжения: «Аскольду (1) Гостомысл велел быть у полян, потому что он зять и сын названый князю Олдиру (Дир летописный), и Вадимиру (2) велел быть в Новгороде как старшему внуку, племяннику Будигосту (3) велел быть в Плескове, и Родеригу (Рюрик) (4) велел быть в Ладоге, а Избору (5) – в Изборске, так как это отчизна его. И Инару (6) велел быть в Белоозере». Видим, Рюрику, как сыну средней дочери Гостомысла Умилы, досталась по завещанию Ладога. Не более, не менее. Причём Гостомысл отмечал в своей «памяти» – грамоте Годславу – отцу Рюрика, что братья Рюрика (ещё два внука (7, 8) Гостомысла в Полабии) должны остаться со своим отцом у ободритов.
Все это говорит, что никакого призвания варягов не было! Они не нужны были на Руси, как организационная сила, там были свои князья, своя древняя родословная князей, которые прекрасно управляли своими территориями около 500 лет. Гостомыслом приглашался один Рюрик на княжение в Ладогу. По-видимому, Гостомысл посчитал такой шаг необходимым. Но, как оказалось, Рюрик пришёл в Ладогу не один, а с целым табором своих родственников и воинов всего в количестве 3 тысяч человек, в том числе и двумя своими братьями, нарушив тем самым указание Гостомысла. Судя по всему, Рюрик с самого начала нацеливался на захват власти в новгородской земле, что и подтвердили последующие события. Сказанное выше так же опровергает факт восстания в Новгороде, о чем говорит академическая наука. В Новгороде была действующая законная власть во главе с Вадимиром (второй внук Гостомысла по старшинству), и она выступила против захватнических намерений Рюрика. Но легитимная новгородская власть впоследствии была свергнута Рюриком.
По мнению В. Дёмина, в свете всего вышесказанного им интересно сравнить Несторову историю с утерянной Иоакимовской. Естественно, после такого сравнения многие начальные страницы Несторовой летописи никакой критики не выдерживают [повторяем в очередной раз: не несторовская это летопись, а Сильвестра фальсификатора, поэтому и не стыкуется многое]. Иоаким начинает с хорошо знакомой ему легендарной истории Словена и Руса и далее рассказывает о новгородских князьях, правивших в дорюрикову эпоху. Их имена – Вандал, Избор, Столпосвят, Владимир (не путать с Владимиром Святым), Буривой. Правление последнего особенно интересно.
По сообщению летописца, Буривой правил на обширной северной территории, по древней традиции именуемой Биармией (от этого слова происходит современное название Пермь). Столь огромные владения он приобрёл в результате кровопролитной войны с варягами [нет, с норманнами], которую развязал на свою же голову. Ибо в конечном счёте варяги [норманны] взяли реванш, наголову разгромили Буривоя, обратили его в постыдное бегство, а Новгород обложили огромной данью. Отголоски этой войны и её последствий нашли своё отражение уже на страницах «Повести временных лет», где рассказывается о последующем изгнании варягов «за море».
Иоакимовская летопись далее переходит к развёрнутому освещению истории приглашения варяго-русов, где решающую роль сыграл уже упоминавшийся новгородский старейшина (на самом деле князь) Гостомысл [никто, никуда никого не приглашал, см. комм. выше]. Историки XIX века, начиная с Карамзина, приклеившего последнему представителю Новгородской династии ярлык «мнимый», не слишком жаловали его своим учёным вниманием, считая личностью фольклорной, которой нет места в истории, построенной в соответствии с собственными субъективными представлениями. В дальнейшем эта странная позиция была закреплена. Советские историки Гостомысла всерьёз не принимали и почти не упоминали [Странно, почему? Что им мешало или запрещало изучить реалии древности? Видать этот человек мешал фальсифицировать историю…]. Этого имени не найти ни в Большой советской энциклопедии, ни в более объективной (по крайней мере претендующей на бо́льшую объективность) 5-томной энциклопедии «Отечественная история», начавшей выходить на волне «перестройки», а между тем знаменитый и до сих пор во многом непревзойдённый многотомный Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона содержал обстоятельную и не карикатурную статью о Гостомысле [ситуация на уровне бреда от академической науки].
Позиция историков непонятна и неоправданна (пускай она и остаётся на их совести! [не к совести надо призывать, надо создавать новую историческую науку «с нуля»]), каких-либо заслуживающих внимания аргументов у них попросту нет (а потому они вообще не удосуживаются их приводить). Между тем Гостомысл – лицо не фольклорное, а абсолютно историческое: начиная с XV века он упоминается в летописях (например, в Софийских, а также в Рогожском летописце), не говоря уже о последующих [в Будинском Изборнике представлены значение и роль Гостомысла в истории Руси]. Вполне объяснимо, почему крамольное имя было вычеркнуто (вычищено) из более ранних летописных источников – он не вписывался в канонизированную и политизированную историю династии Рюриковичей [здесь проявлена подлость и мошенничество Владимира Мономаха по фальсификации истории Руси]. Переписывать историю или подстраивать её под своё субъективное мнение – дело безнадёжное и неблагодарное. Не лучше ли беспристрастно анализировать имеющиеся факты? [Такой задачи, судя по всему, у ортодоксов не стоит.] В изобилии их как раз и предоставляет Иоакимовская летопись [она, к сожалению, не до конца права…]. История «призвания варягов» изложена здесь не столь упрощенно, как у Нестора, не обладавшего, как бы теперь выразились, всей полнотой информации.
По Иоакиму (и соответственно – по Татищеву), Гостомысл – сын Буривоя (возможно, это даже не имя, а прозвище неистового новгородского князя, данное за его необузданный характер [это настоящее имя]) – быстро смекнул, что худой мир с варягами лучше хорошей войны, и вновь наладил с ними нормальные отношения. Тут впервые в русской историографии появляется формулировка, ставшая, начиная с Ивана Калиты, чуть ли не афоризмом: «И бысть тишина по всей земли…» У Гостомысла было четыре сына и три дочери. Но сыновья поумирали – кто своей смертью, кто пал в бою [все четыре сына погибли во время бури одновременно при возвращении на корабле после битвы с норманнами домой]. Дочери вышли замуж за соседних князей (варягов [именно варягов, соседей-родственников]). Одной из них – Умиле – и суждено было не дать угаснуть древнему роду [это уже басня от правщиков Иоакима] и «дати ему наследие от ложеси его».
Татищев попытался разобраться в запутанных и невнятных сведениях, почерпнутых в Иоакимовской летописи. Он высказал предположение, что легендарный Вадим, предводитель антирюриковского восстания в Новгороде (об этом на основе утраченных источников рассказывается только в одной – Никоновской – летописи), был внуком новгородского старейшины (от одной из безымянных дочерей) [не было восстания в Новгороде, там правил Вадимир (Вадим Храбрый), который стал князем новгородским по завещанию Гостомысла] и, следовательно, двоюродным братом Рюрика. Одним словом, Рюрик вовсе не был лицом невесть откуда взявшимся: в Новгороде его давно и хорошо знали [по завещанию Гостомысла Рюрику передавалась на княжение существующая на тот момент Ладога].
Следующее важнейшее событие русской истории, последовавшее за летописным рассказом о «призвании князей», связано с созданием Рюриком первого очага российской государственности [очаг может он и создал, но только не государственности]. Здесь вновь нас ожидает полная разноголосица [вот] летописцев и нестыковка сообщаемых ими фактов [потому что все сфальсифицировано]. В первую очередь это касается вопроса о первой Рюриковой столице. Сколь вольно и беззастенчиво обращались с летописными текстами последующие редакторы и переписчики, видно хотя бы по одной единственной, но принципиально важной фразе, касающейся распределения русских земель после призвания князей. Во всех современных переводах «Повести временных лет», в хрестоматиях, научных компиляциях и учебниках говорится, что после прибытия на Русь Рюрик стал княжить в Новгороде, Синеус – на Белоозере, а Трувор – в Изборске. В действительности же в наиболее древних и авторитетных летописях про Рюрика сказано нечто совсем другое.
В Ипатьевской (см. её фрагмент, приведённый выше) и Радзивиловской летописях говорится, что, придя в Новгородскую землю, братья-варяги первым делом «срубили» город Ладогу [Ладога уже существовала на тот момент]. В нём-то «сел» и стал править Рюрик [да, по завещанию Гостомысла только в Ладоге]. Следовательно, Ладога является первой столицей [Ладога не была столицей, а уездное второстепенное княжество] новой правящей династии Рюриковичей. Между прочим, в одном из списков «Сказания о Словене и Русе» есть любопытное уточнение: Рюрик «срубил» первую столицу державы Рюриковичей не на том месте, где долгое время находилась всем хорошо известная Старая Ладога – на левом берегу Волхова в 12 километрах от Ладожского озера, а на острове посреди озера: «…А столицу свою Рюрик на острове езера Ладоги заложи…» (это известие вряд ли случайно и требует особого внимания и осмысления) [это подтверждение, что вся начальная академическая версия история Руси сфальсифицирована и шита белыми нитками].
Упоминание Новгорода, как столицы, в конспекте Карамзина, не имеющее никакого отношения к Нестору-летописцу, было немедленно канонизировано, абсолютизировано и объявлено истиной в последней инстанции [вот в этом вопросе Карамзин был прав]. Так вроде бы из благих побуждений происходит элементарный подлог и фальсификация истории. Карамзина по сей день выдают за Нестора, а неискушённому читателю и в голову не приходит, что все это шито белыми нитками. Кстати, самый выдающийся исследователь русского летописания академик Алексей Александрович Шахматов, являвшийся таким же ярым норманистом, как и Карамзин, нигде Ладогу на Новгород не заменял, хотя и не понимал истинной политической и идеологической подоплёки летописных метаморфоз [действительно трудно понять весь тот бред, который наворотила официальная наука; но отмечаем, что Дёмин придерживался неверной позиции: Ладога не столица].
Не может не удивлять также и странная разборчивость в выборе кумиров: выписки Карамзина из утраченной Троицкой летописи признаются более достоверными чем текст самого Нестора-летописца [наглая беззастенчивая работа фальсификаторов], а вот аналогичный конспективный пересказ Татищевым утраченной Иоакимовской летописи, не совпадающей с официальной и официозной точками зрения, считается сомнительным и чуть ли не поддельным.
Имя Гостомысла всплывает в Иоакимовской летописи ещё один раз в связи с женитьбой Игоря, воспитателем которого, как хорошо известно уже из «Повести временных лет», стал Олег (Вещий). У Нестора он назван просто родичем («от рода ему суща»), Иоаким уточняет: Олег – шурин, то есть брат одной из Рюриковых жён [у Рюрика по приезде на Русь была одна жена – Ефанда], скорее всего все той же Ефанды (чужаку доверять сына-наследника было рискованно). Он то и подыскал жену Игорю на Псковщине. Звали будущую русскую святую Прекраса. Но Олег по какой-то неясной до конца причине переименовал её и назвал в соответствии со своим собственным именем Ольгой (в «Повести временных лет» она поименована ещё и Вольгой) [эта девица была родной дочерью Олега, внучкой Гостомысла]. Так вот, у Иоакима подчёркивается, что была Ольга-Прекраса не простого звания, а из Гостомыслова рода (Татищев в примечании уточняет: Ольга – внучка Гостомысла и родилась от его старшей дочери где-то под Изборском [верно]).
Истинный свет на все эти загадки и нестыковки проливает известие Типографской летописи, названной так потому, что один из её наиболее известных списков первоначально принадлежал Синодальной типографии. Здесь прямо сказано, что будущая княгиня Ольга была родной дочерью Олега Вещёго. В таком случае вновь встаёт вопрос о степени родства и правах наследования власти между Гостомыслом и Олегом. Если принять интерпретацию Татищева: Ольга – Гостомыслова внучка от его старшей дочери, то неизбежно выходит: отец этой дочери и есть Вещий Олег, чья фигура сравнима с любым из представителей князей Рюриковичей и подавляющее большинство из них оставляет далеко позади. Отсюда и его законные права на княжение [!]. Так, может быть, именно данный факт старательно изымался из летописей последующими цензорами, дабы у новгородцев не возник соблазн заявить о своих правах на приоритет в верховной власти? [а были для этого прецеденты?]
Если следовать логике Иоакимовской летописи, Олег мог относиться к собственно Гостомыслову и исконно новгородскому роду [нет, Дёмин так и не изучил реальной истории; Олег брат Ефанды, и они выходцы с острова Рюген, ругии]. Этому нисколько не противоречит и сообщение Нестора о том, что Олег, которому Рюрик перед смертью передал на руки и поручил воспитание малолетнего наследника Игоря, был родственником («от рода ему суща») основоположника династии. Родственником можно быть и по линии жены [именно так]. Таким образом, и линия новгородского старейшины Гостомысла – главного инициатора приглашения в правители Рюрика [никто Рюрика в правители не приглашал] – не прерывалась. Что же стало с другими детьми Рюрика (если таковые вообще появились на свет)? Гипотезы возможны самые невероятные. Для фантазии беллетристов здесь вообще безграничное поле деятельности. В целом же перед нами одна из волнующих и нераскрытых загадок далёкого прошлого [никаких загадок при знании реальной истории нет!].
То, что Олег Вещий – первый подлинный строитель Русской державы, прекрасно осознавали во все времена. Он расширил её пределы, утвердил власть новой династии в Киеве, отстоял легитимность Рюрикова престолонаследника, нанёс первый ощутимый удар по всевластию Хазарского каганата [Олег только захватывал власть, идя с огнём и мечом по Руси, он вместе с Рюриком узурпаторы Руси, которая прекрасно существовала до их появления: Новгородская Русь с 365 года, Киевская Русь с 431 года!!!]. До появления на берегах Днепра Олега и его дружины «неразумные хазары» безнаказанно собирали дань с соседних славянских племён [ну и что, а причина дани какова – в Киеве вместо выборной на Вече власти, с 7 века стали править князья, передававшие власть по наследству, что разобщило русские племена]. Несколько веков сосали они русскую кровь, а под конец попытались даже навязать и совершенно чуждую русскому народу идеологию – исповедуемый хазарами иудаизм.
Со временем правления Олега Вещего совпадает ещё одна загадка начального русского летописания. Один из самых больших пробелов «Повести временных лет» падает на годы княжения Олега. С 885 года (покорение радимичей и начало похода против хазар, о чем первоначального текста не сохранилось) и по 907 год (первый поход на Царьград) в летописи зафиксированы всего лишь три события, относящиеся собственно к истории Руси. Остальное – либо «пустые» лета (что они означают, нам уже понятно [фальсификаторы постарались]), либо же два эпизода, заимствованные из византийских хроник и касающиеся правления константинопольских императоров.
Какие же чисто русские реалии остались в летописи? Первая – прохождение в 898 году мимо Киева мигрирующих угров (венгров). Вторая – знакомство Игоря со своей будущей женой – псковитянкой Ольгой. Согласно Нестору, сие случилось в лето 6411-е, то есть в 903 году. Наконец, третье событие, воистину эпохальное, появление письменности на Руси [письменность на Руси была с древнейших времён, и солунские братья здесь ни при чём!43]. Имена солунских братьев – Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности [совершенно неверно], появляются в «Повести временных лет» также под 898 годом. Вокруг – лакуны в 10 лет (сверху) и 3 года (снизу). Будоражащая ум загадка – не только в этих «пустых» годах, но и в том, что летописец сопряг появление письменности на Руси со временем княжения Олега. Случайно ли это? Безусловно, не случайно! По-видимому, князю Олегу мы обязаны не только утверждением авторитета державы, но и величайшим деянием [абсурдные заявления, Олег был узурпатором Руси], значение которого сравнимо разве что со свершившимся спустя 90 лет принятием христианства. Это деяние – утверждение грамотности на Руси, реформа письменности, принятие новой азбуки на основе кириллического алфавита, коим мы пользуемся и по сей день [странно, Дёмин был знаком с Н. В. Слатиным – они вместе выпустили даже книгу44, а здесь пишет такое про письменность и грамотность на Руси, см. раздел III в главе 3].
Другой интересный вопрос, загадка смерти князя. Дело в том, что в Новгородской Первой летописи младшего извода история смерти Вещего Олега излагается иначе. Чтобы не быть голословным, процитируем данный фрагмент полностью: «И прозваша и Олга вещии; и бяху людие погани и невегласи. Иде Олег к Новугороду, и оттуда в Ладогу. Друзии же сказають, яко идущю ему за море, и уклюну [укусила] змиа в ногу, и с того умре: есть могыла его в Ладозе». В этих трех строчках – целый букет невероятных загадок. Оказывается, умер князь Олег в Ладоге по дороге в Новгород. Напомним, Старая Ладога – первая столица Рюриковичей, и именно здесь похоронили Олега, коему Рюриковичи обязаны укреплением собственной власти и распространением её на другие русские земли. Но и на этом загадки Олеговой смерти не исчерпываются, ибо её конкретные даты в Новгородской и Несторовой летописях абсолютно не совпадают. Разница – трудно поверить! – в целых десять лет: по Нестору Олег умер в лето 6420-е (912 год), а согласно Новгородскому летописцу – в лето 6430-е (922 год). Сколько же потрясающих событий наверняка вмещало это «потерянное десятилетие»! Так кому прикажете верить? [фальсификаторам, конечно!]
Рассмотрим другое эпохальное деяние – введение христианства на Руси – великий князь Владимир Святославич (ок. 962—1015) обрёл звание не только святого, но и равноапостольного. Хотя на канонических иконописных изображениях Владимир предстаёт зрелым длиннобородым мужем (с проседью в бороде и волосах), в действительности официальное крещение Руси произошло, когда стольно-киевскому князю было всего навсего двадцать шесть лет. Однако к тому времени за плечами будущего русского святого была бурная и не обделённая яркими событиями жизнь. Восьмилетние скитания под постоянной угрозой смерти, борьба со старшим братом – великим князем Ярополком [Ярополк не был братом Владимира45, он из рода словен и захватил Киев в отсутствие там Святослава], унаследовавшим киевский престол после трагической смерти Святослава [см. комм. выше], и коварное убийство его с помощью предательства и обмана, единоличное воцарение в Киеве, победоносные походы и присоединение новых земель, языческая реформа, ориентация на стратегическое партнёрство с Византией и окончательный «выбор веры» в пользу православия (конкурирующими религиями, согласно «Повести временных лет», выступали ислам, иудаизм и католицизм). Летописец не жалеет красок в описании личности князя, впоследствии прозванного Красным Солнышком (ни в одной летописи, кстати, такого эпитета нет).
Когда Владимир вероломно [во как, а если разобраться, то Владимир пресёк незаконную деятельность узурпатора власти на Руси] умертвил старшего брата Ярополка, первое же, что он сделал, согласно повествованию летописца [согласно фальсификаторам], это овладел вдовой великого киевского князя, красавицей гречанкой (имени которой история для нас не сохранила). «И была она беременна, и родился от неё Святополк», – сообщает далее «Повесть временных лет», подчёркивая изначальность каиновой печати, наложенной на будущего убийцу святых мучеников Бориса и Глеба. Из сообщения летописца неясно также, была ли гречанка уже беременна [именно так, была], когда стала наложницей Владимира (и тогда Святополк Окаянный – не родной его сын [именно так]), или же зачала во грехе будущеё «исчадие ада» русской истории. Помимо множества жён имел Владимир также бесчисленный гарем, его можно сравнить разве что с гаремом царя Соломона [это ложь про гарем от фальсификаторов]. Естественно, летописец не преминул сие сделать: «Был же Владимир побеждён похотью. Были у него жены. Рогнеда, которую поселил на Лыбеди, где ныне находится сельцо Предславино. От неё имел он четырёх сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и двух дочерей, от гречанки имел он Святополка, от чехини – Вышеслава, а ещё от одной жены – Святослава и Мстислава, а от болгарыни – Бориса и Глеба.
Что смерть – безглазая старуха с косой – притаилась за плечами крестителя Руси, тогда ещё не ведал никто. Про те события, ставшие переломным этапом русской истории, Нестор-летописец сообщает как всегда – скупо и бесстрастно: «В год 6522 (1014). Когда Ярослав был в Новгороде, давал он по условию в Киев две тысячи гривен от года до года, а тысячу раздавал в Новгороде дружине. И так давали все новгородские посадники, а Ярослав перестал платить в Киев отцу своему. И сказал Владимир: „Расчищайте пути и мостите мосты“. Ибо хотел идти войною на Ярослава, на сына своего [нет, он не сын Владимира], но разболелся. В год 6523 (1015). Когда Владимир собрался идти против Ярослава, Ярослав, послав за море, привёл варягов, так как боялся отца своего, но Бог не дал дьяволу радости. Когда Владимир разболелся, был у него в это время Борис, а тем временем печенеги пошли походом на Русь, и Владимир послал против них Бориса, а сам сильно разболелся, в этой болезни и умер [Владимира убили, и этот факт установлен при эксгумации его могилы] июля в пятнадцатый день. Умер же князь великий Владимир на Берестове, и утаили смерть его [именно, факт убийства Владимира был сокрыт], так как Святополк был в Киеве [Святополк участвовал в заговоре против Владимира, который ему не был отцом]. Ночью же разобрали помост между двумя клетями, завернули его в ковёр и спустили верёвками на землю; затем, возложив его на сани, отвезли и поставили в церкви святой Богородицы, которую сам когда-то построил. Узнав об этом, сошлись люди без числа и плакали по нем – бояре как по заступнике страны, бедные же как о своём заступнике и кормителе. И положили его в гроб мраморный, похоронили тело его, блаженного князя, с плачем великим».
Здесь за каждой фразой и даже словом скрывается бездна страстей, многие недоговорённые (или намеренно усечённые) фразы породили самые невероятные домыслы. Зачем надо было скрывать смерть всесильного князя, прятать его тело и тайно перемещать глубокой ночью? [потому что был заговор, и его надо было сокрыть…] Почему опальный Святополк вдруг оказался в Киеве? [Святополк был главным заговорщиком и реализовал свой замысел…] Был ли он заинтересован в смерти отца? [Святополк не сын Владимира…] ещё бы! Но разве не был точно так же заинтересован в устранении Владимира другой сын – Ярослав [у Ярослава был свой план, и он не сын Владимира], правивший в Новгороде и на которого отец шёл войной? А затаившиеся языческие жрецы и их не смирившаяся с новой религией паства? Словом, уже не раз высказывалось предположение, что смерть крестителя Руси была насильственной [именно так и было]. Конечно, проще всего было незаметно подсыпать яду. Однако, когда в 30-е годы XVII века по указанию митрополита Петра Могилы в Киеве производились раскопки Десятинной церкви, разрушенной ещё во времёна Батыева нашествия, был найден мраморный саркофаг-гробница с именем Владимира Святославича, а в нем – кости со следами глубоких разрубов и отсеченной головой, при этом некоторые части скелета вообще отсутствовали… [вот и ответ на поставленные выше вопросы…]
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе