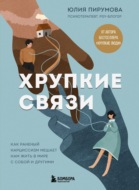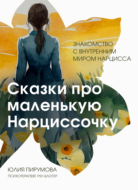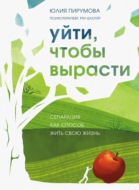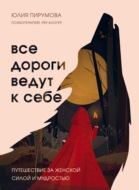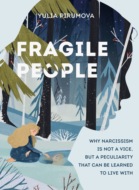Читать книгу: «Хрупкие связи. Как раненый нарциссизм мешает нам жить в мире с собой и другими», страница 4
Как родители становятся Опорами нашего Я
Хоть мы и появляемся на свет с телом, которое уже знает, как дышать, кричать и требовать, наша психика – едва начавший работать аппарат, только готовый к развитию, но еще состоящий из совершенно разрозненных фрагментов. Мы не знаем, как справляться с собой, регулировать свои эмоции, успокаивать или понимать себя. Все, что мы пока умеем, это цепляться и нуждаться.
В такой хрупкости наши родители становятся чем-то бóльшим, чем просто взрослыми, которые кормят, убаюкивают или меняют пеленки. Они становятся Опорами нашей Самости – теми, кто помогает нам не только выжить, но и начать формировать наше Я. Они – мост, ведущий нас из хаоса в мир, где мы можем понимать, кто мы такие, чего хотим и как справляться с тем, что чувствуем. При этом родители – наши проводники не только в реальный внешний мир. Именно их реакциями и отражениями наш внутренний мир оказывается нашим. Он собирается из хаоса и преобразуется в нашу собственную реальность.
Для иллюстрации расскажу, как однажды моему почти 12-летнему сыну потребовалась небольшая, но тем не менее операция. Общий наркоз, реабилитация, болезненные ощущения. Он держал себя в руках, был храбрым и в моменте все выдержал прекрасно. Но на следующий день его все же «догнало». Произошел эмоциональный выплеск. Внутренняя «истерика» как проявление сдержанного напряжения, которое нельзя было показывать, сделалась внешней. Он обратил все чувства ко мне, нуждаясь в том, чтобы разделить их с кем-то понимающим и принимающим. Они перестали быть только его страхом и болью, а были встречены, отражены как нормальные и естественные чувства, переработаны моей психикой и возвращены в виде утешения и успокоения.
Мы изначально берем родительскую психику «в долг», чтобы она выполняла для нас разные задачи, пока наша не справляется. Родители первое время выполняют за нас важные функции: помогают регулировать эмоции, принимать решения, ощущать безопасность.
Можно сказать, что наша психика структурируется вокруг Самости об родителей, помещая их внутрь. Постепенно эти функции должны стать нашими собственными.
В идеале роль родителей ослабевает, оставляя внутри нас устойчивые структуры, на которые мы опираемся: способность заботиться о себе, справляться с трудностями и находить внутренний баланс.
Этот процесс можно представить как «встраивание» образов родителей (их поведения, ценностей, реакций) внутрь нашей психики. Они становятся фигурами, вокруг которых она формируется. Если родители исполняли свою роль достаточно хорошо, нужные структуры получаются крепкими и помогают нам жить. Если нет – могут остаться «дырки», которые мы пытаемся заткнуть, используя отношения или защитные механизмы.
Но вот что важно понять уже сейчас. Все эти идеальные модели развития психики, о которых я написала и еще буду говорить ниже, существуют только для того, чтобы можно было сверяться с «относительной нормой». А у нас, обычных людей, всегда есть свои «букеты» отклонений и нарушений, которые составляют неотъемлемую часть нашей истории и личной уникальности. В нашей психике всегда будут «дырки», а значит, и необходимость в защитах и компенсациях. Это норма, а не персонифицированное наказание за нашу недостойность.
Таким образом, наша с вами задача – не посыпать себе голову пеплом от невозможности навсегда избавиться от последствий воспитания, а лишь сделать так, чтобы они не сильно влияли на качество нашей жизни. Как говориться, психология не гарантирует вам счастья, поскольку призвана освободить от излишков страдания.
Стать абсолютно излеченным и независимым от своего прошлого невозможно.
Но вполне реалистично начать адекватно его воспринимать и уметь использовать свой потенциал для достижения взрослых целей типа любви, творчества, денег и секса.
Любовь как основа целостности
В самом начале жизни любовь кажется и видится абсолютной: ты это я, я это ты, и вообще весь мир существует только для нас. Слияние с родителем не просто приятно (хотя и приятно тоже), оно жизненно необходимо. Без этого мы просто не справимся с хаосом первых переживаний.
Но давайте не будем ее идеализировать. Детская любовь – вовсе не чувственные переживания, а любовь-нужда, любовь-зависимость, любовь-требование. В сущности, такая любовь, которая кричит: «Ты должен быть здесь, иначе меня просто нет!» И это нормально. В начале пути мы все такие: маленькие, требовательные, невероятно уязвимые и при этом абсолютно эгоцентричные.
Было бы прекрасно, если бы все люди состояли только из любви. Просто представьте: наши родители – сплошная любовь, нежность и принятие. И мы сами, родившись, представляли бы собой исключительно чистую любовь. Но, к сожалению, это был бы эволюционный тупик. Слияние, влечение, притяжение, соединение, связь – все это действительно обеспечивается силой любви. Но одновременно с ней рождается ее сестра – агрессия. И без нее не было бы шансов на наше отделение, выход из слияния, автономность, индивидуальность, взросление наконец.
То есть, чтобы стать человеком, нам нужно много любви и опоры на связь, а чтобы стать личностью, необходимо много агрессии.
Помните строки Ахматовой?
Когда б вы знали, из какого сора,
Растут стихи, не ведая стыда…
Так вот и наше Я растет не только из прекрасных чувств и эмоций. Оно образуется из следов любви и агрессии, рожденных во всех важных отношениях в нашей жизни. И сегодня оно продолжает развиваться на стыке того же самого, поверьте. Только иногда вместо обмена с миром мы направляем агрессию исключительно на себя. В этом и есть корень всех нарушений, которые портят нам жизнь. Но к этому мы вернемся чуть позже.
Наша любовь-нужда, любовь-зависимость и пр. имеет множество «лиц». Мы хотим быть накормленными, чистыми, освобожденными от боли и напряжения. Мы хотим внимания, отражения, утешения, принадлежности, тепла, близости, принятия наших чувств и их переработки. Мы нуждаемся в контроле и опорах, примерах и идеалах.
Все это – потребности нашей детской психики, которые могут быть удовлетворены, а могут и не быть. Когда мы получаем то, что хотим и нам необходимо, мы чувствуем обмен любовью: наши запросы приняты взрослым, он нашел решение для их удовлетворения, вернул нам. Когда принятия не происходит, вывод один: наша любовь не нужна. Из этого следуют неизбежные «Я не нужен», «Я не ценен», «Я не важен».
В таких случаях агрессия идет вслед за любовью, чтобы стирать весь ее предыдущий вклад. В младенческом мире любая злость перечеркивает ценность полученного ранее. А любовь обесценивается каждым новым лишением, которое пришлось пережить. Она легко испаряется от первых лучей разочарования, первых теней фрустрации.
Любовь побеждает агрессию не силой, а стойкостью. Она принимает гнев, боль и разочарование, не отступая. Это как раз то, чему нас учат первые годы жизни. Когда наш гнев сталкивается с мягкостью и принятием родителя, когда наша фрустрация не разбивает связь, а становится частью диалога, мы начинаем понимать: любовь может выдерживать. Она не растворяется от злости, не исчезает, если мы неидеальны. Наоборот: она становится больше, глубже, устойчивее.
Может быть, это смешно, но я сейчас приведу в пример… свою собаку. Когда у нее (прошу прощения за подробности) течка, становится очень заметно, что она хочет любви и близости. По крайней мере, я так отвечаю сыну, когда он спрашивает, почему она скулит. Я уверена: то, что в человеческой психике делают чувства, в собаке происходит на уровне инстинктов.
И вот, каждый раз в такие периоды, когда мы уходим из дома, она сразу же тащит к себе на диван мой тапок. Типа «Вы ушли, а мне, чтобы не скучать так сильно, нужен кусочек вас. Вы остаетесь со мной, даже если вы не рядом. Я так утешаюсь и поддерживаю связь».
Сын говорит мне: «Мама, мне так ее жалко». А я отвечаю: «Ну что ты, сынок, она же, наоборот, нашла себе способ меньше скучать и лучше пережидать наше расставание».
Но самое интересное начинается потом, когда мы возвращаемся домой. Я отбираю у нее тапки и надеваю их на ноги. Как вы думаете, что делает собака? Она начинает кусать мои ноги в этих тапках, как будто играя, но, очевидно, «ругая» меня за то, что мы ее покидали.
Это невероятным образом точно отражает внутреннюю динамику ребенка, который, даже находя утешение в чем-то, все равно испытывает злость на маму, которая бросает его ради чего-то другого. В этот момент он теряет многое: и безопасность, и уверенность, что его по-прежнему любят, и ощущение, что он настолько ценный, чтобы выбирать его, а не что-то стороннее. Разве он может остаться бесчувственным? Эмоции есть, просто их иногда оказывается не с кем разделить или их проявление в контакте с родителем оказывается угрожающим. Вот я, например, глажу собаку, показывая, что не злюсь и понимаю ее желание «наказывать» меня. А ведь мало кого из нас, когда мы были детьми, утешали, мало с кем разделяли страхи и переживания в такие моменты. И еще меньше родителей способны выдержать нашу злость на это.
В здоровом варианте именно через родительское принятие наша инфантильная агрессия начинает трансформироваться. Она перестает быть врагом, атакующим любовь. И только тогда в нас со временем возникает целостный образ родителя: тот, кто любит, но ставит границы, уходит, но всегда возвращается и продолжает любить. Он может злиться на нас, но может быть бережным и уважающим.
Например, сын часто дуется на меня и говорит, что я злая или плохая. Однажды я для эксперимента спросила его:
– Скажи, но ведь нормально, что это я злая, а ты нет?
– Ага.
– Ну и супер. С тобой все нормально, да?
– Ага.
– Но ведь справедливости ради надо сказать, что я не всегда плохая и часто делаю тебе хорошо.
– Ага.
Так и живем. У ребенка нет изначальной опции «со мной все в порядке, это у мамы крыша едет». Все, что происходит в отношениях, его нарциссизм приписывает себе: «Это я что-то сделал не так» или «Я какой-то не такой». Не «Мама не умеет любить, видеть, замечать меня», а «Я не достоин ее внимания и интереса».
В такие моменты я помогаю ребенку не только сохранять нормальный образ себя («со мной все в порядке»), но и видеть меня целостной: я не только плохая, но и хорошая. Если мы не делаем этого для своих детей, мир разделяется на черное и белое. Мы рискуем все время быть либо на белой стороне – идеальными, полностью хорошими, – либо на черной, когда совершили ошибку или не оправдали ожиданий.
И да, любовь в этой истории – не только нежность. Это выдержка, готовность родителя вернуться, даже если он сам хотел бы ненадолго (или надолго) спрятаться. Это сила быть рядом и так формировать основу для целостного и устойчивого Я. Потому что любовь – это не когда все идеально, а когда есть способность оставаться в отношениях, несмотря на их сложность. И пусть детская любовь иногда звучит как крик о помощи, именно из нее рождается наша способность любить и принимать – и себя, и других – такими, какие мы есть.
Лишь в объединении этих сил – любви и агрессии – появляется целостная психика.
Она вмещает в себя не только принадлежность и похожесть на других, но и отдельность нашего Я, которое утверждается за счет отстаивания себя в отношениях. Если агрессия останется под запретом, то наше Я все время будет спотыкаться о невозможность противостоять другим, говорить «нет», защищать себя.
Случаи из практики
Это очень распространенные истории, которые мы часто обсуждаем с клиентами. Например, они рассказывают про сложности отношений, предполагая, что боятся близости, не могут доверять, не подходят вплотную, держат дистанцию. Им кажется, что это от недостатка любви и невозможности выражать свободно свое влечение к людям.
Конечно, и такое возможно. Но знаете, что выясняется через некоторое время? Что на самом деле прерывает их потребность в близости? Не столько страх проявить любовь, сколько невозможность после этого проявлять агрессию по отношению к тому, кого сделал для себя хорошим.
Мы пребываем в этом детском расщеплении, согласно которому нельзя злиться на того, кого любишь, и нельзя любить того, на кого злишься. За невозможностью разрешить конфликт скрывается также страх потери собственного Я во всей этой буре чувств. «Страшно не то, что я приближусь, а то, что тогда я не смогу тебе сопротивляться». Наша маленькая злость, появляющаяся в моменты недовольства и фрустраций, была такой угрозой для связи как раз потому, что за ней должен был обязательно следовать разрыв. Нельзя оставаться с тем, на кого злишься. Он плохой – значит, надо прерывать отношения. А если это все равно будет происходить, то зачем вообще начинать?
Именно по такой логике мы живем, охраняя свое Я от внутреннего конфликта, который не знаем, как разрешить. Ведь если нельзя злиться и любить одновременно, то лучше вообще не допускать близости. И это единственный выход, который мы пока можем найти, чтобы уберечь себя от напряжения невыносимых чувств.
Задачи и функции Опор Самости
Каждый предыдущий этап требует от наших родителей разных качеств, чтобы они оставались для нас любящими, надежными и эмпатичными, то есть слышащими наши настоящие потребности, были Опорами Самости.
• Время сна. Функция Опоры Самости – поддерживать галлюцинацию малыша о том, что он пребывает внутри, своевременно и достаточно предоставляя себя «в его распоряжение». Так чувство дискомфорта или напряжения не будет переполнять маленькую психику.
• Время симбиоза. Задача Опоры Самости – подчиняться воле малыша, поддерживая его фантазию всемогущества и продолжая оставаться устойчивой для его капризов и потребностей. Оказываться тем лицом, которое с радостью реагирует на улыбку. Разрыв симбиоза вследствие сильных фрустраций или нарастания напряжения без возможности мамы утешить ребенка может плохо влиять на развитие.
• Время вылупления. Задача Опоры Самости – оставаться стабильной в моменты пребывания рядом и в разлуке. Это значит видеть тревогу ребенка, контейнировать, не разрушаться собственной тревогой за отдельность, утешать и поощрять ребенка к росту и становлению собой. Постоянное отражение и контейнирование эмоций.
• Время для границы «Я» и «Ты». Задача Опоры Самости – продолжать оставаться рядом и резко не исчезать, чтобы ребенок не терял могущественный контроль над ней. Поощрять исследование окружающего мира. Находить переходные объекты, которые готовят психику к разделению. Так ребенок сможет выдерживать ситуации, в которых мама пропадает из поля зрения.
• Роман с миром. Задача Опоры Самости – быть проводником в большой мир, в котором у ребенка есть способности и возможности. Отражать, поддерживать их. Радоваться, активно присутствовать в то время, когда ребенок делится своими первыми победами. Здоровая поддержка эксгибиционистского проявления Я: «Вот я какой! Я могу!»
• Осознание своей отдельности. Задача Опоры Самости – выдерживать нарастающие и постоянно изменяющиеся эмоции ребенка, связанные с его собственными успехами и неудачами. Контейнировать и возвращать «обработанными» в виде своих реакций и утешения страхи, злость, иногда даже ненависть за то, что мама не была рядом столько, сколько надо ребенку.
Задачи и функции Опор Самости в каждом периоде разнообразны. Иногда требуется поддерживать фантазию о грандиозности ребенка, а в другое время сталкивать его с тем, что мама – не его собственность. Когда-то надо поддерживать слияние, а затем формировать совсем противоположные условия, в которых каждый переживает отдельность. Когда-то есть только чувства и желания ребенка, а со временем появляется внутренний мир другого.
Все это необходимо, чтобы ребенок постепенно становился самостоятельнее и автономнее по мере накопления психических ресурсов, а не вследствие резкого обрывания связи, в которой он оказывается покинутым, брошенным, чувствует одиночество и ненужность.
Случай из жизни
Однажды утром, когда мы с сыном собирались в школу, я в раздражении торопила его и чем-то обидела. Потом он ехал в машине, злился и откидывал мою руку, когда я хотела его погладить по голове. Я уже извинилась, но он сидел отвернувшись. Так мы и доехали до школы. Он продолжал дуться, я – молчать и не трогать его. Я выдерживала его нежелание общаться и с уважением относилась к его праву не возвращаться в контакт со мной.
В другой раз, после занятий спортом, он был раздражен и грустил оттого, что там у него что-то не получалось. Я попыталась спросить, чтобы поддержать. Но оказалось, ему надо было, чтобы я замолчала и оставила его в покое. Что я и сделала.
Эти примеры не про то, что я супермать. Первый иллюстрирует важный аспект роста, в котором у человека формируется право самому распоряжаться контактом. Он выбирает, когда подойти, если обиделся или разозлился, и подойти потому, что захотел, а не потому, что надо или должен. А второй пример говорит о том, что родители должны сами вовремя отходить и не давать то, что считают нужным, даже если это в их понимании благо. Иначе они успокаивают исключительно себя, делая ребенка своим расширением.
Я показываю, что мы часто под родительскими задачами понимаем лишь присутствие и поддержку. Но есть и другая категория их функций, которые будут служить развитию Я ребенка. Не давать, когда это избыточно. Не поддерживать, когда нет запроса. Не преследовать добром, когда нет желания им пользоваться.
Зеркала, герои и круг принадлежности
Конечно, пока мы маленькие, родители делают для нас и ЗА нас практически все. Самостоятельно мы только дышим, глотаем, цепляемся и неконтролируемо пачкаем памперс. Но наша Маленькая Самость нуждается в родителях еще и для того, чтобы они сделали для нас особую психическую работу. Они должны дать нам ответ на три главные нарциссические потребности. И от того, как эти потребности будут удовлетворены, зависит, появимся ли мы у себя живыми и реальными, или наше Я так и будет оторвано и отчуждено от нас.
Итак, чтобы Самость могла развиваться и, зародившись, двигаться к своему истинному воплощению, а мы все больше и больше ощущали себя самими собой, нам нужно использовать родителей в качестве трех ипостасей: зеркала, героя/волшебника и единства, к которому можно принадлежать.
Когда мы начинали ползать, делать первые шаги и говорить первые слова, а наши возможности владеть своим телом и раскрывать свои способности увеличивались, каждый из нас хотел видеть в других восторг и радость. Такая реакция в ответ на наши первые каракули или выученный стишок укрепляла в нас веру в самих себя. У нас не было сомнений в том, что мы что-то сделали, если у нас получалось увидеть позитивную реакцию близких. Это не просто желание внимания ради него самого, а первая и важнейшая потребность Самости. Ребенку необходимо «зеркало» – человек, который отражает его достижения и эмоции, говоря: «Да, я вижу тебя. Ты замечательный!».
Точно так же каждый из нас искал в родителе пример для подражания. Вспомните, например, какую-нибудь свою недавнюю учебу. Вы ведь нуждались в ком-то, кто был умнее, экспертнее, профессиональнее, чем вы. Только так, становясь похожими на кого-то, мы можем расти и развиваться. Вот и ребенок всегда ищет могущественную фигуру, которая внушает ему чувство безопасности, силы и уверенности. Отец может быть героем, справедливым и устойчивым, а мать – волшебницей, доброй и мудрой. Для ребенка они, маяки, которые своим светом сообщают: «Я сильный, я могу справляться с жизнью в этом мире, и ты тоже сможешь», «Я умная и справедливая. И ты такой же». Герой помогает ребенку почувствовать, что тот не одинок, что рядом есть кто-то надежный, на кого можно равняться.
Есть еще одна важная задача, которую выполняют родители, – дарить ребенку чувство принадлежности. Это ощущение, что ты не одинок, твои эмоции и переживания разделяются кем-то близким. Если зеркало говорит ребенку: «Ты замечательный», а герой внушает: «Ты справишься», то принадлежность говорит: «Мы вместе пройдем все трудности». Это и есть то самое единство, ощущение связи, та невидимая нить, которая соединяет.
Принадлежность дает ощущение схожести и единства. Родитель говорит ребенку своим присутствием: «Я понимаю тебя. То, что ты чувствуешь, нормально. Мы справимся вместе». Так ребенок получает основу для того, чтобы в будущем строить глубокие связи, доверять и быть частью чего-то большего: семьи, команды, мира. Когда ребенок растет с таким чувством принадлежности, он знает, что его Я не изолировано. Понимает, что мир – не чужое, холодное пространство, а территория, где есть место для него, где он нужен и где его примут таким, какой он есть. Без чувства принадлежности ребенок может вырасти с ощущением оторванности, будто его внутренний мир никому не важен, будто он всегда один. Именно принадлежность учит ребенка быть связанным с другими, не теряя себя.
Эти потребности – быть замеченным, принятым, получить подтверждение своей значимости – не просто прихоть или слабость, не каприз и не признак эгоизма. Это естественное и единственно возможное желание быть самим собой в мире, где изначально у тебя себя еще нет, а потом ты просто вынужден подстраиваться и стирать собственную индивидуальность ради важных связей.
Наш нарциссизм должен подсвечивать дорогу Самости, напоминая, зачем она пришла и кем мы можем стать, если ее потенциал раскроется.
Чтобы наше Я не теряло своей тропинки, продвигаясь по которой оно все больше и больше узнает и осваивает само себя, нарциссические потребности сохраняются с нами на всю жизнь. Они не уходят с возрастом, а трансформируются. Взрослая Самость продолжает хотеть быть замеченной, но уже не ищет бесконечного подтверждения. Она хочет связи с идеализированными фигурами, чтобы дальше расти и развиваться. Стремится к принадлежности к союзам людей, с которыми у нас есть схожесть и взаимопонимание.
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе