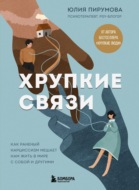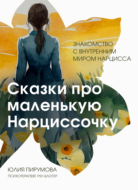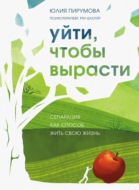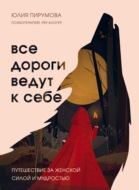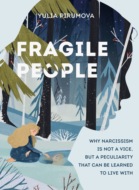Читать книгу: «Хрупкие связи. Как раненый нарциссизм мешает нам жить в мире с собой и другими», страница 5
Случай из практики
Однажды с одной моей клиенткой мы обсуждали, что происходило в нашей работе за последние годы.
– Сначала я вас вообще не видела. Да и себя, если честно, тоже. Я все время терялась, думая о том, что со мной происходит. А если вдруг понимала, то не верила себе. Это как потеряться в темноте без ориентиров. Очень тяжелое ощущение.
– Понимаю. А как вам было в работе со мной, когда вы находились в таком состоянии?
– Я все время хотела вам понравиться. Желание просто захватывало меня, и я даже не замечала, что происходит вокруг.
– Это естественно. Так бывает, пока внутри не утвердилось собственное Я. Помните, чего вы тогда хотели от меня?
– Просто чтобы вы не бросили меня, чтобы остались рядом.
– Для чего это было важно?
– Мне нужна была внешняя оценка. Своей у меня совсем не было.
– Да, так бывает. В самом начале нашего развития нам нужны опоры и зеркала. Мы пока не думаем о том, кто перед нами или какие у нас отношения. Мы просто цепляемся за кого-то, чтобы внутри хоть что-то появилось, а наше Я начало складываться.
Клиентка быстро добавила:
– Но тогда я вам совсем не доверяла.
Я улыбнулась:
– Это нормально. Как можно доверять, если имеешь только опыт недоверия? Он работает как фильтр, через который мы воспринимаем всех новых значимых людей. Но я все равно была рядом. И даже если вы мне не доверяли, вы брали мою устойчивость и надежность, складывая их в себя.
Возникновение внутреннего мира
Возможно, вы уже поняли, что наши нарциссические потребности – быть видимым, замеченным, значимым – не связаны с грандиозностью или стремлением ощущать важность ради важности как таковой. Они гораздо глубже, чем желание доказать миру свою исключительность или превосходство, и ближе к сути нашего Я. Именно через удовлетворение этих потребностей мы становимся реальными для самих себя.
Чем лучше работают функции Опор Самости, тем больше у нас потенциальной связи с самими собой: со своими желаниями, чувствами, потребностями и пр.
Представьте крошечного младенца, который только-только появился на свет. Его глаза еще привыкают к свету, тело учится дышать и чувствовать. И вот он поднимает ручку, случайно попадая ею в свое поле зрения. Маленькие пальчики шевелятся, но ребенок смотрит на них и видит что-то совершенно чужое и незнакомое. «Что это? Откуда оно взялось? Почему оно двигается?» – спрашивает его еще не оформившаяся психика, хотя сам он этих вопросов пока не осознает.
Младенец может смотреть на свою руку как на нечто внешнее, никак не связанное с ним. Для него она еще не «моя». Это просто часть мира, которая случайно попалась ему на глаза. Иногда она движется, иногда остается неподвижной, но младенец еще не знает, что именно он управляет ею. Его природное инстинктивное Я дает о себе знать первыми импульсами: двигать, хватать, тянуться. Но связи между этими импульсами и миром пока не существует.
То же самое происходит с чувствами. Голод – не внутреннее ощущение, это буря, которая накрывает как настоящая стихия. Плач – не собственный звук, а просто крик, который вдруг оказывается рядом. Радость, страх, боль подобны мимолетным вспышкам света, которые ребенок переживает, не понимая, что они исходят из него самого. Его психика напоминает калейдоскоп: цвета и формы хаотично меняются, но нет того, кто может их удержать и собрать в единую картину.
И вот в этот хаос приходит мама. Ее улыбка, мягкие руки, голос, который говорит: «Ты мой маленький. Это твоя ручка, смотри, как ты ею двигаешь». Она помогает ему увидеть, что мельтешащая рука – его собственная. Говорит: «Ты плачешь, потому что голоден. Сейчас я тебя покормлю». Она придает хаотичным вспышкам неудовольствия в его внутреннем мире первые смыслы.
Когда мама говорит: «Я знаю, ты сейчас злишься, но это нормально», она делает очень важную вещь: не только замечает злость ребенка, но и показывает, что злость – временное состояние, которое можно понять и пережить. Мама как бы говорит: «Твоя злость не делает тебя плохим. Это просто чувство, которое мы вместе можем выдержать». Ребенок видит, что его эмоции не пугают маму, и тем самым чувствует безопасность: «Мои естественные чувства можно назвать, понять, они не разрушат меня».
Мама помогает ребенку сделать первый шаг в осознании: его злость – его собственное чувство, а не хаос, обрушившийся извне. Мама как будто берет это чувство, перерабатывает его через свою взрослую психику и возвращает ребенку в виде ясного послания: «Это твои эмоции, все нормально». Постепенно такие моменты учат ребенка тому, что его внутренний мир можно понять, а эмоции связаны с ситуациями и имеют начало и конец.
Мама становится тем голосом, который говорит: «Это твое. Это ты». Через нее ребенок начинает видеть, что его чувства – не хаос, а собственный мир. Его руки, тело, голос – не что-то чужое, а часть его самого. Постепенно психика ребенка начинает формировать первые связи с реальностью. Эти связи еще непрочные, как тонкие нити, но они уже начинают собирать его внутренний мир в нечто целостное. И здесь есть что-то трогательно магическое.
Но процесс формирования связей с реальностью не сводится просто к осознанию. Это еще и появление Я. Ребенок хочет быть значимым для кого-то, чтобы значить что-то для себя. Хочет, чтобы его видели другие, чтобы самому увидеть себя. Без ощущения значимости его внутренний мир останется для него недоступным и будет ощущаться пустым. Мы потеряем самих себя внутри себя…
Глубокие связи – пространство для Самости
Но родители, выступая в виде функций отражения или идеального примера для подражания, не могут только этим расчистить путь для созидания наших собственных здоровых психических структур. Нам нужны глубокие эмоциональные связи с окружением.
Дело не в желании быть принятым безоговорочно, какими бы мы ни были. Это про то, чтобы рядом был кто-то, кто выдержит нашу неопределенность и сможет находиться с нами, когда мы еще только ищем себя, сталкиваясь с разными своими сторонами: страхом, гневом, радостью, нежностью. Ребенок не нуждается в том, чтобы мир всегда говорил ему «да». Ребенку важно чувствовать, что даже когда он встречает «нет», это не делает его существование невозможным.
Мы учились быть собой через то, как родители помогали нам выдерживать наши состояния. Когда мы плакали, им необязательно было утешать нас немедленно. Важно было, чтобы они оставались с нами, выдерживали наши крик, печаль, усталость, не пытаясь их исправить.
Это не значит, что нужно позволять ребенку «все», но необходимо дать ему возможность встретиться с реальным собой без чувства отвержения.
Тут я впервые сделаю ремарку про отвержение. Сейчас, в пору повального увлечения психологией, это слово часто оказывается так же демонизировано, как и «нарциссизм». Дошло до того, что под отвержением мы понимаем любую неподходящую реакцию на наши проявления. Как будто нам внушается, что задача взросления не в том, чтобы учиться обходиться с чувствами и поведением людей в контакте с нами, а в том, чтобы вообще не вызывать у них чувств или желания вести себя тем или иным образом. Потому что иначе их живая и непосредственная реакция – это уже отвержение нашей сути. Например, одна моя клиентка рассказывала, что ее муж совершенно не принимает ее право на свободу и дистанцию. Когда я уточнила, что она имеет в виду, оказалось, что он… расстраивается, когда она говорит, что хочет ехать в отпуск одна.
– Возможно, было бы очень странно, если бы он обрадовался или с облегчением вздохнул в ответ на такие слова? Даже если бы тогда для вас это было полным и безоговорочным принятием вашей свободы решать, что вам делать со своим отдыхом.
В общем, хочу сказать следующее: изначально ребенок не воспринимает именно как отвержение обычные попытки мамы скорректировать его поведение или ее эмоциональное отношение к тому, что он сделал. Если в эти моменты не происходит унижения, высмеивания или покидания, то обмен чувствами оказывается совершенно естественным и нормальным. «Я вижу, что ты злишься, но меня расстраивает, что ты хочешь при этом драться». «Я понимаю, что ты хочешь конфету, но не могу тебе ее дать, потому что у тебя аллергия. Иди, я тебя утешу, пойдем найдем что-то другое».
Настоящая эмоциональная связь – не обещание, что все, что мы сделаем, будет приниматься. Это уверенность, что наши ошибки не уничтожат отношения.
Мы можем поступить неправильно, можем быть не в духе, можем разозлиться – и это не значит, что нас перестанут любить. Не за конкретную ситуацию, а вообще. Это также не означает, что нас никогда не остановят или не скажут: «Так нельзя». Родитель, который способен устанавливать границы, не отвергая ребенка, показывает ему главное: твои действия не определяют тебя, их можно исправить, а твое существование не подвергается сомнению, и наши отношения не подвергаются сомнению.
Такие связи сложны, потому что в них участвуют два человека: ребенок, который только ищет себя, и родитель, который тоже не всегда знает, как быть. Родитель точно так же может злиться, уставать, ошибаться. Глубокая связь возникает не из его безупречности, а из готовности оставаться в отношениях, даже когда трудно. Быть с ребенком в его растерянности, вместо того чтобы требовать немедленной определенности. Оставаться рядом, даже когда хочется сбежать от его истерики или своего чувства беспомощности.
Дети не ищут безграничного принятия. Они ищут того, кто будет с ними, пока они разбираются в себе. Кто не испугается их слабостей и в то же время не позволит этим слабостям полностью захватить их мир. Кто сможет сказать: «Ты ошибся, но это не конец света. Ты расстроен, но мы справимся». Глубокие связи не ведут к вседозволенности, а дают пространство для ошибок, поисков, неудач, за которые не придется платить страшную цену.
Будучи маленькими, мы не знаем, кто мы, но именно через отношения начинаем чувствовать: «Я могу что-то исследовать в себе. И это что-то не уничтожит связь с другим». Именно здесь и формируется основа для Самости не как застывшего образа, который должен всегда приниматься, а как живого процесса, где мы растем и меняемся, пробуя себя в присутствии того, кто способен это выдержать.
Случай из практики
Однажды на сессии я наблюдала, как одна клиентка делала с собой то самое, что любим делать практически все мы. Это каждый раз выглядит так, будто, что-нибудь осознав, мы сразу же должны мчаться и что-то с собой делать. Что именно – непонятно. Надо ли это вообще – неизвестно. Но выдержать даже небольшую паузу, сидя в раздумьях или даже растерянности например, для этой клиентки было невыполнимо. Стыд гнал ее на привычный круг суеты, не давая пережить чувство ущербности рядом со мной.
– Какую себя вы не выдерживаете в этот момент? От какой себя надо так быстро избавиться? – спросила я.
– Непонимающую, глупую, тормознутую какую-то.
– А что произойдет в нашем контакте, если вы скажете, что вам требуется время подумать? Вы ведь в этот момент будете точно равны сами себе: вы не понимаете и вам нужно время. Это же и будете вы – такая, какая есть в этот момент.
– Во-первых, это очень странно. Как это – просто сказать, что я пока не понимаю? А во-вторых, уверена, что того, какая я есть, недостаточно. Что я недостаточно постаралась и даю плохой результат.
– То есть вы уверены, что для меня того, какая вы есть, недостаточно? И чего же я хочу вместо этого?
– Ну, вы хотите, чтобы я развивалась, работала над собой. Ведь терапия нужна для положительных изменений.
– Получается, я будто бы заинтересована, чтобы вы были другой, чтобы все время переделывали себя для меня?
– Сейчас это звучит странно, но я уверена, что это так. Ведь терапия – это место, где я должна вылечится и стать нормальной.
– А вы этого хотите? Приходить сюда и учиться еще более эффективно не быть собой для того, чтобы я посчитала вас нормальной?
– Э-э-э… – растерялась клиентка. – Нет. Мне кажется, я хочу чего-то другого…
– Как бы могла звучать более откликающаяся вам потребность?
– Наверное, я хочу учиться быть больше собой.
– А если пофантазировать, то каким мог бы быть по-настоящему хороший результат нашей терапии?
– Чтобы я не переделывала себя, а смогла бы побыть тут больше самой собой. Но это ужасно страшно!
– О да! Это настоящий вызов: складывать пазл наших отношений не вокруг той версии себя, которой вы уже устали быть, а вокруг той, которой вы и так являетесь.
– Мне любопытно. Я действительно хочу попробовать быть здесь такой, какая я есть. И хочу, чтобы вы помогли мне, не переделывая меня…
Помощник Самости – грандиозный нарциссизм
И вот мы впервые подходим к тому, чтобы рассматривать нормальный детский нарциссизм в процессе его роста. С одной стороны, наша Самость обладает большой силой, ведь она, как маленький росток, пробивающийся сквозь асфальт, выдерживает огромное напряжение, для того чтобы мы могли стать собой. То есть она просто вынуждена цепляться за окружение, питаться его откликами и «проходить» сквозь родительские программы. Но, с другой стороны, в начале пути Самость уязвима, потому что еще не обладает прочной структурой. Ее хрупкость – это не слабость, а естественное состояние, напоминающее о том, что потенциал требует развития и любой рост требует заботы, времени, благоприятных условий.
Хрупкость Самости объясняется ее зависимостью от внешнего мира. В первые годы жизни она развивается через отклики: тепло, любовь, улыбки, заботу. Каждое подтверждение, что нас видят и принимают, добавляет прочности столь хрупкой структуре. Но малейший холод, резкое слово, недостаток внимания могут оставлять на ней невидимые трещины. Это не значит, что Самость легко разрушить, но если удары ощутимы, то они оставляют след.
На старте в нас нет готовых опор, дающих устойчивость. Нет опыта, который мог бы изнутри сказать: «Это неприятно, но ты справишься». Все, что мы переживаем, кажется окончательным, безграничным. Каждая разлука с мамой воспринимается как потеря навсегда. Каждый взгляд, полный разочарования, ощущается как угроза самому существованию. Самость только учится выдерживать такие переживания, но на первых этапах они слишком тяжелые.
И вот на этом пути нарциссизм становится верным помощником Самости. У него есть три главные задачи. Первая – созидательная. Здесь нарциссизм работает над тем, чтобы собирать наш образ самих себя. Постепенно в своей «нарциссической копилке» он концентрирует отражения, отклики, оценки, мнения и убеждения о нашем Я. С течением времени из зеркальных функций окружения мы получаем в свое распоряжение нашу личность. Мы начинаем понимать себя, лучше ориентироваться во внутреннем мире.
На протяжении всей жизни нарциссизм ведет Самость к наилучшему воплощению ее потенциала. Конечно, я говорю сейчас про здоровый вариант.
Вторая задача нарциссизма – защитная. И про нее стоит поговорить отдельно.
Защищающий нарциссизм
В неидеальном мире, в котором мы растем, на нас постоянно влияет множество разных негативных факторов. Нерегулярность поддержки, недостаточность откликов, реакции окружения, которые нам не нравятся, – все это нормально и неизбежно.
И в мире, полном загадок и потенциальных угроз, грандиозный нарциссизм дает нам свое первое убежище. Это способ сохранить наше Я, когда психика еще слишком хрупка, чтобы выдерживать реальность такой, какая она есть.
Представьте, что у новорожденного есть невидимый кокон, в котором он чувствует себя всемогущим. Кокон дарит ему иллюзию, что все в мире происходит благодаря его желанию.
Мама в нем не воспринимается как отдельный человек. Она – часть всесильного мира, который всегда рядом, всегда защищает, всегда дает. Для младенца это единственный способ почувствовать себя в безопасности. Мир слишком большой, слишком яркий, слишком шумный. Любой внезапный звук, холодный поток воздуха или задержка в отклике взрослого могут быть восприняты как угроза самому существованию. Грандиозный нарциссизм помогает не замечать этих угроз, создавая иллюзию полного контроля: «Мама здесь, потому что я захотел. Мир безопасен, потому что я управляю им».
Если бы этой иллюзии не существовало, малыш оказался бы лицом к лицу с правдой, которую он пока просто не способен пережить: что он уязвим, зависим, а мир не всегда предсказуем. Эта полноценная встреча с действительностью произойдет позже – тогда, когда его психика будет готова выдержать тяжесть реальности. А пока кокон грандиозного нарциссизма защищает его от катастрофы.
И конечно, описанные способы работы инфантильного нарциссизма здоровые и естественные для детской психики. Они внушают ребенку больше власти, могущества и отрицают реальность, в которой может случаться всякое. Такой эгоцентризм и даже эгоизм – норма для первых стадий развития, оба они предназначены для аккумулирования психических вкладов окружения в наше Я.
Нарциссизм просто не может позволить нашей психике остаться хрупкой и уязвимой перед лицом мира, который нам не подчиняется.
В этом его значение на этих этапах.
Проблемы начинаются потом, когда в случае систематических или резких фрустраций и травм нарциссизм помещает нас в спасающий кокон своих защит, продолжая делать все то же самое, что описано выше. Тогда мы вырастаем, но продолжаем верить, что могущество – это нормально. Или что мы можем быть настолько ценными, чтобы нравиться всем и всегда. Или что стоит больше вложиться в свой личностный рост – и нас не коснутся проблемы, потому что мы сможем все предвосхитить и отрегулировать.
Нарциссизм в таком случае не перерастает во взрослый, оставаясь в своем инфантильном состоянии. Мы как будто регрессируем к той его защитной задаче, которую он продолжает для нас выполнять, веря, что иначе мы просто не сможем выдержать взрослую реальность. И в чем-то он, безусловно, прав…
Послесловие ко второй главе
Каждый из нас начинает свой путь в жизни как настоящий маленький нарцисс. И это вовсе не оскорбление, а, пожалуй, самый здоровый старт, который можно себе представить. В начале пути мы еще не знаем ни о границах, ни о реальности, ни о том, что кто-то или что-то может существовать отдельно от нас. Наш мир вращается только вокруг нашего грандиозного Я.
Это естественный способ выживания в мире, который пока нам не по размеру. Маленький нарциссизм создает иллюзию всемогущества, которая защищает нашу хрупкую Самость. Родитель в этот период – функция, служащая опорой, контейнером, регулятором и всем на свете. Его любовь – естественная психическая «пища» для нашего Я.
В условиях такой тотальной зависимости просто нельзя допустить, чтобы мы преждевременно столкнулись с ужасной правдой о том, что родитель не наша собственность, он может уйти, отвернуться, быть недоступным. Маленький нарциссизм успокаивает: «Все под контролем, мир слушается тебя». Да, это отрицание реальности, но это не слабость, а огромная сила. Именно благодаря ему наша психика успевает окрепнуть, прежде чем встретиться с действительностью.
Грандиозный детский нарциссизм – только начало. Иллюзии, которые он создает, служат временной опорой, пока наше Я не обретает собственные силы. Наш внутренний мир начинает строиться, усложняться, обрастая собственными опорами, которые останутся с нами на всю жизнь.
В третьей главе мы погрузимся в увлекательный процесс и посмотрим на создание психических структур. Это путешествие от хаоса первых впечатлений к выстраиванию внутренней организации, которая позволит нам справляться с реальностью, не теряя связи с собой. Мы посмотрим, как формируются участники внутренних спектаклей: Инстинктивное Я, Внутренний Родитель и Взрослый, которые будут развиваться потом на протяжении всей жизни. Узнаем, как из первых импульсов, отражений и взаимодействий с миром рождается нечто удивительное – наша личность.
Именно ради этого нам нужны любовь, забота, нежность, внимание. Сами по себе они, конечно, прекрасны и приятны. Но задача Самости – стать чем-то бóльшим, чем потенциал родившейся души. Поэтому она за одну руку берет Опоры Самости, за другую – грандиозный нарциссизм в его защитных доспехах и, «купаясь» в океане отношений с родителями, выплывает на свой собственный берег. Куда однажды встает своими уже окрепшими ножками…
Глава третья
Рождение психики и первый переход
Два царства для появления маленького Я
У Айн Рэнд есть хорошее выражение: «Чтобы сказать “Я тебя люблю”, нужно научиться произносить “Я”»2. С точки зрения психики это удивительно точно.
Для того чтобы наши влечения могли быть обращены наружу, к кому-то как к действительно отдельному человеку, мы сначала должны появиться сами у себя.
Но не по умолчанию, а, конечно, за счет становления ценными и важными для наших близких. Именно для того, чтобы мы научились произносить «Я», и трудится так напряженно наш нарциссизм.
Если бы нашу психику можно было представить в виде волшебного мира, то для выполнения задач по созданию Я потребовались бы два «царства», две области. И только вместе они создают условия для того, чтобы мы могли не просто существовать, но и чувствовать себя живыми, ценными, а главное – могли быть в отношениях с миром.
1. Нарциссическое царство – место, где бурлит энергия жизни, наши влечения. Та сила, что стремится к родителю, чтобы не только выжить, но и обрести себя. Место, где мы впервые начинаем ощущать, чувствовать и осознавать свое Я.
Здесь все строится на отражениях. Родители и близкие становятся зеркалами, в которых мы видим себя. Когда малыш с восторгом строит башню из кубиков и с замиранием сердца смотрит на маму, он ждет ее реакции. Если мама улыбается, обнимает его и говорит: «Какой ты молодец! Это потрясающе!», он видит в ее глазах свое отражение. Его мир наполняется светом, а Самость укрепляется. Ребенок чувствует: «Я есть. Я важен. То, что я делаю, имеет значение». Это зеркало дает ему уверенность в собственной ценности.
Но что, если мама отворачивается или холодно замечает: «Опять раскидал игрушки?» Ребенок не видит своего отражения и начинает сомневаться: «А может, я недостаточно хорош? Может, то, что я делаю, неважно?» Эти первые шрамы Самости могут остаться с ней на всю жизнь, порождая внутренние сомнения и чувство пустоты.
Но если психика остается только в нарциссическом царстве, то мы оказываемся замкнутыми в отношениях с самими собой. В этой области люди воспринимаются лишь нашими функциями: они должны поддерживать нас, подтверждать нашу важность.
Чтобы Я развивалось, нарциссизм должен соединить нас с другими людьми.
Для этого психика строит мост, ведущий к объектному царству – пространству, где внешние связи становятся чем-то бóльшим, чем источник простого отражения или других функций, предназначенных для нашего Я. Этот мост строится из взаимодействий с родителями, которые не только нас отражают, но и показывают, что быть в связи – безопасно.
2. Объектное царство – пространство отношений, где энергия встречается с родителем, а затем и с другими людьми. Место, где человек учится строить связи и чувствовать близость. Если первое царство помогает нам увидеть себя, то второе показывает, что мы не одни в мире, рядом есть другие люди. Здесь важны не похвала и восхищение, а взаимность, понимание и принятие. Представьте девочку, которая упала и разбила колено. Она бежит к папе, надеясь на утешение. Если он садится рядом, берет ее за руку и говорит: «Это больно, да? Но я с тобой. Все пройдет» – девочка чувствует, что ее боль и страх важны. Она понимает, что ее чувства имеют право на существование и кто-то рядом готов разделить их с ней. Царство связей растет, укрепляя ее уверенность в том, что она не одинока.
Но если папа говорит: «Не ной, это ерунда» – девочка остается покинутой наедине со своей болью ненужности и отвергнутости. Пространство отношений превращается в землю, населенную мрачными тенями, к которым бесполезно обращаться, стремиться, чего-то ждать от них. С ними невозможно разделить себя, поэтому следует оставить при себе свои влечения, не отдавать их тем, кто не может на них ответить.
Обратите внимание: наш нарциссизм ищет отражения, восхищения и признания. Но не ради величия и великолепия самих по себе.
Это все для того, чтобы Я вообще появилось, окрепло и начало отделяться от других, обретая свою полноценную уникальность. Если бы для возникновения психических структур нужно было, чтобы никто не обращал на нас внимания, то нормальный нарциссизм «стирал» бы нас для окружающих. Если бы для появления нашего внутреннего мира требовалось, чтобы мама только молчала в ответ на возникновение у нас чувств и переживаний, то не знаю как, но он бы реагировал и на этот процесс.
Да, мы жаждем внимания, интереса и похвалы. Но что же делать, если мы не получим их и внутри нас так и не произойдет волшебного рождения Я?
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе