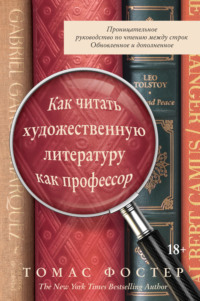Отзывы на книгу «Как читать художественную литературу как профессор. Проницательное руководство по чтению между строк», страница 8, 84 отзыва
Если вам нравится просто наблюдать за действиями и мыслями героев книг, сопереживать им, и больше ничего не надо, то даже не открывайте "Искусство чтения". Вы не найдете для себя ничего полезного.
Если же вам хочется порыться в символах и тайных смыслах, перечитывать одно и тоже по несколько раз, открывая для себя новые грани полюбившихся произведений, то эта книга может стать неплохим руководством о том, что искать, и как это все понимать.
В книге нет волшебной таблетки или мантры, открывающей секретную чакру для чтения. Придется потрудиться, чтобы начать замечать и интерпретировать символы. По сути, нужно будет выработать новую привычку, которая станет неотделимым от чтения ритуалом.
Из приятных бонусов: в конце есть практическое задание.
Ощущения - примерно как от книг Умберто Эко. Автор умный, обаятельный, умеет интересно рассказывать... и одновременно остро чувствуешь собственную ущербность и необразованность. Ужасное ощущение собственной интеллектуальной недостаточности.
Моя оценка: высший балл (эту книгу невозможно ни с чем сравнивать, потому что она другая)
Книга о книгах.
Наткнулась на нее чисто случайно. Чей-то инстаграм подсказал. Любопытство взяло верх и я окунулась в мир Литературы. Замечательная книга, очень современная. Автор вызывает уважение и недоумение... В книге указано столько различных литературных примеров, что просто не верится, как это можно прочитать! И не просто прочитать, а еще и проанализировать. Браво! А после прочтения бонус! Получите и распишитесь! Список для чтения, предложенный автором. Томас Фостер уверяет, что читать эти книги будет не скучно, и я ему верю.
И не ждите, пока писатель станет мертвым классиком. Живым деньги нужнее.Помните: чтение должно быть в радость. Это не обязанность, не повинность. Это игра. Играйте, дорогие читатели, играйте на здоровье. (с)
envoi
Занимательное литературоведение. Очень полезная и интересная книга: учит замечать мелочи, проводить параллели, вникать в подтекст. То, что автор балагурит и повторяет одно и то же по несколько раз, мне не мешало, ибо копает он глубоко и, где надо, предельно серьезен. Не мешало и то, что большинство анализируемых произведений я не читала – Фостер рассказывает о сюжете достаточно, чтобы анализ был понятен. Чего мне не хватало, так это структурности и сбалансированности: главы идут как бы порознь, каждая следующая не вытекает логически из предыдущей, при этом об одной группе символов говорится подробно (например, о болезнях), о другой – вскользь. Этим книга напоминает мне, скорее, сборник статей о разнообразии литературной символики. Зато авторский настрой объединяющий, он радует и вдохновляет: чтение - это сотворчество писателя и читателя, их встреча и диалог, и никогда не поздно научиться вести этот диалог на более глубоком уровне.
Эта книга – не свод, не кодекс, не база данных, где хранятся все культурные коды, с помощью которых писатели творят, а читатели понимают их творчество. Это образец, руководство к действию – или, если хотите, грамматика, помогающая научиться самостоятельно распознавать коды нашей культуры.
Изложено просто, терминов мало, примеров много, хороший перевод.
и пара примеров, которые пришли мне в голову, дополнительно к тем, что приводит Фостер. 1. Аллюзии и интертекстуальность. "Книги вырастают из других книг", "новые произведения неизменно вступают в диалог с тем, что было до них. И этот диалог проявляется в отсылках к более ранним текстам - от тонких аллюзий до прямых и обширных цитат». Скажем, чтобы лучше понимать литературу христианского мира, надо, как минимум, знать Библию. А также древнегреческие мифы и сказки народов мира. Ведь даже самый прозаический герой или сюжет могут оказаться потомками монументальной древней легенды. Из последнего прочитанного сразу вспомнились «Цветы корицы, аромат сливы» Коростелевой и «Медведки» Галиной – и там, и там бытовая история, полная символики и с мощным мифологическим подтекстом. 2. Знаковые сюжеты и образы. Это своего рода архетипы, они полностью или частично присутствуют в большинстве произведений и узнаются, в частности, по стандартному набору элементов. - странствие. «Для рыцарского обета и странствия нужны пять элементов: а) тот, кто дает и выполняет обет; b) место, куда он должен отправиться; c) заявленная цель похода; d) приключения и испытания в дороге и e) истинная цель похода». Истинная цель – это самое интересное, она как правило не материального, а духовного свойства. Познать самого себя, сделать нравственный выбор, повзрослеть, утвердиться в своих жизненных принципах. Фостер очень интересно рассказывает о путешествии Гекльберри Финна с негром Джимом по Миссисипи, а мне вспомнилось другое странствие – «Крысолов» Невилла Шюта, где старый Джон Хоуард ведет группу перепуганных детей по оккупированной фашистами Франции, чтобы переправить в безопасную Америку. К концу книги он не то чтобы перерождается, а скорее, полностью раскрывается как личность, его жизненные принципы воплощаются в конкретные поступки. - сделка с дьяволом, искуситель и искушаемый, когда некто предлагает главному герою блага мира сего в обмен на его душу (самоуважение, честь, чистоту); из детского - «Тим Талер или проданный смех»; - встреча с вампиром. Здесь, в отличие от сделки с дьяволом, жертва может не понимать, чем чревата связь с вампиром, его же цель – эмоционально увлечь или подавить и «потребить», а не заключать обманный договор. «Вот что на самом деле символизирует эта фигура, будь то елизаветинские времена, Викторианская эпоха или наши дни: эксплуатацию, потребительство в самых разных формах. Использование других людей в своих целях. Отказ признать чужое право на жизнь, если оно идет вразрез с собственными запросами. Стремление любой ценой утолить свои страсти (нередко болезненные), не считаясь с нуждами близких. В сущности, именно это и делает вампир». Бунин «Легкое дыхание», набоковская «Лолита», Штирнер и Элиза из беляевского «Властелина мира»; кто бы мог подумать, что революционные, прокоммунистические истории, где отважные рабочие борются с "кровососами-эксплуататорами", допускают столь мистическую аллюзию:) 3. Символы. Ими пронизано любое произведение. Ни один из них не имеет однозначного, единственно верного значения, у каждого – целое смысловое поле значений. Что означает конкретный символ, зависит от контекста, от сопутствующей символики, а также от личного восприятия читателя. «По-настоящему великое произведение допускает целый спектр истолкований». 4. Символика хронотопа, т.е.места и времени действия, а также символика погоды. «Для начала задумаемся: а что бывает внизу (в долине) или наверху (на холме или горе)? Внизу: болота, толпа людей, туман, темнота, поля, жара, хлопоты, жизнь, смерть. Наверху: снег, лед, чистота, разреженный воздух, дальний обзор, одиночество, жизнь, смерть. (…) Если вы настоящий писатель, у вас будут «работать» и вершины гор, и их подножья». Чаще всего место и время не отделимы друг от друга. Если Он и Она влюбляются друг в друга весной, в цветущем парке, это не то же самое, как если бы чувства вспыхнули поздней осенью, среди унылых пустошей и болот. Время-место-погода могут служить отсылкой к некоему мифу (скажем, ливень сравнивается со Вселенским потопом), передавать состояние или характер героев, а также что-то предвещать (радость, надежду, опасность или беду). Так пейзажи в «Поющих в терновнике» тесно связаны с психологической характеристикой героев, их стойкостью и неприхотливостью. Повесть Лиханова «Последние холода» посвящена последней блокадной зиме и отчаянному ожиданию весны, здесь окружающей смерти противопоставлена жажда жизни, надежда; в рассказе «Легкие миры» Т.Толстой центральный образ - дом с "волшебной комнатой", которая служит символическим мостиком между «легким» духовным и «тяжелым, душным» земным миром. «Литературный пейзаж – это пейзаж мысли, души, истории». 5. Символика внешнего вида и телесного состояния героев. «В литературе телесное несовершенство по-прежнему нужно воспринимать с символической точки зрения. Оно прежде всего обозначает, что один из героев не такой, как все остальные». Сразу приходит в голову Тирион из "Игры престолов". Кроме того, отметины, дефекты внешности, состояние здоровья у героев обычно указывают на некие ключевые черты характера, душевное и духовное состояние, могут быть весьма метафоричными. - слепота. «К примеру, тот, кто впервые читает или смотрит «Царя Эдипа», обязательно заметит, что Тиресий слеп, но может заглядывать в прошлое, а Эдип зряч, но не видит истины и в наказание ослепляет сам себя». «Буквальная, физическая слепота или зрячесть, тьма или свет в художественном произведении почти всегда таят в себе метафору и означают знание или неведение, понимание или заблуждение. С одной оговоркой: тема слепоты и прозрения – одна из самых важных в мировой литературе; она может подниматься и там, где нет никаких слепых героев, выколотых глаз, зашторенных окон и дублинских тупиков». - сердечные заболевания связаны со способностью любить и сострадать. - паралич – скованность догмами, закостенелость, полнейшая умственная, эмоциональная или моральная несвобода. - чахотка - истощение жизненных сил. Кроме того, чтобы занять прочное место в литературе, стать метафорой, реальное заболевание должно соответствовать ряду условий. Фостер подробно разбирает некоторые из них. 6. Символика различных областей жизни. - Еда - символ общности, сопричастности, доверия, иногда - интимности. Причащение хлебом и вином, преломление хлеба - это христианские мотивы, но они могут проглядывать даже в самых обыденных трапезах. Хотя, конечно, иногда "сигара - это просто сигара", а обед - просто обед. Еда - жизнеутверждающий символ, недаром по аппетиту героя мы судим о запасе его жизненных сил, о склонности к плотским радостям (яркий тому пример- "Гарантюа и Пантагрюэль"). - Купание, различные варианты погружения в воду и омовения (к примеру, герой попадает под сильный дождь). Нередко символизирует очищение, даже крещение, т.е. перерождение. Освобождение от ложных ценностей (вода «смывает» их). Текущая вода может символизировать ток времени. Амбивалентный символ, с одной стороны, вода - это ясность, прозрачность, а с другой - нечто непостижимое, тайное, иногда таящее угрозу (морские глубины, из которых появляется чудовище). - Секс. В литературе «секс совсем не обязательно выглядит как секс». Из-за того, что прямое описание интимных отношений в западноевропейской литературе (особенно викторианской эпохи) довольно долго находилось под запретом, возник целый пласт соответствующих иносказательных образов. «Пейзаж может иметь сексуальные коннотации. А еще чаша, огонь, морской прибой. Да хоть бы и «Плимут» 1949 года выпуска, если хорошо подумать. Словом, все, что взбредет в голову автору». Кроме того, автор может пользоваться иносказаниями потому, что «завуалированный, зашифрованный секс приобретает множество символических уровней и подчас возбуждает гораздо сильнее, чем буквальное описание». - Насилие. Символика, связанная с физической или духовной смертью, с перерождением, с протестом. «В повседневной жизни насилие просто есть. (...) Но в литературе насилие, даже самое буквальное и натуралистичное, всегда обозначает что-то еще. Удар кулаком в лицо может стать метафорой». Фостер постоянно повторяет, что в литературе все - метафора, каким бы обыденным и мелким оно ни казалось. 7. Политический и социальный подтекст. «Зная кое-что про общественно-политическую среду, в которой жил и творил писатель, можно лучше понять его произведения. Не потому, что бытие определяет сознание, но потому, что именно этот мир он осмысляет, когда пишет. Если Вирджиния Вулф рисует портреты своих современниц и дает понять, что женщина ее эпохи могла действовать лишь в строго отведенных рамках, несправедливо не замечать в этом социальной критики». Очень хороший совет: побыв внутри произведения, выйдите за его пределы и взгляните снаружи. И на произведение, и на автора.
Крепко тесное объятье. Время - кожа, а не платье. Глубока его печать. Словно с пальцев отпечатки, С нас - черты его и складки, Приглядевшись, можно снять.
Вот, в общем и целом. Хорошая книга, буду перечитывать.
Причём, после покупки, она не лежала на полке ещё многие месяцы, как у нас, у читателей, часто бывает, а сразу же вписалась в мои читательские планы ⠀
Эта книга - гид по грамматике литературы. ⠀ Очень понравилась композиция, книга разделена на небольшие главы, каждая из которых повествует о своём, кратко, но ёмко. ⠀ у автора очень приятный слог, он объясняет все свои мысли на примерах, что мне очень понравилось. Многие произведения, рассказы и стихи он разбирает с помощью различных символов, к которым прибегают авторы, чтобы придать глубины произведению, добавить двойное, а то и тройное дно. И именно эти символы автор будет учить вас замечать. ⠀ ⠀
⠀ 10/10, очень советую для углубления в произведения, поиска аллюзий, методов, концепций и знаковых сюжетов.
Книга полезная, но подход, предложенный автором, узковат. Фостер предлагает во всем искать символы и второе дно. С этим боролись акмеисты, еще в начале прошлого века. Действительно, жутко неудобно, когда дождь может значить и очищение, и ритуальное омовение, и непреодолимую стихийную преграду. Слишком большой диапазон. Сам автор, в конце каждой главы, замечает: «Конечно, это не единственное толкование этого символа».
Что вышло хорошо, так это обилие этих самых символов, перечисление магистральных образов, часто встречающихся в литературе: дождь, дорога, физические изъяны, религиозные атрибуты и т.д. К тому же, Фостер подкрепляет тезисы примерами из классики, по большей части американской и британской.
Мифологический поход интерпретации тоже представлен. Вообще, надоели эти вечные поиски греческих мифов в каждой книжке. Согласен, концепция удобная, но в последнее время она так популярна, что начинает раздражать. Несчастные Бахтин и Пропп вряд ли могли себе представить такое широкое распространение своих идей.
Еще один важный тезис автора - интертекстуальность. По существу её суть в том, что если вы читали книгу А и её темы, мотивы и образы используются в книге Б, то отлично - ловите отсылки. К тому же, автор книги Б может использовать наработки книги А не только для сюжетостроения, но и для полемики с ними, или переосмысления. В улавливании этих нюансов и заключается интертекстуальное прочтение.
Автор высказывает ряд интересных мыслей:
«Начитанные люди начитаны по-разному». Так где же искать канон? Ответ: в детской литературе, сказках. Замечательно!
В двух последних главах Фостер проводит литературоведческий ликбез и дает список литературы, использованный в книге, в алфавитном порядке. На примере «Пикника» Мэнсфилд он показывает, как, с его точки зрения, следует интерпретировать текст. К слову, когда героиня рассказа спускалась с холма в бедный район, я надеялся, что автор не начнет задвигать про спуск в Аид или райские сады. К сожалению, так и вышло. Тем и отталкивает мифологический подход, что его можно подогнать под что угодно. Хотя надо признать, что для рассказа Мэнсфилд это, пожалуй, оправданно. Но «птичья» интерпретация его бывшей студентки мне понравилась больше. Тем более, что я не уловил «птичьей» линии и не понял прозвища Джоз.
Взялась за эту книгу, чтобы перейти на новый уровень. Я чувствовала что могу читать что-то сложнее для восприятия. Тот случай, когда читаешь книгу, и понимаешь что там есть скрытый смысл, но не можешь правильно его розшифровать.Думаю, нет ничего сверхъестественного в том, что книга мне действительно помогла. Есть несколько причин для того, чтобы считать ее полезной: во-первых тут очень простой и понятный язык, так сказать для тупых, и тебе не приходится, как в обычных учебниках продираться через горы заумного текста. во-вторых - есть много примеров на которых разбирается тот или иной символ. в-третьих (как по мне самое главное) автор не навязывает нам свое мнение, и не возникает ощущения присутствия на уроке в средней школе: - Учитель, а почему идея повествования заключается именно в этом? - Неважно... Ну и конечно же как не вспомнить тот внушительный список литературы, который тут же хочется прочитать (лично я стремглав побежала в книжный) и Лабораторную работу в конце - прочитал теорию, давай вперёд, применяй на практике!В общем и целом я книгу советую для прочтения как начинающим читателям так и имеющим опыт в этом деле
Даже не помню, как наткнулась на эту вещь… вроде перекапывала торренты в поисках чего-то иного…
Вот это действительно стоит прочесть. Автор её – американский профессор, литературовед. Человек знает, что говорит и умеет объяснять. Чтобы понимать написанное, совершенно не обязательно обладать ни широкой эрудицией, ни (тем более) филологическим образованием… Если уж хочется почитать литературоведческий нон-фикшн, то эта книжка – идеальный вариант. Тут можно почитать о том, на что стоит обратить внимание, если хочешь научиться понимать текст глубже первичного внешне-событийного слоя. Традиционные отсылки, погодные явления, религиозная символика, болезни, времена года, насилие, еда… всё это появляется в текстах не просто так. И Фостер готов объяснить причины.
Самое приятное, от книжки не воняет пафосом за версту, что нередко бывает с подобными книгами. Околокнижный (и не только) нон-фикшн обычно отворачивает читателя именно благодаря надменности повествования. Но тут никакого «посмотрите какой я классный» и «как классно я это делаю» не будет. И это прекрасно.
«Искусство чтения» учит находить в художественных произведениях символы и знаки, параллели и отсылки к другим книгам. Томас Фостер вдохновляет не просто читать книги и понимать их на уровне происходящих событий, но и «копаться» в текстах, выискивая дополнительные смыслы, а это и интересная игра, позволяющая тренировать мозг, и важный навык, помогающий глубже понять авторский замысел и методику его воплощения, а еще это способ «выжимать из книг все», освоив который можно научиться получать максимальную дозу эстетического наслаждения от каждой прочитанной книги.
Начну с того, что книга написана человеком, который действительно разбирается в этом. С первых глав было увлекательно читать, но к сожалению, ничего нового для себя не подчерпнула. Книга хороша, но ее надо читать уже после того, как познакомишься со многими классическими произведениями. И далее начнешь сравнивать свои ощущения/догадки с автором. Так как у меня пока не большой читательский опыт, практически все повести и романы упомянутые в книге мне незнакомы и было не так интересно наблюдать, что же писатель разглядел в очередной строчке. Я больше запуталась. Надеюсь, что со временем в каждой достойной книге я буду видеть глубину и многогранность и для себя выносить что-то полезное, а не просто понравилась книга или нет. В книге множество спойлеров, т.к автор раскрывает сюжеты. Но плюс, что в конце книге есть так называемая лабораторная работа, с помощью которой Вы можете попытать свои силы и посостязаться с автором этого "Искусства понимать книги".