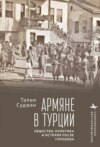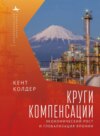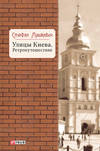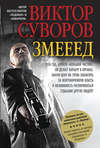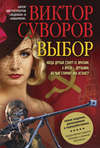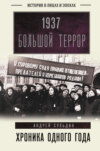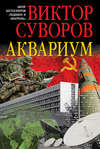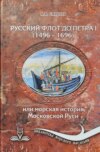Читать книгу: «Армяне в Турции. Общество, политика и история после геноцида», страница 5
Как и во время Хамидийской резни в 1894–1897 годах164, армяне после 1915 г. считали Стамбул более безопасным местом, чем Малая Азия или восточные провинции. Одной из целей ранней республиканско-кемалистской элиты было очищение Малой Азии от оставшегося немусульманского населения. Потому та же позиция была занята и по отношению к грекам. Грекам Стамбула и двух островов – Бозджаада (Тенедос) и Гёкчеада (Имврос) – при обмене населением в 1922 г. было разрешено остаться. Однако после основания республики целью стало систематическое изгнание греков с островов165. В итоге Стамбул остался единственным местом, где вообще было греческое население. В 1925 г. Министерство внутренних дел приняло решение лишить немусульман права на передвижение166. На основании правительственного циркуляра от 2 февраля 1925 г. мухафаза Ускюдар (Üsküdar) запретила немусульманскому населению поездки в Стамбул из районов Картал, Малтепе и Пендик167. Это привело к тому, что для повседневных поездок на работу им приходилось обращаться за разрешением к Анкаре168. Ограничения на поездки основывались на «Правилах передвижения» (Seyr-ü Sefer Talimatnamesi) и послужили Кабинету министров поводом принять резолюцию, запрещающую армянским строителям и мастерам из Анатолии работать на строительстве дорог в Стамбуле169. В 1928 г. губернатор Стамбула разрешил немусульманам проводить лето также на несколько большем отдалении, а именно в Килйосе, Полонезкёе и Якаджыке (Yakacik)170. На этих примерах можно увидеть, насколько важным был Стамбул как область строгого контроля и как город на самом деле представлял собой паноптикум, в котором любое движение немусульманского населения строго отслеживалось171. Паноптикум изначально разрабатывался как механизм тюремного контроля; здесь, однако, весь город стал тюрьмой, за жителями которой наблюдали не только полиция или силы безопасности, но и всевозможные другие очевидцы: соседи, их знакомые, лавочник за углом и т. д. Так путешествие для членов местной администрации стало непростым предприятием. Независимо от того, откуда приехали немусульмане – городской квартал не имел значения, – их въезд в город строго контролировался. Затем, в 1929 г., другой указ о безопасности военных районов разрешил немусульманам ездить в Бурсу, Тузлу, Ялову и Чешме только с мая по сентябрь172.
Однако по разным причинам армяне продолжали переселяться из провинций в Стамбул. Государственная политика, в частности запрет на возобновление работы армянских школ в Малой Азии и Северной Месопотамии, вынуждала оставшихся армян после 1923 г. переезжать в Стамбул. В качестве примера воспрепятствования открытию новых или прежде закрытых армянских школ в провинциях, я цитирую здесь интервью N. D., взятое мной в рамках моей работы. Это свидетельство важно, поскольку, согласно ему, это был не кто иной, как Исмет Инёню – впоследствии президент государства, кто заявил о невозможности открытия армянских школ.
Согласно N. D. (род. в 1957 г. в Малатье):
Мать Инёню была из Малатьи, поэтому он отправился в город и по случаю Байрама навестил членов своей семьи. Мой отец и дядя Асадур, как представители [армянской] общины Малатьи, отправились их поздравить с Байрамом. Инёню сообщают, что они пришли засвидетельствовать свое почтение, на что тот распоряжается передать им, чтобы они ждали. Им пришлось ждать до вечера. <…> Дома их семьи уже начали беспокоиться… и в конце концов пошли в полицейский участок, где они плакали, думая, что мой отец и дядя умерли. Отец мой мне рассказывал: Инёню сказал мне: «Прости, что заставил тебя так долго ждать. Я хотел поговорить с вами наедине». Инёню их спросил, сколько у них армян, всё ли у них нормально или нет и что он может для них сделать. Мой отец и дядя Асадур рассказали ему, как у них дела. Инёню спросил: «Чем я могу вам помочь?» Мой отец ответил: «Не могли бы вы помочь нам вновь открыть армянскую школу?» Инёню на это ответил: «Школы не будут открыты ни в коем случае, но я могу помочь вам с церковью»173.
Согласно свидетельству N. D., произошло это в конце 1940-х гг. Четкий ответ Инёню отражает официальную позицию государства. Позже в этой главе я вернусь к многим другим предпринятым в провинции неудачным попыткам открыть школы. Это систематическое институциональное препятствование было одной из основных причин, по которой армяне, все еще жившие в провинциях, переезжали в 1950-х гг. в Стамбул, особенно после открытия в 1953 г. школы-интерната «Сурб Хач Тбреванк» (Surp Khach Tbrevank‘). Этот пример, как один из многих в этой работе, показывает особый статус Стамбула в глазах государства.
Непрекращающийся отток
N. D. описал систематические нападения на армян, которым удалось вернуться в свои дома после 1915 г. и до образования республики. Согласно его сообщениям, армянские дома подверглись нападениям и грабежам со стороны вооруженных банд; жителей терроризировали. На следующий день банды появились снова и представились как «Ateşoglu Yildinm» (Атешоглу Йылдырым) – ранее об этой банде в сообществе ничего не слышали. Подавшего в полицию заявление избили и прогнали. Итак, преследования 1915 г. были продолжены согласованной попыткой изгнать армян из их домов:
Как рассказала мне моя мать, отец мой пошел к правительственным чиновникам, с которыми он был в хороших отношениях… и попросил их о помощи, чтобы защитить себя и семью от ночных нападений на армянские дома. <…> Однако его собеседник ответил: «Не бойтесь, господин Бехчет (Behqet): Ateşoglu Yildinm – это мы. И почему бы нам тебя преследовать?» Я слышал это от мамы, которой это, в свою очередь, рассказал мой дедушка. Чиновник, с которым он разговаривал, добавил, что они также поедут в Кайсери и в Сивас, а это значит, что в Кайсери и в Сивасе произошло то же самое. Я слышал эту историю от многих людей в Малатье174.
Так что это была одна из наиболее систематических и, возможно, наименее известных государственных стратегий после геноцида. С ее помощью хотели предотвратить возвращение выживших в 1915 г. армян в Малую Азию и Северную Месопотамию. Задавшись этой проблемой, я хотела найти и другие подобные сообщения. Однако человек с похожей историей, с которым у N. D. была договоренность, не ответил на мои звонки. Была ли причина в том, что в тот же день в своем доме в стамбульском районе Саматья была найдена убитой пожилая армянка с крестообразным порезом на теле и была жестоко избита другая пожилая женщина в том же районе, не знаю. Таким образом, я тогда не смогла продолжить свое расследование, но работа Вахе Ташджяна обратила мое внимание на описания таких организованных нападений, которые можно найти в работе Аршага Албояджяна по истории армян в Малатье – Badmut‘iwn Malatio Hayots175. Согласно его источнику, в 1923 г. количество атак Ateşoglu Yildinm или Yildinm Ateş (Йылдырым Атеш) возросло; дома помечались звездами, а от жителей требовали покинуть их в течение десяти дней176. Два армянина от имени 35 жителей Малатьи подписали письмо Мустафе Кемалю в ноябре 1923 г.177 Они попросили безопасности для себя и спросили, требуется ли от них покинуть Турцию. Если да, то они хотели бы получить официальное уведомление, а не подвергаться постоянным нападениям. После этого от подписантов потребовали покинуть Турцию; таким образом, это письмо ситуацию к лучшему не изменило178.
Работа Раймонда X. Кеворкяна содержит детальный список армян и греков, оставшихся или вернувшихся в Малую Азию и Северную Месопотамию. Данные исходили от Вселенского и Армянского патриархатов, как и от сообщений очевидцев, таких как, к примеру, отчет Ерванта Одяна (Yervant Odyan). Всего в начале 1919 г. удалось вернуться в общей сложности 255 000 греков и армян179. Однако не всем из них удалось остаться в тех районах, куда они вернулись.
Исход армян из провинций в Стамбул в первые десятилетия республики был предметом острых споров. Община Стамбула приняла в городе тысячи людей, которым нужно были жилье, а также работа, еда и питье, не говоря уже о множестве других потребностей повседневной жизни. Патриарх и церковные учреждения пытались своими силами справиться с ситуацией. Но после 1923 г. многие детские дома и приюты для выживших были либо закрыты, либо перемещены за пределы Турции. В 1918 г. kaght’agayan (центры для беженцев) и детские дома были полностью заселены. После Мудросского перемирия депортированных армян доставили поездом из Алеппо в Стамбул. По данным патриарха Завена Дер-Егиаяна, количество депортированных составляло около 35 000180. В своих мемуарах он сообщает, что община сформировала три комитета, ответственных за ситуацию: первым был комитет для детей-сирот, Комитет поддержки сирот (Orpakhnam); вторым органом было Общество для депортированных (Darakrelots Engerut’iwn), а третьим был основан Армянский Красный Крест181. Последние две организации 28 февраля 1919 г. объединились в Армянское национальное попечение (Нау Azkayin Khnamadarufiwn). Согласно мемуарам патриарха Дер-егиаяна, у этой организации были отделения во всех районах Стамбула, где она открывала центры для депортированных и выживших. Поскольку ситуация ухудшилась и пожертвований не хватало, Армянское национальное собрание ввело специальный налог для Отечества (Hayrenik’i türk’). По словам Дер-Егиая-на, «потребности обедневших и бездомных сограждан должны удовлетворяться за счет налоговых поступлений до тех пор, пока они не смогут переселиться на свою собственную землю; отсюда и название – отечественный налог…»182 Варужян Кёсеян в своей книге по истории Армянской национальной больницы «Сурп Пргич» упоминает двенадцать сиротских домов. Согласно их данным, эти сиротские дома на протяжении шести лет зависели от пожертвований общины183. Патриарх Дер-Егиаян говорит даже о 15 сиротских домах, и число выживших, прибывших в Стамбул в основном из районов между Амасьей и Мерзифоном, а также тех, кто до эвакуации из Киликии перемещался по пути Стамбул – Изник – Конья, он оценил в 35 000 человек184. В 1920 г. численность резко возросла. В течение года после перемирия число сирот составило уже 100 000, и еще приблизительно 100 000 женщин и детей оставались в плену185. По воспоминаниям Егиаяна, в ведении Армянской национальной службы попечения находились следующие сиротские дома: Центральный сиротский дом в Кулели (Kuleli) (1000 детей), в Бейлербейи (Beylerbeyi) сиротский дом (250 детей)186, сиротский дом в Едикуле (Yedikule) на территории больницы «Сурп Пргич» (300 детей, у многих из них была трахома или другие заболевания), приют для девочек в Бешик-таше (Beşiktaş) (100), приют для девочек в Кумкапы (Kumkapi) (100), приют для девочек в Ускюдаре (Üsküdar) на территории Ускюдарского Американского колледжа (100), приют для девочек в Хаскёе (Hasköy) (130), приют для девочек в Арнавуткёе (Arnavutköy) (100 молодых женщин, прибывших из турецких домов), сиротский дом для девочек в Балате (Balat) (100), сиротский дом для девочек в Куручешме (Kuruçeşme) (50), сиротский дом в Макрикёе (Makriköy) (80), армяно-католические сиротские дома Сестер Непорочного Зачатия в Пере (Pera) и Саматье (Samatya) (более 500). По Дерегиаяну: ассоциация «Тброцасер» (Tbrotsaser) также позаботилась о сотнях сирот. Эти сироты были переведены в Салоники (Thessaloniki), Марсель и Париж в 1922 г. К тому же один сельскохозяйственный сиротский дом находился в Армаше (Armash), недалеко от Бахчеджика (Bahjecik); сегодня Акмеше (Akmeşe), и в нем проживало 60 детей. Британская благотворительная организация Lord Mayors Fund управляла двумя сиротскими домами, которые впоследствии были переведены на Корфу. В Макрикёе работал еще один сиротский приют под покровительством швейцарско-армянской организации, который позже был переведен в Швейцарию, затем, впрочем, закрыт187. Причина, по которой имена, приведенные в мемуарах Дерегиаяна, и имена в работах Кёсеяна не совпадают, может заключаться в том, что после 1923 г. некоторые из сиротских домов были перемещены и что Кёсеян мог иметь в виду более поздний период. Когда в 1921 г. финансовое положение общины все еще не улучшилось, началась поддержка со стороны Near East Relief(«Помощь Ближнему Востоку»).188
После прибытия Рефета Беле (Refet Bele) в Стамбул в ноябре 1922 г. давление на патриарха Завена усилилось189. В окружении Мустафы Кемаля он был объявлен персоной нон грата и вынужден с 10 декабря 1922 г. уйти в отставку и покинуть город. После этого с 1922 г. стамбульские сиротские дома были переведены в Грецию190, а сиротские приюты в Харпуте (Harput), Сивасе (Sivas), Кайсери (Kayseri)191 и Диярбакыре (Diyarbakir) переехали в Алеппо192. Когда в 1923 г. греческое население Малой Азии было изгнано, вместе с ним были депортированы армяне из Яловы (Yalova), Бандырмы (Bandirma), Кютахьи (Kütahya) и Эскишехира (Eskişehir) сначала во Фракию, а затем в Грецию193. Также остальное армянское население за пределами Стамбула было под угрозой. Рассказ Варужана Кёсеяна о том, как его семье пришлось покинуть Эдинджик (Edincik), свидетельствует о продолжающейся депортации армян, особенно во время выдворения греков, т. е. в период так называемого обмена населением:
Они заставляли нас вместе с греками покидать наши дома.
В 1923 г. мы приехали в Бандырму (Bandirma). Некоторые люди в порту перебирались в Грецию, другие – в Стамбул. Однажды дома я услышал рассказ, что наши соседи в Эдин-джике угрожали нам, чтобы мы не пытались вернуться и требовать назад наше имущество. Они сказали, что, если мы это сделаем, они прострелят нам ноги, так чтобы мы стали калеками и попрошайничали всю оставшуюся жизнь194.
Сиротские дома и kaght agayan в Стамбуле в первые десятилетия республики оставались одной из самых сложных социально-экономических задач общины. Важные факты по решению проблем, поднятых депортированными и сиротами, мы узнаем из статьи Армавени Мироглу (Armaveni Miroglu): «На 31 августа 1923 г. в 13 kaghtagayan Стамбула насчитывалось 6385 kaght agan, а в 1924 г. число этих беженцев возросло до 7036195. В течение 1922–1923 учебного года в сиротском доме Карагёзяна (Karagö-zyan) проживало 124 ребенка. Затем, в 1922 г., сиротский дом в Кул ели был закрыт, и 125 сирот дней на десять нашли приют в Карагёзяне»196. Статья, вышедшая в еженедельном журнале Panper («Панпер») в 1933 г., повествует о том, что на протяжении двух последних десятилетий здесь жили, получали уход и образование более 500 сирот197. Карагёзян поначалу был сиротским домом с мастерскими, но затем он был преобразован в сиротский дом с начальной школой, где дети могли выучиться на сапожника, каменщика или слесаря198.
Администрации общины был представлен подробный отчет под названием «Национальное попечение», который был опубликован в альманахе «Сурп Пргич» (Surp P’rgich’) за 1932 г. Согласно этому отчету, в девяти школах общины обучались 600 сирот и детей-kaght agan199. Национальная попечительская организация (Azkayin Khnamadarufiwn) заботилась, таким образом, как о сиротах, так и о kaght’agayan200. В 1939 г. в Стамбуле осталось только два детских дома, в которых проживали 500 детей-kaght agan и более 200 сирот201. Согласно «Нор Лур» (Nor Lur), еще в 1947 г. в сиротском доме Карагёзяна проживали 120 сирот202, а по данным «Пароса» (Paros), к 1950 г. через Карагёзян прошла уже 1000 учеников203. Здесь же можно было получить медицинскую помощь и лекарства. Сиротский дом в Калфаяне (Kalfayan), который был основан в Стамбуле в 1866 г. монахиней Српуи Калфаян (Srpuhi Kalfayan; 1822, Палу – 1899, Стамбул)204, работает в том же качестве по сей день205. Эти учреждения оказывали поддержку не только армянам, приехавшим из провинции, они, кроме того, были ремесленными училищами (Arhesdanots) для девушек и женщин, которые могли получить здесь профессию, с помощью которой они могли бы зарабатывать на жизнь. В первые два десятилетия после основании республики почти все армянские газеты, издававшиеся в Стамбуле, публиковали многочисленные статьи на эту тему.
Уровень бедности внутри общины сильно возрос после 1938 г., т. е. после принятия турецкого закона о фондах и введения единой системы доверительного управления (Тек Mütevelli Sistemi). Тогда сиротский дом в Карагёзяне и сиротский дом в Ускюдаре (Sgiwdari Khnamadaragan Orpanots) должны были объединиться в финансовом отношении, чтобы быть в состоянии продолжать свою деятельность. По данным Тороса Азадяна (Toros Azadyan), в сиротском доме в Ускюдаре было 70–90 сирот, а в двух kaght’agan-центрах – 400–500 детей-kaghtagan206. В официальном документе о слиянии обоих сиротских домов можно также найти указание на положение армян из провинций:
Прием детей-kaghtagan — это часть серьезной заботы о сиротах. Забота при этом должна укладываться в рамки минимального бюджета, поскольку работа в этом смысле более или менее находится в состоянии свертывания. Остается необходимость в профессиональном учреждении, заботящемся о 400–500 детях-kaghtdgan, которые не могут обеспечить себя самостоятельно207.
Одновременно с этой ситуацией в Стамбуле в провинциях армянам постоянно различными способами угрожали и вынуждали их уезжать. Со ссылкой на архивы американского посольства, Ди лек Гювен (Dilek Güven) констатирует, что в 1928–1929 гг. армянам было запрещено покидать Сивас. При этом они не могли найти работу, в связи с чем им не на что было совершать покупки. В этих обстоятельствах многие из них запросили специальное разрешение на выезд из страны208. Сонер Чагаптай (Soner Qagaptay) подробно описывает серию нападений, включая два убийства, во-первых, армяно-католического священника Юсуфа Эмирханяна (Yusuf Emirhanyan) в Диярбакыре (Diyarbakir) и, во-вторых, православного священника в Мардине (Mardin); эти инциденты сыграли важную роль в исходе армян209. После этих случаев на католическую миссию в Элязыге, в которой в качестве священнослужителей действовали два армянина, француз и немец, было оказано давление, чтобы заставить ее отказаться от своей деятельности; священники отправились в Бейрут210. Почти одновременно произошел взрыв и поджог армянской протестантской церкви в Харпуте (Harput), а также совершено нападение на ассирийского священника в Диярбакыре211.
Как видно из этих случаев, законы тогда, как и правовые меры, имели выраженную цель – изгнание людей из страны, в которой они жили. Согласно Мурату Бебироглу (Murat Bebiroglu), закон о переселении 1934 г. также сыграл важную роль в процессе миграции. Опрошенный Бебироглу человек заявил, что из-за этого закона армяне в то время были вынуждены покидать Йозгат (Yozgat) и перебираться в Стамбул212. Основываясь на документах архивов посольства США, Дилек Гювен (Dilek Güven) приводит подробные данные о результатах действия закона о переселении и так резюмирует изгнание евреев из Фракии и Измира: «Эта “добровольная” миграция групп меньшинств [евреев] – а также групп христиан, таких как армяне в Анатолии, – была результатом спланированной социальной маргинализации»213. Кроме того, у Гювена можно найти точные статистические данные об армянской миграции 1929–1934 гг. Согласно тем же источникам, еще до принятия закона о переселении была еще одна волна вынужденной миграции: около 600 армян покинули свои родные места в направлении Стамбула214. Кроме того, агенты турецкого правительства вынуждали христианское население в провинциях, особенно в Диярбакыре и Харпуте, покинуть свою страну215. Гювен указывает, что число армян, эмигрировавших в Сирию за 18 месяцев с 1929 по 1930 г., составило 6373 человека216; Чагаптай, с другой стороны, отмечает, что количество людей, уехавших из Турции в Сирию, колеблется. Американские дипломаты указали численность в 10 000-20 000 человек217, тогда как британские дипломаты количество эмигрантов в 1930 г. оценили примерно в 2000–4000 человек218.
В то же время армяне, которые не могли обеспечить себя в Стамбуле, и особенно те, кто проживал во временных приютах, искали возможности возвращения в свои деревни или отъезда в эмиграцию. Между kaght’agayan и управлением общины возникала напряженность, так как в приютах устроить свою жизнь было невозможно. Государство актором в принципе не являлось, и в тех немногих случаях, когда оно вмешивалось, это происходило не на пользу kaght’agan. В 1934 г. «Нгар» (Ngar) – другая стамбульская газета – опубликовала отчет о том, насколько экономически нестабильным было положение провинциальных армянских kaght’agan в Стамбуле и как они по причине отсутствия доходов хотели вернуться обратно в свои деревни219. В марте того же года Ngar в одном из сообщений указала число 750 армян-kaght’agan в Стамбуле220. При этом неясно, шла ли речь о вновь прибывших или они уже какое-то время жили в городе. О положении общины в Стамбуле можно было бы сказать гораздо больше, как и об отношении к сиротам и женщинам и о продолжающемся притоке из провинций. Проблема с kaght agan, сиротами и женщинами была не просто статистической, но имела серьезные социально-политические последствия, для которых армянские газеты являются богатым источником. Так, например, «Панпер»221 опубликовал в апреле и мае 1933 г. две большие статьи о kaght’agan-центрах. Одним из них был центр в Саматье, который, согласно сообщению, с 1920-х гг. использовался как временный приют222. Армавени Мироглу (Armaveni Miroglu) также подтверждает, что армянская школа имени Нуняна Макрухяна (Nunyan Makruhyan) в Саматье с 1920 г. служила kaght’agan-центром, где все комнаты и залы были заполнены223. В альманахе [больницы] «Сурп Пргич» за 1932 г. указано, что в kaght’agan-центрах в Саматье и Ортакёй размещалось 800 человек, места которых немедленно занимали вновь прибывшие, стоило кому-либо покинуть центр224. Разумеется, в этих количествах не учитываются kaght’agan, приехавшие в Стамбул из провинций и нашедшие приют у родственников. Альманах за 1932 г. упоминает социальные проблемы, связанные с kaght’agan-центрами, лишь вскользь. В печати же появились многочисленные статьи с более точными данными и описанием как условий, так и социальных и экономических проблем. Так, все окна были закрыты бумагой, и в каждом углу дома жили kaght’agan всех возрастов. Согласно панперовской статье, в то время там жили 268 человек, 120 из которых были в возрасте 11 лет и младше225. Некоторые уже провели в этих центрах до десяти лет. Кроме того, в центрах были и мастерские; так, сообщается об одной женщине из Кайсери, ткущей ковер. В начале апреля 1933 г. из села Бебек (ВеБек) близ Йозгата прибыла еще одна волна kaght’agan; речь шла о 28 семьях – всего 147 человек226. «Нгар» называет число в 200 kaght’agan, прибывших в тот же день из Бебека, и в 350 из Бурункышла (Burunkişla), и сообщает, что Министерство внутренних дел издало приказ возвращать назад людей, направлявшихся в Стамбул, чтобы остановить миграцию227. Хотя министр и выразил требование к kaght’agan вернуться, но проблемы, с ними связанные, оставались нерешенными. Только в «Нор Лур» Вахана Тошикяна (Vahan Toşikyan) было опубликовано в 1935 г. более 20 сообщений на эту тему. В этом году один из двух центров в Саматье – здание, арендованное для новоприбывших из Йозгата (Burunkişla), – был закрыт. Эвакуация проходила с большими волнениями. Проживавшие там люди упорно протестовали против выселения, заявляли, что они голодны, у них нет денег и они не знают, куда идти228. Организация же по попечению (Khnamadarufiwn) переживала финансовый кризис и, согласно сообщениям, не могла более платить ежемесячную арендную плату. Снова и снова жильцы направляли петиции в Центральное управление Армянского национального попечения и умоляли разрешить им остаться. Вероятно, в связи с организованной в Советскую Армению эмиграцией, которая должна была начаться в 1933 г. и продлиться до 1936 г., они обратились – когда ответа по-прежнему не было – в организацию еще раз и попросили об экстренной помощи в их отправке в Ереван229.
Когда и эта попытка потерпела неудачу, они вновь обратились в управление и попросили денег, с тем чтобы вернуться в родные места в провинциях230. Однако ни один из их запросов не был удовлетворен. Наконец они связались с офисом губернатора Стамбула и пожаловались на Армянское национальное попечение. С этого момента к проблеме были привлечены также представители правительства. Они вели переговоры с Управлением попечительской организации и выяснили, что у того нет средств на аренду очередного здания для вновь прибывших. Оставшиеся kaght’agan могли либо переехать в другое здание в Саматье (Samatya), либо в центр, располагавшийся в Ортакёе (Ortaköy)231. 16 ноября 1935 г. «Нор Лур» сообщил, что после эвакуации второго центра в Саматье сотрудники канцелярии губернатора проинспектировали как оставшийся kaght’agan-центр в Саматье, так и центр в Ортакёе и установили, что первый был переполнен232. Согласно другому сообщению, в Саматье проживало 320 человек233. Газета также сообщила об эвакуации в Ускюдаре и опубликовала письмо читателя с подписью «Житель района». Согласно этому письму, армянская kaght’agan-семья жила в бараке, принадлежавшем Армянской национальной больнице «Сурп Пргич» на улице Арапзаде (Arapzade) в Ускюдаре. Однажды вечером г-н [Охан] Гоганян (Ohan Goganyan), который отвечал за имущество больницы, явился с полицией и выселил эту семью. Впоследствии она нашла приют в доме своих турецких соседей. Автор письма считал выселение незаконным и добавил, что касательно этого барака речь шла не о годном для сдачи в аренду доме (до того, как туда въехала та семья, он года три-четыре стоял пустой)234.
Положение Армянского национального попечения было таким же тяжелым. Статьи в «Нор Лур» призывали читателей поддержать общину в ее заботе о детях-сиротах и армянах, приехавших из провинции. От голода люди целыми днями ждали перед зданием попечения. Управление Армянской национальной попечительской организации обратилось в больницу «Сурп Пргич» с просьбой помочь принять от восьми до десяти инвалидов и детей-сирот, поскольку ситуация вышла из-под контроля235. По другому сообщению, администрация проигнорировала просьбу священника Кайсери принять двух сирот, так как, по ее мнению, сначала следовало объединить детские дома и только затем посмотреть, что можно было бы сделать236. В ежегоднике больницы «Сурп Пргич» за 1939 г. содержится дополнительная информация по проблеме сирот и детей-kaght’agan: 535 учеников-kaghtagan находилось в «очень тяжелом положении» (kaghtagan garod usa-noghner)237; 150 придется жить за пределами kaght’agan-центров238, вероятно, при финансовой поддержке общественных организаций. Та же информация уже была опубликована в ежегоднике за 1938 г.; неясно, были ли числа просто скопированы или посчитаны заново239. Тем не менее оба ежегодника ясно дают понять, хотя и без подробностей, что kaghtagan-центры все еще были открыты, из чего видно, что некоторый бюджет у них был.
Нет сомнений в том, что справляться с социально-политическими проблемами kaghtagan в Стамбуле было чрезвычайно сложно. Согласно сообщениям прессы, ни Организация попечения, ни Армянская национальная больница не могли помочь всем людям, прибывавшим из провинций, что, в свою очередь, приводило к серьезным проблемам между прибывшими армянами и органами управления стамбульской общины. При чтении этих сообщений создается впечатление, что члены армянской администрации из страха перед насилием старались избегать прямого контакта с новоприбывшими. Закрыты были kaghtagan-центры в конце 1930-х гг. Но и после этого армяне продолжали покидать провинции и направляться в Стамбул.
А. В., род. в Кютахье (Kütahya), 1945 г., армянка из семьи, которая была изгнана из Халвори (Halvori, деревня близ Дерсима), впоследствии поселившаяся в селе Айвалы (Ayvali) близ Кютахьи, ныне живет в Мюнхене. В интервью она сообщила мне, что даже жизнь в Стамбуле не решила бы ее проблем. В Кютахье ее семья была насильственно обращена в ислам; им была запрещена встреча с родственниками, которые были изгнаны и переселены в другие деревни близ Кютахьи. Поэтому зарегистрирована она была бы как турчанка-мусульманка. У всех членов семьи были турецкие имена и фамилии. Только старшие члены семьи знали армянский и тайком говорили на нем между собой. Семья переехала из Кютахьи в Стамбул и поселилась в Гедикпаше (Gedikpaşa)240. Там уже проживало много армян, изгнанных из Дерсима. Сразу по прибытии в Стамбул мать сообщила им, что они армянские христиане.
К армянской общине в Стамбуле доступа мы не нашли. <…> Мы все страдали от голода; стар и млад должны были идти работать, поэтому я по прибытии в Стамбул начала работать в Gürün Han. <…> В Гедикпаше жили почти одни армяне. <…> Мы не могли научиться армянскому. А как иначе – мы ведь приехали из деревни. Мы выглядели как дачики [турки]… Можно ведь было взять меня за руку и сказать: «Давай, девочка, я научу тебя вечером армянскому», но этого никто не сделал. На нас смотрели свысока. <…> Мой младший брат ходил в турецкую школу. Нужен был кто-то, кто сказал бы нам, что мы должны ходить в школу. <…> Меня в школу не посылали241.
В 15 лет она была помолвлена с армянином из Дерсима, с которым не была знакома. Несколько лет спустя А. В. со своей семьей приехала работать в Германию, где живет и по сей день.
Армяне из провинций всегда были в самом низу во всех властных структурах. История А. В., как и другие истории, показывает, что многие армяне пережили принудительную исламизацию как еще одну форму отчуждения. Это подготовило почву для того, чтобы в 1960-х и 1970-х гг. множество провинциальных армян покинуло Турцию.
S. 966–967. Ср. также: Vahe Tachjian. La France en Cilicie et en Haute-Mesopotamie: Aux Confins de la Turquie, de la Syrie et de ITrak (1919–1933). Paris: Edition Karthala, 2004. S. 259–260.
Beeid Basimevi, 1949. S. 90.
Turk? London-New York: Routledge PubL, 2006. S. 33.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+27
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе