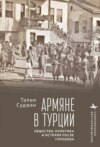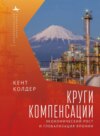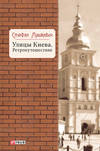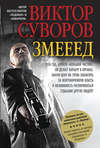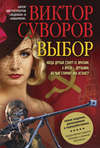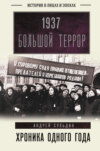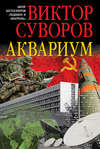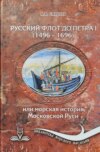Читать книгу: «Армяне в Турции. Общество, политика и история после геноцида», страница 3
Теоретические предпосылки: габитус и диаспора
Габитус
Для описания турецкой истории и для раскрытия своей аргументации я ввожу в этой книге два концепта: габитус68 и диаспора. Словом «габитус» я называю сферы и структуры, в которых совершаются и нормализуются социальные практики и отношения между государством и обществом. Эти процессы, как показывают мои исследования, описывает в первую очередь автобиографическое знание. Понятия биографического и автобиографического знания обычно применяются в психологии69, в исследованиях памяти и амнезии. Я их использую, чтобы определить знание, которое исходит из опыта и передается от одного поколения к другому. Эта тема раскрывается в семейных исследованиях70. Научная работа, связанная с семьями, развилась как часть изучения Холокоста, и в Турции пока нет ничего подобного. Ядро этого знания составляет семейная история – рассказы, которые родители переняли от своих родителей, история мест жительства, ежедневные практики и личный опыт человека. Передача знания от поколения к поколению способствует тому, что оно становится частью семейной жизни, и никто не задумывается о том, какую функцию оно выполняет. Работа с воспоминаниями и интервью дала мне понять, что знание об отрицании имманентно и до сих пор передается внутри семьи.
Люди, у которых я брала интервью, родились и выросли в Турции. Одни из них эмигрировали, другие – нет. Но все их рассказы указывают на присутствие автобиографического знания. Оно мне было уже знакомо по опыту моей собственной социации. Лоик Вакан (Loic Wacquant) определяет социацию как «категории суждения и действия, исходящие от общества… которые разделяют все, на кого воздействовали схожие социальные условия и обусловливание»71, что помогает человеку научиться жить в конкретном обществе. Практики и социации, упоминавшиеся в интервью, составляли тот самый мир, в котором я родилась и выросла и который я по-новому узнала в процессе исследований. А другие типы источников познакомили меня с миром рукописных и печатных документов, свидетельствующих о том, что существует целый ряд сконструированных ценностей, ежедневных практик и механизмов, которые отрицают опыт выживших. Другими словами: отрицание становится главным механизмом социации и индивидуации, несмотря на то что существуют еще те, кто пережил катастрофу, несмотря на всё их бытие, их опыт, знание, все рассказанные и не рассказанные воспоминания. В интервью создавалось новое пространство, которое чем-то соответствовало их опыту, а чем-то – тому, что они делали с этим опытом. Знакомство с опытом моих собеседников, которым иногда было сложно о нем говорить, и то обстоятельство, что этот опыт они воспринимали как нормальный, как часть их привычной жизни, навело меня на мысль о концепте габитуса, который разработал Пьер Бурдьё (Pierre Bourdieu). Сходство было в первую очередь в том, что теория габитуса была создана как способ осознать практики: «Моей задачей было помыслить непосредственную логику практики… для этого я разработал теорию практики, как плод практического смысла»72. Идея габитуса позволяет шире и глубже понять практики, которые стали нормализованы. Рутина и норма мыслятся как структура, которую создает габитус: «Габитус как структурирующая и структурированная структура воздействует на практики и мысли»73. Эти практики и мысли составляют мир банальностей, который на самом деле представляет собой структуру, сложившуюся в результате определенной социации.
Вакан развивает мысль Бурдьё. Для него габитус – это «древнее философское понятие, источники которого мы находим в мысли Аристотеля и средневековых схоластиков. В 1960-е гг. его переоткрыл и переработал социолог Пьер Бурдьё, который создал диспозициональную теорию габитуса»74. Норберт Элиас использует этот термин уже в 1937 г. в своей книге «О процессе цивилизации» (Über den Prozess der Zivilisation), а Бурдьё начинает свою работу над этой теорией в 1970-х гг. Вакан находит в работе Бурдьё, который был глубоко погружен в философскую дискуссию по этой теме, основательное социологическое переосмысление этого концепта. Понятие габитуса снимает оппозицию между объективизмом и субъективизмом. Посредством габитуса уничтожается общепризнанный разрыв между индивидом и обществом, он воплощает «овнутрение внешнего и овнешнение внутреннего», то есть следы общественного воздействия, которые сохраняются в индивиде в виде устойчивых диспозиций, выученных способностей и структурированных склонностей, направляющих мысли, чувства действия. <…> Габитус – это механизм одновременно социации и индивидуации; социации – потому что наши категории суждения и действия происходят от общества и разделяются всеми, на кого воздействовали схожие социальные условия и обусловленности (так, можно говорить о маскулинном габитусе, национальном, буржуазном и т. д.); а индивидуации – потому что каждый человек идет своим путем, занимает в мире свою особую позицию, и схемы, которые в нем интернализованы, ранее никогда не встречались в такой комбинации. Габитус одновременно структурирован (более ранними социальными комбинациями) и структурирует (через репрезентации и действия, которые происходят сейчас). Его можно описать как «невыбранный принцип, который стоит за всеми возможными выборами». Габитус направляет и ограничивает действия так, что они складываются в систему и приобретают характер стратегий, даже несмотря на то что они никогда не были частью осознанного стратегического плана, а объективно «согласованы и гармонично разыграны, как бы оркестром, хотя никакой дирижер их не организовал»75.
Представление о том, что «овнутрение внешнего» и «овнешнение внутреннего» одновременно являются частью и процесса социации, и процесса индивидуации, помогает лучше понять, как формируется автобиографическое знание и совершаются повседневные действия. Габитус создает структуру этого знания и дает способность выбирать действие. Как замечает Бурдьё, стратегии выбора имеют систематический характер, даже если за ними не стоит осознанного стратегического намерения или если индивид не в полной мере сознает последствия своих выборов. Это не отменяет значимости индивида как действующего лица: Бурдьё подчеркивает, что человеческие действия нельзя свести к непосредственным реакциям на прямые стимулы; их нужно понимать в контексте уже имеющихся отношений76. Это определение предполагает наличие целого ряда норм и закономерностей, которые действуют в той или иной ситуации и создают логику, по которой строится структура социальной жизни в данном историческом контексте. Если соединить этот социальный подход с индивидуальным правом выбора, мы получим два параллельных, но асимметричных процесса, которые можно наблюдать в республиканской Турции. С одной стороны, формируются, в том числе при поддержке из-за границы, новые сферы власти – правоохранительные органы, социально-экономические и культурно-политические поля, – которые поддерживают механизмы и репрезентации одной группы в ущерб другой. Другими словами, отдельные структуры и виды индивидуального выбора становятся приоритетными в турецком обществе и с легкостью мобилизуются против других видов, и это разделение на ранги укоренилось в практиках повседневной жизни. С другой стороны, те институциональные и личные нормы, которые считались приоритетными, подавляли другие нормы – структуры жизни немусульманского и нетурецкого населения.
В рамках этого исследования мы обратим особое внимание на то, как этот процесс затронул армянскую общину. Если использовать термины Бурдьё, то это будет реакция на отношение, которое уже встроено в контекст истории.
Рассматривая внешние условия (общество и социальные структуры, внутри которых я живу) и внутренние структуры (сообщество и семья, частью которых я являюсь), я пришла к выводу, что переход к новому строю основывался на практиках отрицания. На разных уровнях отрицанию подверглись язык, история, уничтожение и факт выживания. При этом не существовало подходящей теории, которая представила бы полностью все социальные измерения отрицания. Был мир, который создавали одно поколение за другим при помощи практик и частью которого я сама являлась, но не было полноценного теоретического описания этих практик, которое позволило бы встроить их в систему производства знания. Опыт катастрофы и практики поколений так и не перешли в сферу абстрактного. Попытку это сделать представляет собой моя книга. Говоря об опыте и практиках катастрофы, я имею в виду жизнь в семье, где бабушки и дедушки были убиты или пропали без вести, истории похищения людей рассказываются как что-то нормальное, известно, что некоторые родственники сменили веру или что их имущество было конфисковано. Мы привыкли в разных ситуациях называть людей по-разному: одни имена для дома, другие для улицы. Мы использовали странные фамилии, которые армяне (и другие немусульманские нетурецкие сообщества) получили вследствие закона о фамилиях, оторванные от семейной истории, никак или почти никак не связанные с нашей групповой идентичностью. Нас вынуждали выбирать только определенные профессии или сферы работы, выдавливая – иногда на основании закона, иногда по ходу дела – из других сфер; нам можно было жить только в определенных частях города или в отдельных зданиях, предназначенных исключительно для немусульман. Мы привыкли, что в некоторых местах нельзя разговаривать на нашем родном языке. Мы разработали множество стратегий, которые позволяли скрывать наше существование. Слово «существование» я использую, потому что считаю, что эти стратегии позволяли не только не привлекать внимания к своей идентичности, но и в принципе оставаться невидимкой, делать так, чтобы тебя замечали, то есть чтобы ты существовал только в своем сообществе. Оба этих социальных измерения определялись габитусом отрицания. Жить в них означало быть частью отрицания.
Но даже в этих условиях отрицание, которое практиковали потомки выживших, отличалось от того, которое насаждали потомки преступников. Обе эти группы воспроизводили отрицание, но потомки преступников продолжали этим совершать свое преступление, а потомки жертв продолжали быть жертвами, даже если их образ жизни был таков, что они сами участвовали в процессе виктимизации. В качестве теоретического описания материалов, которые я проанализировала в ходе этого исследования, я предлагаю понятие, которое определяет структуры, структурирующие структуры: постгеноцидалъный габитус отрицания. Приставка «пост» не означает здесь, что геноцид закончился. Напротив – катастрофа, в которой погибает целый народ, никогда не закончится, после нее невозможно вернуться к нормальному состоянию вещей. Однако физическое насилие и связанная с ним политика приобретают особые характеристики в фазе «кристаллизации» этой политики. Приставка «пост» как раз и отсылает к этому периоду кристаллизации, во время которого вводились исключительно геноцидальные политические стратегии, а отрицание катастрофы превратилось в абстрактную структуру и проникло во все сферы жизни в форме габитуса, который просуществовал не один десяток лет – вплоть до сегодняшнего дня.
Габитус можно распознать только в контексте определенных ситуаций; он порождает определенные дискурсы и практики только по отношению к конкретным структурам77. Однако эти практики могут иметь самые разные результаты. В моей интерпретации этот аспект габитуса воплощает, например, борьба за равенство, которую вели армянские интеллектуалы из круга Nor Or — я называю их поколением Nor Or — в период и в условиях отрицания. Однако борьба против этого габитуса привела к иному результату – они сами оказались подвергнуты отрицанию и преследованию. Представители поколения Nor Or оказались либо в тюрьме, либо в изгнании, они потеряли связь с сообществом, в котором родились, и их работы на десятки лет пропали из поля общественного зрения.
В этом исследовании я исхожу из того, что интернализуются и воспроизводятся индивидом не только общее институциональное влияние, но и различия, сконструированные институтами, что усиливает габитус. Более того, термин «различие» появляется в одном из определений габитуса: «Габитус лежит в основе стратегий воспроизведения, которые поддерживают существование разделений, зазоров и отношений приказов и приказания и в сочетании с практикой (пусть даже не всегда осознанно или намеренно) воспроизводят общую систему различий, составляющую социальный порядок»78. Этническая принадлежность, культура, воспитание, язык и социально-экономические условия могут легко быть использованы для того, чтобы создать систему различий. Интернализованная система различий и исключений может, например, определять, кто принимает участие в социальных и институциональных структурах. Однако в контексте геноцида все эти системы заостряются и принимают особое значение. Поэтому можно сказать, что, если после 1923 г. Турецкое государство провозглашало равенство всех граждан, это был только дискурсивный инструмент для того, чтобы представить борьбу армян (и других немусульманских и нетурецких сообществ) как ненужную. На практике это был способ воспроизводить различия под маской равенства.
В этом случае габитус охватывает, запускает и структурирует всю государственную политику и социализированные субъективности79 в таких «полях» (используя термин Бурдьё), как правовое (сюда входят закон о перемещении, закон о церковных организациях, отказ признавать права, закрепленные в Лозаннском договоре, который выразился в фактическом запрете открывать армянские школы в провинциях, юридических практиках, таких как конфискации имущества организаций, и судебные процессы по обвинению в «очернении турецкости»), академическое (избирательное производство знания с очевидной целью, особая поддержка тем, методов и идей, которые способствовали отрицанию, недоступность архивов) и социальное (постоянные приставания, дискриминация и расистские выпады на улице, в школах, от соседей и коллег). Постгеноцидальный габитус отрицания создает целое мировоззрение и целый мир практик.
Бурдьё критиковали за то, как он определяет индивидуальное право выбора (agency), а также за то, что он приписывает истории главную роль в социации индивида и подчеркивает место социальных отношений в воспроизведении габитуса80. Но, например, Штейнмец считает, что Бурдьё предупреждает против того, чтобы выводить социальные практики из следования правилам и редуцировать социальных агентов до роли «носителей понятий или теорий»81. Социальные отношения, такие как признание в обществе и престиж, возможность построить значимую карьеру, иметь стабильный доход, участвовать в механизмах управления и т. п., обуславливают взаимодействие агентов – тех, кто совершает действия, – и репродукцию габитуса отрицания. Если для большей части турецкого общества габитус отрицания был выгоден, то для немусульманской и нетурецкой части населения он конструировал пространство невидимости и несуществования или же – как в случае с армянскими членами парламента – место, строго определенное габитусом отрицания. Воспроизведение отрицания имплицитно включено в «соглашение» (agreement), оно составляет необходимое условие, предмет непроговоренной договоренности или – если вернуться к терминам Бурдьё, – предмет «здравого смысла» (common sense):
Один из важнейших результатов согласования между практическим чувством и объективированным смыслом [в габитусе] – формирование мира здравого смысла (sens commun), непосредственная очевидность которого удваивается объективностью, обеспечивающей консенсус в отношении смысла практик и мира, т. е. гармонизацией опытов и постоянным подкреплением, которое каждый из них получает из выражений индивидуальных или коллективных (например, во время празднований), импровизированных или запланированных (присказки, поговорки), выражений сходства или тождественности82.
Спонтанные или данные заранее, коллективные или индивидуальные, схожие или тождественные – любые переживания встраиваются в точки пересечения между официальной политикой и общественной реакцией, которые – как я утверждаю – нельзя объяснить простым совпадением, потому что геноцид совершается как дело, а не как бездействие83. Чем глубже обычные люди втягиваются в совершение преступления благодаря тому, что они получают от него пользу, там проще оказывается воспроизводить отрицание. Эта польза не обязательно должна быть материальной. В последние годы существования Османской империи государство, основные законы и структура общества претерпели значительные изменения. В следующие десятилетия их последствия были заметны в структуре классов, культуре, архитектуре, экономике, повседневном устройстве и во всех прочих сферах жизни, включая даже природу. В конце концов отрицание стало частью обычной жизни и важной характеристикой государства или, как пишет Бурдьё, давая определение габитуса, «инкорпорированной историей, ставшей натурой и тем самым забытой как таковая»84, – не чем-то специфическим, а привычным, нормальным, тем, что «делается».
Научные труды об истории Турции несут в себе идеи отрицания. Приведу пример из недавнего времени, который показывает, как – с использованием понятия габитуса – отрицается история и регулируется производство знания. Это понятие редко можно встретить в работах, посвященных турецкой истории. У Айше Зараколь (Аyşe Zarakol) недавно вышла книга, основанная на ее диссертации, которая называется Yenilgiden Sonra Dogu Bati ile YaşamayıNasil Ögrendi («Как Восток научился жить после нанесенного Западом поражения»). При помощи понятия габитуса она сравнивает Турцию в период с 1918 по 1939 г., Японию (с 1945 по 1974) и Россию (с 1990 по 2007)85. Для нее габитус – это не социальная теория, а инструмент, при помощи которого она анализирует проблемы восприятия в международных отношениях. Зараколь рассматривает габитус в контексте взаимоотношений государства и международных акторов и практически не обращает внимания на социальную среду, за исключением единственной ссылки на «турок»86. Хотя слово «общество» появляется в определении габитуса как концепта, роль общества в его воспроизведении и то, как эти механизмы действуют внутри Турции, остается за кадром87.
Концепт объясняется во второй главе ее труда, где Зараколь говорит о «влиянии запятнанной национальной идентичности»88. По представлению Зараколь, у трех стран, которые перестали быть империями, есть две общие характеристики габитуса: в процессе построения современной нации ее идентичность остается «запятнана» «отсталостью», и кажется, что прошлое было более великим и затмевает настоящее89. Исходя из этого, Зараколь говорит, что все случаи, которые влияют на формирование государства, занимают важное место в национальном габитусе. Следовательно, то, что отличает Османскую империю от Японии и России, – это «травма, нанесенная империи христианами», которые «ударили империю в спину»90, – важное замечание, которое она без понятных причин оставляет в кавычках и далее не разрабатывает. Зараколь ведет безостановочный подсчет потерь, которые понесла великая империя, – это, видимо, должно объяснить паранойю, которая пронизывает «турецкое мышление»91. В идее габитуса, которую разрабатывает Зараколь, не находится места геноциду, изгнанию, депортациям, конфискациям и другим подобным политическим действиям, несмотря на то что они совершались именно в процессе формирования республики. Не просто так на обложке книги изображены руины Ани – старой столицы средневекового армянского царства Багратидов, а текст начинается с описания реакций в Турции на номинацию Орхана Памука на Нобелевскую премию. Действительно, ее пересказ слов Памука – «массовое убийство армян»92 – выглядит обскурантизмом. Такой выбор слов воспроизводит парадигму отрицания. Удивительным образом определение Бурдьё, согласно которому история превращается в человеческую природу и отрицается как история, воплощается в обложке, структуре и тексте книги. Эта книга представляет собой пример постгеноцидального габитуса, одним из инструментов которого является манипуляция научными источниками – как по форме, так и по содержанию.
Социологические теории не так-то просто встроить в сферу гуманитарных наук. Однако Штейнмец считает, что основные компоненты теории Бурдьё по сути своей исторические: «На самом деле ядро проекта, который создает Бурдьё, составляют социальное воспроизведение и социальные изменения. Самые важные теоретические концепты Бурдьё – габитус, поле, культурный и социальный капитал – все по природе своей исторические. Вообще, для Бурдьё “любой социальный объект”»93. Как пишет сам Бурдьё о роли истории в формировании габитуса:
Являясь продуктом истории, габитус производит практики как индивидуальные, так и коллективные, а следовательно – саму историю в соответствии со схемами, порожденными историей. Он обеспечивает активное присутствие прошлого опыта, который, существуя в каждом организме в форме схем восприятия, мышления и действия, более верным способом, чем все формальные правила и все явным образом сформулированные нормы, дает гарантию тождества и постоянства практик во времени. Такая система диспозиций – прошлое, проникающее в настоящее и стремящееся продолжаться в будущем, актуализируясь в практиках, структурированных в соответствии с его принципами; и внутренний закон, через который непрерывно осуществляется закон внешней необходимости, несводимой к непосредственному, ситуативному принуждению, – есть основание преемственности и упорядоченности, которые объективизм, сам того не подозревая, приписывает социальным практикам94.
Здесь Бурдьё подмечает одну важную особенность, которая способствует долгой жизни габитуса. Эта особенность кажется нерациональной и, следовательно, сложной для понимания. Если габитус уже закрепился в истории, то он будет самостоятельно себя воспроизводить, даже если внешние условия изменятся. Для изменения габитуса потребуется кризисная ситуация, важный разрыв в истории – должно радикально измениться соотношение сил, поля и ситуации должны поменяться коренным образом. Период с 1915 по 1923 г. можно назвать, пользуясь терминологией Бурдьё, «временем кризиса», когда устоявшиеся соответствия между субъективным и объективным жестоко нарушаются95.
Как пишет Ермакофф: время кризиса – это время отделения. Практики больше не приводят к ожидаемым результатам. Диспозиции, унаследованные из прошлого, вдруг оказываются бесполезными и отделяются от требований и императивов, действующих в новой ситуации. Они теряют релевантность. Таким образом, авторы вступают в конфликт с миром, который возникает у них на глазах96.
Если после 1923 г. появляется сильно институционализированное отрицание, которое я описываю в первой главе, то в период до 1915 г. действовали иные правила социации, официальной и социальной репрезентации, иные механизмы управления и политического сотрудничества и иные способы участия в жизни государства. Было и много других отличий, которые остались за рамками моего исследования. Важно помнить, насколько яркими были эти отличия и насколько жесткими стали перемены, но при этом не идеализировать более раннее время. Только с учетом этого можно перейти к анализу постгеноцидальных структур и практики, которые встроены в систему отрицания.
В истории Турции было много кризисных моментов – например, территориальные претензии СССР и армянских организаций, выдвинутые после Второй мировой войны на конференции в Сан-Франциско, но ни один из них не смог изменить ценности, нормы и расстановку сил, которые сложились с 1915/1916 по 1923 г. Важно, что эти нормы и ценности были связаны с общепризнанным положением дел на международной арене. Поэтому исторические перемены, которые могли бы преодолеть отрицание в Турции, сталкивались со сложными, многогранными расстановками сил. Уже Бурдьё пишет, что
…габитус – это не судьба, которую в него иногда впитывают. Поскольку габитус является продуктом истории, это открытая система диспозиций, постоянно испытывающая воздействие различных событий, которые закрепляют или перестраивают ее структуры. Габитус живет долго, но не вечно!97
В ситуации геноцида и отрицания теория габитуса предлагает возможность изменения или трансформации. Однако для этого потребуется время, а механизмы государственного и социального устройства настолько сложносоставные, что потребуется много кризисов и, соответственно, много трансформаций в различных сферах, прежде чем мы увидим изменения и реструктуризацию повседневной жизни. Другими словами: габитус должен показать свою устарелость или несостоятельность на протяжении нескольких поколений. Хотя акторы габитуса потенциально могут изменить общественные и институциональные ряды практик и социации, если они признают наличие габитуса и поставят под вопрос его механизмы, системы ценностей и регулируемые им практики, для такого решения им потребуется значимое обоснование. Было бы полезно для будущих исследований сравнить Германию после Второй мировой и Турцию после геноцида 1915 г., чтобы осмыслить разницу между признанием преступления в Германии и его отрицанием в Турции, изучить постгеноцидальный габитус отрицания и описать разные аспекты габитуса признания – институциональный, экономический и политический. Если – как в случае Германии – на протяжении десятилетий развивается новый набор норм и ценностей, то за этим тоже стоит кризис и долгая борьба98.
Диаспора
Исход в диаспору – это второй важный концепт, который я ввожу для того, чтобы дать теоретическое описание периода после основания республики на основе материалов, представленных в моем исследовании. После долгого периода изгнания и вынужденного переселения армянское присутствие в Малой Азии и Северной Месопотамии подошло к концу. Воссоздание армянских культуры и языка было подавлено; права, закрепленные в Лозаннском договоре, не соблюдались (например, армянские школы в провинциях остались закрыты)99, людей заставляли переезжать в связи с выдуманными соображениями якобы безопасности (а оставшиеся в Турции армяне классифицировались либо как иностранцы100, либо как внутренние враги), места культа и культурного наследия армян были разрушены, и в целом в обществе создавалось антиармянское настроение. В 1920-е и 1930-е гг. продолжился массовый исход армян в Стамбул и в Сирию. В этой книге я прослеживаю то, как оставшиеся в Турции армяне постепенно теряли свои структуры и свое место в обществе. После образования республики армянская община переместилась в диаспору. При этом первые три десятилетия существования республики особенно важны для понимания того, как формировалась диаспора в Турции.
Вопрос о том, как в правовом и социальном плане была устроена жизнь оставшихся в Турции армян, во многом связан с юридической терминологией, которая сложилась в национальном государстве, то есть с идей «меньшинства». Однако, как показывают Акчам (Ak^am) и Курт (Kurt), христиане и евреи, которые еще проживали в Турции, не мыслились как «меньшинства», потому что Турецкая Республика не была основана в процессе уничтожения этих групп101. Необходимо прояснить терминологию. «Меньшинство» – это в первую очередь юридическая категория, которая скрывает факт геноцида и других преступлений, что легитимизирует их результат. В понятие «меньшинство» вкладывается ряд концептов, которые связаны с национальным государством, то есть с парадигмой, где большинство является «народом», а меньшинство – «иными». Обе эти категории воображаемые и – что еще важнее – как показывается в этой книге, структуры управления немусульманами, унаследованные от Османской империи, необязательно соотносятся с принципами национального государства. Кроме того, слово «меньшинство» затрудняет анализ, потому что оно подразумевает «небольшую группу», которая противостоит большинству. Стоит посмотреть с другой стороны: всё, что связано с «меньшинством», в первую очередь говорит о большинстве. Есть еще одна проблема с терминологией. Допустим, мы хотим найти самое общее слово для описания категорий людей, которые так или иначе испытывали в Турции дискриминацию или повседневный расизм, – это слово будет «немусульмане». Однако в Османской империи немусульманских групп было много, все они имели разные права, у каждой были свои социополитические или юридические особенности. Поэтому я решила называть каждую группу собственым именем и не использовать общего термина. В этой книге речь идет прежде всего об армянах, потому что я опиралась в первую очередь на связанные с ними источники. Это не означает, что те же законы и дискриминационные настроения не касались также других групп. Иногда действительно жертвами становились только армяне, иногда – нет. Однако мне просто не хватило необходимого материала для разговора о каждой отдельной группе. К тому же я не уверена, что можно создать общий портрет дискриминируемых групп, поскольку даже юридические положения, унаследованные от Османской империи, приводили в разных случаях к совершенно разным результатам.
Формирование армянской диаспоры после 1915 г. – это результат геноцида. Поэтому нет категориальной разницы между выжившими армянами в Малатье, Орду или Глендейле, а также между армянами из Диярбакыра, которые живут в Сан-Франциско, и армянами из Диярбакыра в Стамбуле. Конечно, их образ жизни и вопросы, которые они решают ежедневно, различаются, но причина, по которой все они живут не там, где жили их предки, одна и та же. Кроме того, мир турецких армян изменился еще и в связи с вытеснением их административных и юридических структур в первые десятилетия существования Турецкой Республики. Если опустить подробности, они потеряли право на репрезентацию и на создание практически любых организаций. Правовые и социальные основания для продолжения армянской жизни в Стамбуле и Малой Азии были уничтожены. Этот процесс описывается в первой главе моей книги. А во второй и четвертой главах рассказывается, как возникла диаспора, как армяне потеряли приобретенные ими права и превратились просто в «общину, составляющую меньшинство», как они столкнулись с тем фактом, что они больше не являются важной составляющей частью государства и общества, так что их самоопределение как «миллет» (Millet) оставалось релевантным только в одном случае – если армянам нужно было себя отрицать.
Оставшиеся в Турции армяне не называли себя диаспорой. Однако основатель академического журнала Diaspora («Диаспора»), Хачиг Тололян (Khachig Tölölyan), применил это слово к армянской общине в Стамбуле еще до 1915 г.:
C. Clough. Cambridge-Oxford: Polity Press, 1996. S. 3.
v/1 (2011). S. 51. См. также: James Bohman. Practical reason and cultural constraint: Agency in Bourdieu’s theory of practice // Richard Shusterman (Hg.). Bourdieu: A Critical Reader. Oxford: Blackwell, 1999. S. 129–152; Ciaran Cronin. Bourdieu and Foucault on power and modernity // Philosophy and Social Criticism. xxii/6 (1996). S. 55–85.
Seizure of Armenian Property. London: Continuum International PubL, 2011. S. 12.
Начислим
+27
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе