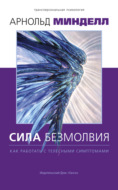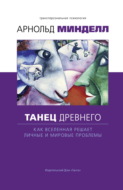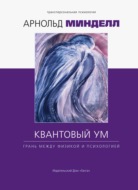Читать книгу: «Основания духовности. Семь главных практик для пробуждения сердца и ума», страница 3
Глава 4.
Духовные практики: что они делают и как они это делают
Мало-помалу взрослей.
В этом суть того, что я хочу сказать.
Из зародыша в утробе, питаемого
материнской кровью,
становись младенцем, пьющим
молоко,
потом ребенком, способным есть
твердую пищу,
потом искателем мудрости
и ловцом неуловимого.
Руми
Что делают духовные практики и как в точности они это делают?
Освященные веками ответы на этот вопрос гласят, что боги вмешиваются в нашу жизнь и что практики преобразуют жизненную энергию, например, путем подъема энергии Кундалини или за счет уравновешивания потоков энергий инь и ян. Однако наиболее распространенные и красочные описания связаны с метафорами.
Метафоры духовного роста
Метафоры – это фигуры речи, в которых мы описываем одну вещь – обычно нечто тонкое или трудно постижимое – с помощью чего-то другого, более конкретного и понятного. Духовные переживания и преобразования по самой своей природе зачастую бывают тонкими и неопределимыми, и потому существует множество их метафорических описаний. Каждая метафора иллюстрирует какой-то аспект духовного развития, и вместе они рисуют богатую и многогранную картину того, каким образом духовные практики оказывают свои разнообразные воздействия. Ниже приводятся некоторые из наиболее эффективных «метафор трансформации», которые описывают духовный рост и могут служить для него руководством.
Пробуждение: мудрецы говорят, что обычно мы пребываем в полусознательном состоянии и духовные практики пробуждают нас от этой дремоты.
Дегипнотизация: утверждают, что наша дремота – это своего рода транс или гипноз. Под гипнозом люди пребывают в суженном состоянии сознания, в котором их восприятие и поведение по большей части ограничены внушениями других людей. В то же время в гипнотическом состоянии люди обычно не осознают ни своих ограничений, ни того факта, что их загипнотизировали. Только по выходе из гипноза они освобождаются и понимают, что находились в трансе. Духовные практики освобождают нас от коллективного транса, в который мы все погружены.
Просветление: согласно этой метафоре, мы бродим вслепую во внутренней тьме, а духовные дисциплины приносят нам понимание, свет и возможность видеть.
Раскрытие: говорят, что наша подлинная природа, или Самость, скрыта или замаскирована от сознания, но духовные дисциплины разрушают эти покровы и восстанавливают осознание нашей истинной сущности.
Свобода: утверждается, что мы порабощены нашими изменчивыми побуждениями и эмоциями, но, укрощая их, становимся свободными.
Метаморфоз: духовные практики преображают нас, подобно тому, как природа преобразует гусеницу в изящную бабочку.
Развертывание: красота нераспустившейся розы может быть скрытой, но она уже существует в бутоне. Точно так же наши трансцендентные красота и потенциал скрыты внутри, и духовные практики помогают нам распускаться и цвести.
Целостность: и духовные традиции, и современная психология полагают, что наш ум прискорбно расщеплен и диссоциирован на враждующие фрагменты. Духовные практики исцеляют и воссоединяют ум, восстанавливая в нас единство сознания и цели.
Путешествие: эта метафора подразумевает, что мы движемся к некоторой цели. Цель кажется нам чем-то очень далеким, однако духовная мудрость открывает нам, что цель – это наша Самость, и она всегда пребывает здесь и теперь, ожидая лишь нашего узнавания и вспоминания в этот и всякий другой момент.
Смерть и возрождение: старая ложная самость должна уйти, уступив место новой и подлинной самости. Духовные практики делают нас достаточно сильными, чтобы мы были готовы умереть – ибо отказ от нашего прежнего образа себя может восприниматься как смерть. Из пепла эго восстает, подобно фениксу, новый образ себя. Этот новый образ сам будет многократно умирать и возрождаться, пока мы наконец не поймем, что то, чем и кем мы являемся на самом деле, далеко превосходит все образы и понятия. Тогда у нас больше нет образа себя, который мог бы умереть, и остается только то, что бессмертно.
Ускорение развития
Кроме того, настоящие духовные практики способствуют развитию. Духовные дисциплины заново запускают или ускоряют психологический и духовный рост, начиная с того уровня, на котором мы застряли, и помогая нам расти за его пределы. Эта идея прекрасно согласуется с современными исследованиями.
Стадии развития
В настоящее время в психологии считается общепринятым, что человеческое развитие проходит через три основные стадии: доконвенциональную, конвенциональную и постконвенциональную3, которые также называют доличностной, личностной и надличностной, или трансперсональной. Мы рождаемся на доличностной и доконвенциональной стадии беспомощными и не подготовленными к жизни в обществе, не имея ясного представления о себе самих как людях и об условностях общества. Затем мы подвергаемся постепенному окультуриванию – неформально семьей и окружающей средой и формально – системой образования.
Таким образом, мы знакомимся с общепринятыми взглядами – и попадаем под их гипноз. По большей части наши восприятие и поступки начинают соответствовать общественным нормам. Мы становимся склонными считать верования своей культуры истинными, ее мораль – правильной, ее ценности – достойными. Мы также принимаем ее мировоззрение – общепринятую картину мира и нашего места в ней. Мы взрослеем, достигая личностной/конвенциональной стадии, и прочно усваиваем ее представления о реальности. К счастью, в таком обусловленном, или общепринятом, мировоззрении немало ценного.
Ограничения обычной жизни
Однако во все времена и во всех культурах мудрые люди сетовали на ограничения обусловленного развития. Обусловленность связана с замутненным сознанием и неподлинным, не приносящим удовлетворения образом жизни. На Востоке такое искаженное восприятие называют майей – иллюзией, или сном.
Сходные представления существуют и в западных традициях. И ислам, и христианство говорят, что наше видение затуманено, а философы-экзистенциалисты жалуются на бездумный и поверхностный характер обычной жизни. Некоторые психологи утверждают, что мы живем в состоянии «согласованного транса» или «коллективного гипноза», который в своих худших проявлениях варварских войн или массового геноцида становится «коллективным психозом». Уильям Джеймс, которого нередко называют величайшим американским психологом и философом, с присущей ему язвительностью так охарактеризовал наше состояние:
По сравнению с тем, чем мы должны быть, мы наполовину спим.
Наше пламя едва теплится в отсутствие тяги; мы используем лишь малую часть своих умственных и физических возможностей.
Все эти взгляды с Востока и Запада, из религии, философии и психологии, сводятся к одному поразительному выводу, имеющему огромное значение: мы лишь наполовину развились и наполовину проснулись. Развитие протекает от доконвенциональной к конвенциональной стадии, но затем полностью застревает в полусознательном трансе. Обычно мы не отдаем себе отчета в этом трансе по нескольким причинам: мы с младенчества подвергаемся гипнозу, все без исключения пребываем в нем и оказываемся приверженцами величайшего в мире культа, именуемого культурой. Понимание этих фактов проливает свет на причины значительной части страданий в нашей жизни, сумятицы в наших отношениях и трагедий в мире.
Преимущества дальнейшего роста
Хорошая новость состоит в том, что конвенциональная стадия жизни может быть не конечным пунктом, а трамплином. Недавно психология заново открыла то, что давно утверждали философы, подобные Платону и Гегелю, и что испокон веков провозглашали великие религии: возможно дальнейшее развитие. Наше обычное обусловленное состояние может быть своего рода коллективной задержкой в развитии, однако это развитие может идти гораздо дальше того, что мы всегда считали пределами здоровья и нормальности. Обычно мы не отдаем себе отчета в том, что в нас заключен огромный потенциал роста и что с более высокими стадиями духовного роста неразрывно связаны и более высокие уровни надличностной, надсоциальной зрелости. Духовные практики – это те инструменты, которые делают такой рост возможным.
Тем, кто достигает более высоких стадий, жизнь, любовь, отношения и игра приносят гораздо больше пользы и удовлетворения, чем менее зрелым людям. Подробнее о том, что представляют собой эти более высокие стадии, будет говориться в последующих главах, однако приводимый ниже рассказ позволяет составить представление об их важности в одной области – этике.
Одно психологическое исследование дало ужасающие свидетельства того, в какой степени обычные благонамеренные, но обусловленные люди способны слепо следовать приказам, причиняя страдания невинным жертвам. Оно также показало, что люди, достигшие постконвенциональных уровней зрелости, гораздо более независимы и не склонны причинять боль другим.
В ходе этого эксперимента специально отобранных актеров привязывали к своего рода «электрическому стулу», который был соединен проводами с муляжом генератора электрических разрядов. Реостат генератора можно было устанавливать в положения от «Легкого шока» на одном конце шкалы до «Опасность! Сильный шок» и, наконец, «ХХХ» на другом конце.
Группе испытуемых говорили, что они участвуют в эксперименте по обучению. Они должны были наказывать актера (не зная, что тот лишь изображает, что чувствует наказание) все более сильным ударом тока каждый раз, когда он дает неверный ответ (что он делал намеренно). С каждым увеличением силы якобы наносимого электрошока актер изображал, что он все больше страдает, и в конце концов начинал вопить во всю мочь и умолять его отпустить. Если испытуемые не решались наносить электрошок, ведущий говорил, что они должны продолжать эксперимент. Почти две трети испытуемых применили наивысший уровень шока «ХХХ», хотя считали его потенциально смертельным.
В этом эксперименте поведение людей с разным уровнем морального развития значительно различалось. В целом те, кто находился на конвенциональном уровне, следовали указаниям ведущего, в то время как достигшие постконвенциональной стадии стояли на своем и отказывались слепо подчиняться.
Те же принципы действуют и в реальном мире при гораздо более трагических обстоятельствах. Один из самых жестоких эпизодов войны во Вьетнаме произошел в 1968 г., когда патруль американской пехоты вошел в деревню Мэй Лэй и истребил свыше 300 мирных жителей. Последующие обследования солдат показали, что те из них, кто находился на постконвенциональных уровнях морального развития, были менее расположены следовать неэтичным приказам и причинять страдания людям.
Препятствия для надличностного развития
Хотя общество содействует развитию от доконвенциональной к конвенциональной стадии, оно обычно не уделяет внимания и даже яростно сопротивляется всему, что выходит за ее пределы. Почему так? Да потому, что мудрость, преодолевшая границы обусловленности, способна серьезно подрывать общепринятые устои и образ жизни, бесчисленные коллективные мифы (наподобие тех, что деньги гарантируют счастье или что наша нация лучше других), которые убаюкивают отдельных людей и общества, обеспечивая сохранение существующего положения дел. Хотя эти мифы могут успокаивать, они делают это дорогой ценой. Человек, пытающийся выйти за пределы обычного конвенционального уровня, не может рассчитывать на какую-либо поддержку со стороны общества.
Рост также означает и преодоление наших личных сопротивлений. Удивительно, что мы страшимся своего потенциального расцвета почти так же сильно, как и своей теперешней слабости. Одна из причин состоит в том, что мы опасаемся показаться тщеславными, надутыми или претенциозными. Кроме того, мы боимся, что, достигнув такого расцвета, мы стали бы совсем другими людьми. Кем бы мы стали, что бы мы делали, с какими новыми обязательствами нам пришлось бы столкнуться? Все было бы новым и непривычным, ибо настоящий рост подразумевает движение от известного к неизвестному. Нам бы пришлось отказаться от своих старых и привычных мифов и представлений о самих себе, поскольку, как признает психолог Джин Хьюстон, от нас требуется:
умереть для одних представлений, одного мифа, чтобы возродиться для больших… Развитие подразумевает отказ от меньшей истории для того, чтобы пробудиться к большей истории.
Эта боязнь своего собственного потенциала – весьма реальная и могущественная сила, хорошо известная как духовным учителям, так и психотерапевтам. У нее много названий: «избегание роста», «страх собственного расцвета» и «комплекс Ионы» – по имени иудейского пророка Ионы, который пытался противиться божественному призванию к проповеди.
К счастью, большая часть неудобств, связанных с ростом, носит лишь временный характер, однако этот факт бывает трудно распознать заранее. До совершения качественного перехода рост кажется жертвой. Лишь потом становится очевидным, что единственной жертвой была утрата холодного удобства прежнего ограниченного образа жизни. По словам индийского мудреца XX в. Шри Ауробиндо:
Именно поэтому так трудно объяснять путь тому, кто не попытался по нему идти; он будет видеть только свою сегодняшнюю точку зрения или, скорее, утрату этой точки зрения. И все же, если бы мы только знали, в какой степени каждая утрата точки зрения означает движение вперед и как меняется жизнь, когда человек переходит от стадии замкнутой истины к стадии открытой истины – истины, подобной самой жизни, слишком великой, чтобы уложиться в точки зрения, поскольку она включает в себя все точки зрения и видит пользу всякой вещи на каждой стадыии бесконечного развития; истины достаточно великой, чтобы отрицать саму себя и бесконечно переходить в более высокую истину.
Условия надличностного роста
Учитывая эти трудности, неудивительно, что нам требуется помощь в развитии до трансперсональной стадии. К счастью, великие религии способны оказывать поддержку на всех этапах роста. В детстве они могут давать нам ощущение комфорта и безопасности. На конвенциональной стадии во взрослом состоянии традиционные религиозные институты способны предложить утешение и чувство общности, правила поведения и кредо – систему верований для объяснения жизни и мира.
Но хотя традиционные религии могут быть источником смысла и руководства в обычной жизни, этого, как правило, недостаточно для тех, кто перерастает конвенциональную стадию. Им требуется нечто большее – духовная дисциплина, набор практик, призванных способствовать дальнейшему росту.
В идеале такой дисциплине будет сопутствовать духовная общность, наличие группы единомышленников, в равной степени посвятивших себя надличностному росту. Эта община будет обеспечивать поддержку, которую неспособно предложить более широкое сообщество; в идеальном случае в ее составе будут один или несколько более продвинутых практиков, которые могут действовать в качестве наставников или учителей. Можно добиться успеха и в одиночку, однако поддержка группы и руководство учителя чрезвычайно ценны.
Часть II.
Семь практик
Первая практика.
Преобразование мотивации
Избавляйтесь от пристрастий и находите желание своей души
Все, чего вы хотите, – это быть счастливым. Все ваши желания, каковы бы они ни были, происходят от стремления к счастью. В сущности, вы желаете себе добра… В самом желании нет ничего неправильного. Это сама жизнь, побуждение расширять свои знания и опыт. Неправилен лишь выбор, который вы совершаете. Воображать, будто нечто малое – еда, секс, власть или слава – сделает вас счастливым, значит обманывать самого себя. Только что-то столь огромное и глубокое, как ваше действительное Я, может дать вам подлинное и долговечное счастье.
Шри Нисаргадатта Махарадж, индийский мудрец XX в.
Глава 5.
Секрет счастья
В страну, где люди освобождаются от пристрастий, сам собой приходит мир.
Лао Цзы
Каждый человек хочет быть счастливым. Это всепоглощающее влечение, которое движет всем, от наших повседневных дел до развития цивилизации. Духовные практики столь полезны потому, что они не только делают нас счастливее, но в конечном счете открывают путь к блаженству – той разновидности счастья, которая бесконечно глубже и приносит бесконечно большее удовлетворение, чем любое из наших мимолетных удовольствий.
Хотя каждый хочет счастья, большинство людей страдают от трагически ошибочных представлений о том, что его приносит. Что еще хуже, как только мы решаем, что, по нашему мнению, сделает нас счастливыми – будь то слава или удача, люди или собственность, мы, как правило, привязываемся к этому. Чтобы познать счастье и блаженство, нам нужно сменить свою мотивацию. Это означает уменьшение пристрастий к тому, что не дает подлинного счастья, и переориентацию желаний на то, что его приносит. Первая практика помогает нам изменить наши побуждения путем:
– признания ошибочности наших представлений о том, что приносит счастье;
– избавления от привязанностей;
– распознания и поиска того, что действительно способствует счастью.
Ошибочные представления о том, что приносит счастье
Что ведет к подлинному счастью? Беглый взгляд на нашу собственность и приоритеты, на наше общество и средства массовой информации со всей очевидностью показывает, что именно большинство людей искренне считают приносящим подлинное счастье: вещи – причем самые разные. Каждая афиша и неоновая реклама, каждая программа радио и телевидения, подобно пению мифических сирен, завораживают нас, обещая, что если мы только купим то-то, будем иметь то-то, попробуем того-то, то наконец будем по-настоящему довольны. Наша культура зациклилась на четырех физических вещах – деньгах, чувственности, власти и престиже, – и мы погружены в соблазнительную иллюзию, что если бы нам как-то удалось получить вдоволь всего этого, мы были бы полностью и окончательно счастливы.
По сравнению с этим великие религии выглядят совершеннейшей ересью. Они буквально с ужасом взирают на такие идеи, считая их абсолютной бессмыслицей. Конечно, нам нужно достаточно денег на жизнь, и все упомянутые физические блага действительно могут быть приятными. Но считать, что какое-то из них или все они вместе способны принести глубокое и стойкое счастье, не говоря уже о блаженстве, – это величайшее заблуждение.
Век за веком, мудрец за мудрецом все великие религии умоляли нас признать важнейший факт – никакие внешние ощущения или вещи не способны дать нам полного или длительного удовлетворения. По сути дела, одержимость богатством и имуществом успокаивает нас мелочами и отвлекает от того, что в жизни действительно важно. Один из величайших даосских мудрецов, Чжуан Цзы, предостерегал: «Используя всю свою жизненную энергию на внешние вещи, ты истощаешь свой дух». Мохаммед кратко охарактеризовал эту проблему, указав, что «Человеку, отягощенному богатством, трудно карабкаться по крутой дороге, которая ведет к блаженству». Иисус спрашивал: «Что человек выиграет, если он приобретет целый мир и потеряет собственную душу?»
Подлинное счастье и блаженство доступны, если мы знаем, где и как их искать. Прежде чем исследовать эту возможность, нам нужно задать два важнейших вопроса:
1. Какие доказательства существуют в поддержку утверждения великих религий, что внешние удовольствия не способны дать полного удовлетворения?
2. Если это утверждение справедливо, то почему нас так гипнотизируют эти удовольствия и каким образом мы можем освободиться от их чар?
Наука удовлетворения
Никогда ранее в истории человечества столь многие люди не имели столь многого. Хотя более половины мира страдает от ужасающей нищеты, другая половина наслаждается богатствами, которые и не снились величайшим царям прошлого. Автомобили и компьютеры, телефоны и телевизоры, факсы и пр., свежие продукты и замороженные деликатесы – перечень имущества и возможностей можно продолжать почти бесконечно. Мы купаемся в изобилии технологических чудес, приспособлений, экономящих труд, и приятных развлечений. Богатейшие люди в истории имели лишь малую долю тех удовольствий, которые сегодня доступны многим из нас.
Стали ли мы от этого счастливее? По мнению психолога Дэвида Майерса, автора книги «Погоня за счастьем», – «да, чуть-чуть». Значительное число исследований показывают, что как только мы преодолеваем границу бедности и удовлетворяем свои основные потребности, дальнейший рост доходов и накопление имущества в поразительно малой степени повышают наше благополучие. Майерс так характеризует эту ситуацию:
Однако, как ни странно, среди людей, имеющих большие доходы, существует лишь незначительная тенденция получать большее удовлетворение от достигнутого. Верно говорят: удовлетворение – это не столько получение желаемого, сколько желание уже имеющегося.
Возьмите, к примеру, Соединенные Штаты. За тридцать лет – с 1960 по 1990 г. – покупательная способность и материальная обеспеченность среднего американца возросли вдвое. Удвоилось ли от этого счастье? Майерс приходит к горькому выводу:
Значительный рост нашего уровня жизни за последние тридцать лет ни на йоту не увеличил счастья и удовлетворения от жизни.
Эти факты для большинства людей оказываются огромным потрясением. Они разрушают представления о счастье, на которых строятся столь многие индивидуальные жизни и целые культуры. Миллионы людей жертвуют здоровьем, чтобы стать богатыми; капиталисты и экономисты считают деньги главным мотивом в человеческой жизни; бесчисленные потребители без конца покупают новейшие товары; и политики продолжают привлекать загипнотизированных избирателей перспективой растущего богатства. Конечно, нам нужно помогать людям избавляться от бремени нищеты. Но новейшие исследования сходятся во мнении с мировыми религиями – все большее количество денег и имущества не приносит все большего счастья.
Уравновешенная жизнь
Богатейший из вас тот, кто не попал в ловушку алчности…
Скупец – беднейший из всех.
Мохаммед
Существует весьма распространенное неверное мнение, которое породило огромное количество ненужных страданий. В самих по себе физических удовольствиях наподобие денег, секса и имущества изначально нет ничего плохого и в их получении нет никакого зла. Это – всего лишь некоторые из прелестей жизни, и мы, безусловно, можем ими наслаждаться. На самом деле монотеистические религии – иудаизм, христианство и ислам – иногда называют их Божьими дарами и описывают наш мир как сад земных удовольствий. Однако если мы совершаем роковую ошибку, считая эти удовольствия лучшими или единственным источником радости, то становимся столь же сильно зависимыми от них, как употребляющие героин зависят от своего наркотика.
По существу, мы нуждаемся в уравновешенной точке зрения – философии жизни, – которая признает и почитает уместные удовольствия и уделяет каждому из них надлежащее место в жизни. Так поступают мировые религии, и особенно ясным примером тому служит индуизм.
Четыре цели жизни
Индуизм различает в жизни четыре главные цели – артха, кама, дхарма и мокша.
Артха – это обретение материального имущества и всего необходимого для комфортабельной и полезной жизни.
Кама – это чувственное наслаждение и любовь, и соответствующий классический текст, Кама-сутра, представляет собой всемирно известный учебник любовных отношений.
Третья цель именуется дхарма; у этого слова очень много значений, но по существу оно относится к широкому спектру моральных и религиозных обязанностей.
Каждая из этих трех жизненных целей считается уместной и приятной. Каждая заслуживает того, чтобы к ней стремиться и наслаждаться ее достижением в качестве одной из сторон жизни при условии одновременного почитания четвертой цели и стремления к ней.
Эта четвертая цель – мокша – обеспечивает контекст для первых трех и уравновешивает их, она придает глубину индуистской философии и жизни. Мокша – это духовное избавление, просветление, или освобождение, и она считается высшей целью и благом человеческой жизни.
Первые три цели нужно преследовать не только ради удовольствий, которые они приносят, но и ради духовного роста. Объединение всех четырех целей гарантирует, что стремление к первым трем не будет неэтичным или чрезмерным, и ориентирует жизнь, со всеми ее многочисленными удовольствиями, на непостижимое наслаждение просветления.
Проклятие пристрастия
Привязанность, или пристрастие, и ее полное проявление – зависимость – весьма отличаются от простого желания. Привязанность – это непреодолимое влечение, которое вопит: «Я должен иметь то, чего я хочу, или я не буду счастлив». Например, если мне просто хочется мороженого и я его получаю, то это чудесно; если я его не получаю, это не слишком меня расстраивает. Но если я привязан к мороженому, я должен его иметь или буду страдать. Неисполнившиеся желания проходят почти без последствий; неудовлетворенные привязанности приносят разочарование и боль.
Издержки пристрастия
Все великие религии считают пристрастия главной причиной человеческих страданий. Интересно, что западные философия и общество начинают с этим соглашаться. Недавно мы начали осознавать, насколько всепроникающими и разрушительными могут быть привязанности и как сильно они искажают жизнь отдельных людей и целых культур. Наша привязанность к потреблению отравляет всю планету, а никотин – самый опасный и неотвязный из всех наркотиков – ежегодно убивает миллионы людей.
На Западе мы уделяем большое внимание проблеме наркотиков. Но великие религии уже давно показали, что объектом нашей привязанности и даже наркотической зависимости может становиться практически все что угодно – деньги, власть, слава, секс, положение в обществе, убеждения, пища, одежда, самооценка – этот перечень практически не имеет конца. Как только мы попадаемся на крючок, привязанности искажают наши приоритеты и делают нас слепыми к подлинному источнику счастья – как это наглядно изображает тибетский буддизм:
Желание чувственных объектов и зависимость от них ослепляют тебя, как пламя лампы ослепляет мотылька.
Никто и никогда не высказывал эту мысль так ясно, как это сделал Будда. Родившись 2500 лет назад, человек, которому предстояло стать Буддой, прожил двадцать девять лет как принц, окруженный изысканной роскошью. Поначалу он наслаждался своим царским образом жизни и предавался всем возможным наслаждениям. Но незадолго до тридцатого дня рождения, прогуливаясь в своей коляске, он увидел три вещи, которым было суждено изменить его жизнь, а впоследствии и весь мир, – дряхлого старика, безнадежно больного человека и мертвое тело. В момент потрясающего прозрения он осознал:
1. ему, как и всякому другому, неизбежно предстоят старость, болезни и смерть;
2. ни одно из его многочисленных удовольствий и развлечений не будет длиться вечно;
3. ни одно из них не принесет в его жизнь вечного счастья или смысла.
Это открытие привело к поразительным результатам. Он оставил свой дворец, богатство и даже семью и провел следующие шесть лет, скитаясь по всей Индии в неистовых и неустанных поисках высшего счастья и цели жизни. Один за другим он испробовал все известные методы. Он изучал философию, учился йоге и практиковал столь строгие аскезу и пост, что едва не умирал от голода. Вот как он сам говорит об этом:
Так как я принимал лишь малые количества твердой и жидкой пищи, мое тело становилось крайне истощенным… Мои бедра от недостатка пищи стали подобны ногам верблюда, мой хребет прогнулся и выпирал, словно нитка бус… Желая коснуться кожи живота, я взамен ощутил бы свой позвоночник.
Пройдя по пути аскезы до смертельно опасных пределов, он понял, что ни этот путь, ни его противоположность – жизнь, полная роскоши и чувственности, не могли привести его к желанной цели. Вместо них он выбрал то, что назвал «срединным путем», лежащим между крайностями аскезы и излишеств.
Поев достаточно, чтобы вернуть здоровье и силы, он решился на последнюю крайнюю попытку. Усевшись под деревом, он дал обет, что не встанет, пока не достигнет просветления, даже если ему придется умереть. Весь день и всю ночь он боролся со всеми пристрастиями и страхами и исследовал самые глубокие уголки своего ума, пока наконец перед самым рассветом в нем не забрезжило понимание и он не пробудился. Так он стал Буддой, что означает «Пробужденный».
В первые тридцать пять лет своей жизни он испробовал все духовные практики, вкусил всех наслаждений, отказался от всех удовольствий и наконец обрел высшее наслаждение просветления. Когда Будда говорил о счастье и средствах его достижения, он говорил с полным знанием дела.
Четыре Благородные Истины
Он подытожил свои открытия в Четырех Благородных Истинах, которые составляют центральное ядро буддизма:
1. Жизнь полна трудностей и страданий.
2. Причина страданий – в привязанностях.
3. Освобождение от привязанностей приносит избавление от страданий.
4. Освобождения от привязанностей и страданий можно достичь, практикуя восьмеричный путь этики, мудрости и медитации.
В основу учения Будды положено признание абсолютно кардинальной роли, которую в нашей жизни играют привязанности. Будда замечал, что хотя каждый человек ищет счастья, почти все идут неправильным путем. Они впустую тратят свою жизнь в бесконечной и в итоге тщетной борьбе за удовлетворение привязанностей, вместо того чтобы от них избавиться.
Неотвязное пристрастие ненасытно, и его никогда нельзя полностью удовлетворить. Потворство пристрастиям приносит временное удовлетворение, но в конечном счете разжигает их еще сильнее. Будда говорил, что «Дождь мог бы превратиться в золото и все равно не утолил бы твою жажду».
Рука об руку с пристрастием идут его болезненные спутники – такие разрушительные эмоции, как страх, гнев, ревность и подавленность. Эти эмоции тесно связаны с пристрастием и отражают то, как оно действует на нас. Мы боимся, что не получим то, к чему привязаны, кипим от гнева на всякого, кто встает на нашем пути, мучаемся ревностью к людям, у которых есть то, чего мы жаждем, и впадаем в подавленность, когда теряем надежду. Иудейская мудрость гласит: «Чрезмерная любовь к миру и всему, что в нем, вызывает гнев Небес». Может быть, да, а быть может, и нет. Но она определенно вызывает наш собственный гнев и другие болезненные эмоции.
Количество страданий в нашей жизни отражает разрыв между тем, что у нас есть, и тем, чего мы страстно желаем. Пристрастие порождает страдание, будучи ненасытным и причиняя эмоциональную муку.
Есть и более тонкие духовные издержки. Привязанность приковывает нас к малым удовольствиям и лишает нас самого величайшего наслаждения. Иисус кратко подытожил эту дилемму, сказав: «Никто не может служить двум господам… Ты не можешь служить и Богу, и богатству». Св. Иоанн Креста, испанский монах XVI в. и один из самых влиятельных католических мистиков, пояснил эту тему в следующем изящном отрывке:
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе