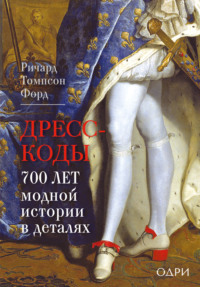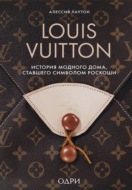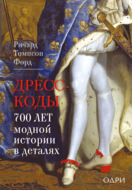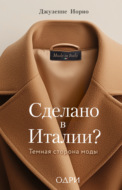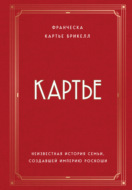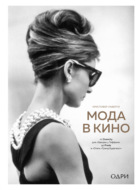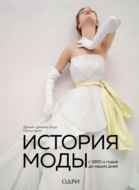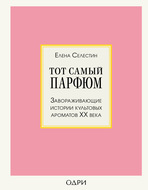Читать книгу: «Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях», страница 3
Вместо того чтобы драпировать тело в дорогие ткани, сшитая одежда могла превратить его в нечто потустороннее, сверхчеловеческое. Но так как мода предлагала практически бесконечные возможности для самовыражения, то появились и новые, потенциально нарушающие порядок визуальные аргументы. Если королева могла показать свое величие с помощью платья тонкой работы, что подчеркивали подложенные плечи и широкие структурированные юбки, то скромный торговец-портной мог продемонстрировать собственную значимость пышными короткими штанами.
Тюдоры особенно остро сознавали силу личного имиджа и ревниво охраняли свои привилегии с помощью эффектной одежды. В 1510 году первый парламент Генриха VIII издал «Акт против ношения дорогой одежды»43. Название было обманчивым, так как акт на самом деле не запрещал дорогую одежду. Вместо этого он ограничивал ношение одежды престижных цветов, наилучшего качества и экзотических мест производства, предназначая ее для людей с высоким статусом. К примеру, этот акт запрещал мужчинам рангом ниже лорда «любую золотую или серебряную ткань, соболей или шерстяную ткань, сотканную за пределами Англии, Уэльса, Ирландии или Кале». Темно-красный и синий бархат был недоступен людям рангом ниже рыцаря подвязки. Точно так же бархат, шелк или дамаск были запрещены для людей рангом ниже рыцаря, за исключением «сыновей лордов, судей, членов королевского совета и мэра Лондона».
Даже обычных людей рассортировали в соответствии со статусом. Акт предупреждал, что «ни один служащий человек не может использовать более 2 ½ ярда [ткани] для короткого платья или 3 [ярдов] для длинного; землепашцам, пастухам и рабочим, не имеющим имущества более чем на 10 фунтов, запрещено носить одежду дороже 2 [шиллингов] за ярд или штаны дороже 10 [пенни] за ярд под угрозой трехдневного пребывания в колодках»44. Последующие акты были приняты в 1515, 1533 и 1554 годах.
Но Елизавета I использовала впечатляющую одежду более эффективно, чем любой другой монарх до нее. Она превратила минусы своего пола в мужском мире Англии эпохи Возрождения в достоинства, выражая своим нарядом неземную приподнятость, сочетая дорогостоящую королевскую роскошь и суровую, неприступную женскую добродетель. Она понимала силу моды и даже более ревностно, чем ее отец, печально известный Генрих VIII, регулировала одежду других.
Историк Уилфрид Хупер, писавший в начале XX века, заметил, что «царствование Елизаветы отметило собой эпоху беспрецедентной активности в истории ограничений в одежде»45. Многочисленные новые прокламации регулировали количество и качество ткани, используемой для коротких штанов и чулок, опять-таки оставляя такие роскошные ткани, как бархат и атлас, для высших классов. Подобные законы было трудно реализовать, над ними часто издевались, но относились к ним серьезно.
Елизавета I задействовала продуманную систему наблюдения, завербовав знать, чиновников на местах и простых людей. Она лично предупредила лорд-мэра Лондона о необходимости проводить в жизнь эти ограничения. Чтобы усилить эти позиции, Тайный совет вызвал лорд-мэра и городских олдерменов в Звездную палату (высший королевский суд Англии, упраздненный в 1641 году), чтобы потребовать от них того же46. Нарушения регулирующего закона зачастую было трудно выявить. В конце концов, если аристократ должен отличаться от простого человека своей одеждой, как можно понять, что человек, одетый в красный шелк и соболя, носит их по праву? Законодатели придумывали умные методы исполнения закона, и чаще всего использовалась охота на нарушителей за вознаграждение.
К примеру, елизаветинские регулирующие законы в дополнение к внушительным штрафам позволяли людям «завладеть любой одеждой, носимой вопреки статусу… и сохранить ее для собственного пользования»47. Так как людям, воспользовавшимся этим преимуществом, разрешалось самим носить конфискованную одежду, закон позволял высшим классам наказывать тех, кто стоял ниже на социальной лестнице.
В ноябре 1559 года Тайный совет отправил письмо Корпорации лондонского Сити. В нем приказывалось назначить в каждом церковном приходе двух наблюдателей, вооруженных списками всех прихожан, кому разрешалось носить шелк. Наблюдатели получали право задерживать тех, кто носил шелк не по праву. В прокламации от 6 мая 1562 года мэру и лондонскому совету старейшин приказывалось назначить в каждом административном районе города четырех «уважаемых и добропорядочных мужчин», чтобы они задерживали тех, кто нарушал законы об одежде48. В 1566 году по настоянию Короны город назначил четырех «степенных и рассудительных персон», чтобы они стояли на страже у всех городских ворот, начиная с семи часов утра.
«Они должны постоянно оставаться на месте и следить до XI часов, и с I часа пополудни того же дня до VI часов вечера, в течение всего указанного времени внимательно рассматривая всех и каждого, входящих в город Лондон… использующих или надевших на себя любые большие и ужасные штаны, шелк, бархат или оружие, ограниченные и запрещенные»49.
Последующие королевские прокламации против излишеств в одежде были обнародованы в 1574, 1577, 1580, 1588 и 1597 годах. Каждая из них была попыткой отреагировать на сильные и разнообразные соблазны моды. К примеру, прокламация 1580 года добавила правила, запрещавшие «слишком длинные и широкие сборчатые воротники». Это была реакция на появление крахмальных и проволочных каркасов для складок ткани, позволявших создавать чрезвычайно объемные сборчатые воротники50.
Те, кто помогал нарушителям законов о моде и подстрекал их к этому, также подлежали наказанию. Согласно прокламации 1561 года, портным и торговцам чулочным товаром запрещалось поставлять одежду тем, кто не имел права ее носить. От них требовали подписать долговое обязательство на 40 фунтов, чтобы гарантировать послушание. Более того, их дома необходимо было обыскивать каждые восемь дней в поисках контрабандной одежды51. По положениям Акта об одежде 1554 года мастера, на которых работали слуги, нарушившие этот акт, должны были выплатить огромный штраф в 100 фунтов.
Когда Тюдоры и их современники-аристократы по всей Европе вводили в действие регулирующие коды, усиливающие традиционные привилегии, более радикальные умы придумали мир, в котором символизм одежды будет перевернут с ног на голову52. Лорд-канцлер Генриха VIII Томас Мор написал утопию, в которой вся одежда будет «с одним и тем же узором по всему [королевству] и на протяжении веков…» и «одинакового… натурального цвета…»53. «Утопия» Мора описывала эгалитарное общество, в котором проблема легкомысленной роскоши решена, но не потому, что там запрещают носить роскошную одежду, а путем намеренного принижения ее статуса. В «Утопии» из золота и серебра делают ночные горшки и куют цепи для рабов.
Преступников заставляют носить золотые медали и золотые короны в качестве наказания за совершенные преступления, поэтому драгоценные металлы становятся «отметкой дурной славы»54. Жители Утопии отдают драгоценные камни детям в качестве игрушек, чтобы, когда «они станут старше и поймут, что только дети используют такие игрушки, они отложили их в сторону, но не по приказу родителей, а из собственного чувства неловкости, как наши дети, когда вырастают, выбрасывают свои мраморные шарики, погремушки и куклы»55. По представлениям Мора, это изменение значения символов оказалось настолько эффективным, что, когда иностранные посланники посещали Утопию, одетые в изысканные наряды, ее жители принимали их за клоунов или рабов56.
Утопическая инверсия социального значения роскоши у Мора была острой критикой этики тюдоровской Англии, где дресс-коды превращали роскошь в знак высокого статуса и связанных с ним привилегий. Но «Утопия» также отражает тревогу по поводу быстрой смены моды, которую разделяла вся тюдоровская элита. В Утопии вся одежда однотипная «по всему королевству и на протяжении веков». Для Мора правильное общество свободно не только от классовых различий, но и от капризов моды.
Элиты времен Мора пытались справиться с изменениями моды с помощью дресс-кодов, которые определяли одежду как символ статуса. Мода была врагом одновременно и духовно ориентированного радикального эгалитариста, и аристократа, ревниво охраняющего свои привилегии. Быстрый рост регулирующих дресс-кодов между XIV и XVI веками отражает скорость, с которой появлялись новые разрушительные идеи о социальном статусе и новая мода.
Новинок моды становилось все больше, и, чтобы не отставать от них, контролировать и определять новейшие стили, законодатели отвечали на это созданием новых дресс-кодов. К примеру, в конце XIV века итальянский писатель Франко Саккетти описал группу женщин, глумившихся над регулирующим законом их города с помощью путаницы в терминологии. Когда местный закон предписывал убрать роскошные пуговицы, они отвечали, что данные предметы пуговицами, по сути, не являются, поскольку для них нет соответствующих петель, и поэтому ограничения дресс-кода к ним не относились57. В 1511 году сенат Венеции в попытке опередить тренды прямо заявил: «Все новые моды запрещены»58.
* * *
В начале эпохи Возрождения, когда мужчины носили короткие объемные штаны и облегающие дублеты, дресс-коды были прежде всего попытками придать смысл одежде и контролировать его. Продвинутые торговцы, финансисты, мелкая аристократия и успешные купцы трансформировали одежду из предсказуемого и относительно стабильного маркера социального положения в куда более экспрессивно богатое и разнообразное средство самовыражения.
Это произошло из-за того, что новации в технике, особенно развитие облегающей тело сшитой одежды, совпали с изменениями в экономике, обеспечивавшей появление новых состояний и непривычную мобильность. Когда люди хлынули в города в поисках новых возможностей, рухнула иерархия, базировавшаяся на устоявшихся социальных отношениях. В маленькой деревне каждый знал свое место и место своих соседей. В большом городе, полном незнакомых людей, жена мясника могла сойти за знатную даму, а мужчина мог выглядеть джентльменом с помощью двух ярдов красной ткани. Подъем экономики создавал новые возможности для богатства, и мясник мог зарабатывать достаточно, чтобы купить корону жене и два ярда (1,8 м) дорогостоящего красного шелка для себя, чтобы сшить у портного облегающий дублет или экстравагантные короткие штаны.
Для этих социальных выскочек мода была способом заявить о своем статусе. Они не только выглядели как аристократы, но, что было намного опаснее, настаивали на том, что они были новым видом аристократии, сформированной не на унаследованных титулах, а на богатстве, таланте и силе личности. Эти изменения угрожали социальному порядку, основанному на статусе и внешних эффектах, когда политическая власть соединялась со способностью выглядеть соответствующим образом, а управление государством было тщательно продуманным театром ритуалов.
Дресс-коды эпохи Возрождения пытались контролировать моду и поставить ее на службу старой социальной иерархии. Мода, в свою очередь, эксплуатировала подобные старые ассоциации между одеждой и статусом ради чего-то совершенно нового – современной яркой личности.
Глава 2
Создание себя
О тогах, коронах, мантиях и сшитой одежде
ВПЛОТЬ ДО ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ старые обычаи и иерархические регулирующие законы определяли значение одежды. Но начиная с этого периода и особенно в эпоху Возрождения, когда жили такие выдающиеся личности, как Шекспир, Леонардо и Микеланджело, а также не слишком знаменитые персоны вроде Ричарда Уолвейна в ужасных коротких штанах, одежда также стала способом самосовершенствования, создания себя.
В Древнем мире и в Средние века вся значимая одежда, то есть воплощавшая смыслы, отражала родословную, традицию и унаследованный статус. Стили менялись медленно и всегда были продолжением привычной моды. Одежда, конечно же, менялась, а не оставалась неизменной «на протяжении веков», как хотел бы Томас Мор, но происходило это достаточно медленно, чтобы человек мог с легкостью признавать новые стили как небольшую вариацию старых. Но к началу эпохи Возрождения быстро меняющаяся мода вытеснила традиционный символизм одежды. Новые технологии, новые деньги и новые люди способствовали появлению моды в современном понимании с ее неумолимым, волнующим и изматывающим темпом перемен.
Теперь императив в одежде заключался не в том, чтобы быть продолжением прошлого, а в том, чтобы отражать суть настоящего, дух времени, шокирующие новые реалии. Современная мода возникла из столкновения экономической мобильности и новых технологий, которые позволили совершить гигантский рывок вперед в дизайне одежды. Самой важной технологической новацией стал пошив одежды, развившийся в XIV веке. До этого момента почти вся европейская одежда была формой драпированного одеяния в стиле римской тоги, средневекового платья или мантии.

В древности и мужчины, и женщины обычно носили драпированную одежду
В Древнем мире штаны были редкостью и считались либо одеждой работников из низших классов, либо экзотическим нарядом цивилизаций Востока, например Персии. Историки Гленис Дэвис и Ллойд Ллевеллин-Джонс писали, что «закрывающая ноги одежда, облегающая талию и ноги…, была отличительной чертой “варваров” в понимании греков и римлян»59. Историк Энн Холландер отмечает, что кройку и шитье впервые использовали для льняных штанов и рубах под полные латные доспехи, закрывающие все тело, которые были изобретены в середине Средних веков.
Эти новые доспехи были высокотехнологичным изобретением по сравнению с кольчугой и пластинчатыми доспехами, которые прикрывали лишь некоторые части тела, такие как грудь, предплечья и голени. Новые доспехи стоили дорого и предназначались для воинов и элиты, поэтому сшитое нижнее белье стало символом высокого статуса, когда его стали носить как верхнюю одежду. Мужчины из элиты приняли первую сшитую одежду и отказались от драпированных одеяний, которые раньше носили оба пола60. Пошив позволил создавать облегающую тело одежду, которая подчеркивала индивидуальное телосложение ее обладателя. Иными словами, одежда стала индивидуальной.
Если драпированная одежда передавала статус с помощью цвета, декоративных деталей и ткани, пошив позволил ей соответствовать телу, намекая на форму под ней. Мужчины приняли новую моду, и некогда повсеместные драпированные одеяния стали отличительным признаком представителей отдельных профессий – церковников, ученых, представителей закона – и женщин. Позднее женская одежда начала постепенно заимствовать некоторые элементы сшитой мужской одежды, но никогда весь мужской костюм. К примеру, рукава и лифы могли облегать тело, но ниже талии сохранялась прежняя драпированная форма.
Одежда и мужчин, и женщин стала более выразительной, как только она стала более облегающей. Эти изменения позволили одежде передавать большее количество социальных смыслов, даже если эти смыслы были менее знакомы и понятны, чем те, что передавала прежняя драпированная одежда. Вследствие этого одежда со значением впервые стала доступна людям из различных социальных слоев и разных профессий, например, мяснику и его жене, а не только знати и представителям церкви. Одежда стала средством выражения личности. Это называется рождением моды.
Историк Стивен Гринблат отмечает, что термин «мода» использовался в XVI веке и обозначал «способ обозначения себя… совмещение в человеке физической формы… [и] самобытной личности»61. Появление у одежды значения было частью глубоких изменений в человеческом сознании, приведших к появлению современного индивидуума. Это требует некоторых объяснений. Разумеется, отдельные особи существовали всегда, но индивидуум не всегда был центром политических и социальных идеалов. В самом деле люди не всегда думали о себе в первую очередь как о личностях. Они были членами групп, определяемых коллективными занятиями, и их идентичность соответствовала их роли или статусу в этой группе.
Мысль о том, что все мы прежде всего личности, обладающие индивидуальностью, которая выходит за рамки нашего социального статуса, нашего занятия и семейного наследия, относительно свежа. Индивидуализм появился в конце Средних веков и в эпоху Ренессанса одновременно с модой. Мода – это выражение индивидуализма, и она не может существовать без него. Не будет большим преувеличением сказать, что индивидуализм тоже нуждается в моде, чтобы она была его главным пропагандистом. Историк Жиль Липовецкий написал:
«[В] конце Средних веков мы можем наблюдать увеличение осознания субъективной идентичности, новое желание выразить уникальность человека, новое возвеличивание индивидуальности, страстную привязанность к проявлениям личности и социальное прославление индивидуальности… [это] облегчило разрыв с уважением традиций [и] …стимулировало личное воображение в поисках новизны, отличий и оригинальности…»
К концу Средних веков индивидуализация внешности была легитимизирована: быть непохожим на других, уникальным, привлекать внимание, демонстрируя признаки отличия, стало законным стремлением…62 Рождение моды можно сравнить с поворотом в литературе того времени. До Средних веков западная литература обычно имела форму эпоса, хроники важных деяний великих мужчин и женщин: королей и королев, воинов, рыцарей, мудрецов и тех, кто помогал или мешал им в их деяниях исключительной важности.
Герои и героини эпоса определяются статусом и местом в истории: отец нации, освободитель народа, человек, ищущий просветления. Если герой эпоса и раскрывает свою индивидуальную психологию, то обычно это просто черта характера, которая помогает развитию сюжета. К примеру, коварный Одиссей перехитрил сирен. Гордый Ахилл был тщеславен и хандрил в шатре, пока спартанцы обращали в бегство греков. Орест, движимый чувством долга, убил мать, желая отомстить за отца. Страсть Ланселота и Гвиневры стала причиной падения Камелота. Характер героев эпоса не психологический. Нас не так волнует их мотивация, как их действия, и не столько их чувства, сколько их статус.
В прежние времена эмоции распространялись на политику и социальную жизнь лишь отчасти. Король был важен, поскольку он был главой государства по воле Божьей. Знать представляла великие семьи, правителей земель и защитников королевства во времена войн. Духовенство было представителем Бога на земле. Эти люди были интересны тем, что они представляли. Поэтому одежда таких важных людей имела значение потому, что символизировала их статус, а не потому, что отражала их индивидуальность. Одежда простых людей была, как правило, сугубо функциональной, у нее не было никаких отличий, она не имела символического значения.
Появление такого литературного жанра, как роман, отражало и, возможно, помогало создавать новый акцент на личности человека. В романах к действию приводит внутренняя психология персонажа (уже не героя) и тех, с кем он или она встречается, и это не обязательно великие дела. В самом деле, когда исторически важные события описываются в романах того времени, они часто служат контекстом для личной психологической драмы.
Действительно, во многих романах нет крупных событий, интересных с точки зрения политики или истории. Зато есть описания повседневной жизни, для которых характерны в основном бытовые события, а также нюансов социального взаимодействия и личных переживаний. Сравните подвиги Одиссея (который уже был фигурой необычной психологической сложности для эпического героя) и рассуждения рассказчика в романе Пруста «В поисках утраченного времени» или, что более очевидно, в романе Джойса «Улисс». Изменения происходили медленно, набирая обороты с течением времени. Намеки на такое развитие есть в классической литературе, и оно началось уже в XII веке.
К примеру, Боккаччо в «Декамероне» добавил психологической глубины старинным аллегориям. Но процесс достиг кульминации в XVII и XVIII веках в либеральной философии эпохи Просвещения и в том, что литературный критик Иэн Уотт назвал «подъемом романа».
Но это не означает, что раньше люди не выражали себя через одежду или что у них не было насыщенной эмоциональной жизни. Им не хватало нашего современного понимания центральной роли психологической мотивации63. Сегодня мы окружены психологическими оценками, исследованиями и категоризацией. «Тип личности» определяется через научные психологические исследования и через популярные психологические «тесты личности», такие как типология по Майерс-Бриггс. Мы решаем, виновен человек или нет, на основании как субъективной мотивации, так и активного действия.
Преступление определяется mens rea (элементом уголовной ответственности с упором на душевное состояние обвиняемого), а нарушение равного обращения – концепцией «дискриминационного намерения». Психология определяет современную личность, для нас это самая суть того, что значит быть человеком. Мы заменили понятие греха идеей злого умысла, исповедальню – кушеткой психоаналитика, бессмертную душу – объективной психикой.
Из-за того, что в центре внимания оказалась психология субъекта, а не героические деяния, роман демократичен, так как это хроника обычного человека. Лишь монархи, воины и мудрецы играли роль в эпическом театре геополитики. Но у каждого есть богатая психологическая жизнь, включенная в события повседневной жизни. Роман уделяет работающим за зарплату и менеджерам среднего звена такое же внимание, как богатым и могущественным, и считает их достойными этого.
В подобном же смысле мода была и остается демократичной. Освободив символизм одежды от традиции, она трансформировала ее выразительность как некогда эксклюзивной платформы обладателей власти в инклюзивную витрину для личности индивида. Мода разрушила договоры. Она позволила каждому, у кого есть на это средства, использовать символизм одежды элиты, подрывая ее эксклюзивность и изменяя ее значение.
Разумеется, те, кто не был элитой, использовали моду в попытке улучшить свою репутацию и вызвать уважение к себе, выдавая себя за элиту или, по крайней мере, демонстрируя, что они так же успешны, как элита. Торстейн Веблен называл это «финансовым подражанием». Но идея о том, что «упрощенная модель зависти, [в которой] занимающие более низкое положение предположительно стремятся… [подражать] вышестоящим»64, как называет это историк регулирующих законов Алан Хант, это еще не вся история. В наши дни эмпирические исследования опровергают мысль о том, что мода всегда начинается на социальной вершине и постепенно просачивается вниз по мере того, как менее привилегированные группы начинают подражать элитам65. Новейшие тренды предполагают прямо противоположное.
Посмотрите, как в дорогостоящих творениях высокой моды используют уличную культуру, такую как панк, гранж и хип-хоп. Апроприация символов статуса амбициозными и мобильными низшими классами никогда не была только подражанием. Они всегда преображали символы привилегий элиты так, чтобы они отражали их собственные амбиции и представления, порожденные их новым социальным положением.
Пытающиеся сойти за элиту выскочки существовали всегда, но куда более серьезной угрозой старому социальном порядку был новый уверенный в себе класс буржуазии. И этот класс настаивал не на том, чтобы присоединиться к знати или копировать ее, а на том, что у него есть собственное место в обществе.
Как пишет историк Дэниэл Рок, зарождение моды благоприятствовало «новому состоянию ума, более индивидуалистичному, более гедонистическому… более эгалитарному и более свободному»66. Мода позволила утвердиться личности индивида, вне зависимости от социального класса, этнической принадлежности, рода занятий или любой другой групповой идентичности. Теперь одежда демонстрировала не только богатство человека, но и его личные предпочтения. Новые группы, разбогатевшие и получившие власть, использовали старые символы статуса по-новому, чтобы настоять на своем месте среди элиты, бросить вызов старой иерархии и изменить ее, заявить о новом устройстве общества. Жена торговца могла носить украшенную драгоценными камнями тиару не для того, чтобы подражать королевским особам, а для того, чтобы утвердить новый, более высокий статус для торговцев или среди них.
Ричард Уолвейн надел пышные короткие штаны не для того, чтобы копировать одежду благородного человека, а для того, чтобы настоять на своей собственной социальной значимости. И возможно, проблема была не в том, что он смешно выглядел в этих вызывающих штанах, а в том, что он выглядел слишком хорошо. Он угрожал дать начало новому модному тренду, еще сильнее осложняя ассоциации между социальным статусом и одеждой.
Дресс-коды были ответом на эти глубокие изменения в мироощущении людей. Регулирующие законы были не только способом контролировать социальную мобильность. С течением времени они все чаще расшифровывали сбивающие с толку новые стили одежды, а также социальные роли и самовосприятие, которые отражали эти новые стили. Вследствие этого дресс-коды того времени, связывавшие одежду со старыми статусами, находились в постоянном противоборстве с жаждой самовыражения.
Ведь самовыражение через одежду не предполагает, что ее носят потому, что она нравится. Одежда должна вызывать в памяти дресс-коды и одновременно ниспровергать их.
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе