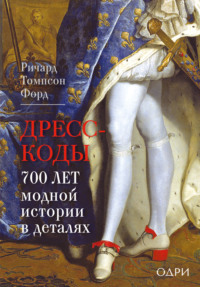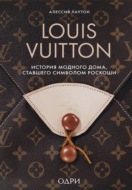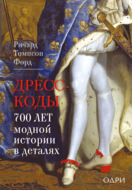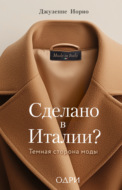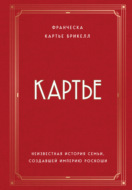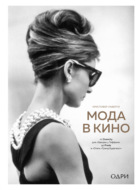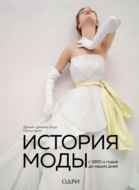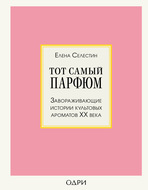Читать книгу: «Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях», страница 2
Но, по большому счету, идея о незначительности одежды и внешности привела к тому, что лишь мизерное количество дискуссий об одежде вообще привлекло внимание. Те из них, которые внимание все же привлекли, обязательно должны были быть связаны с «более серьезными» вопросами, такими как дискриминация и свобода самовыражения. К примеру, дресс-коды, навязанные властями, могут нарушать Первую поправку, которая гарантирует свободу самовыражения. Но в большинстве случаев это справедливо только когда запрещенная одежда «символична» в самом прямом значении этого термина, то есть воплощает собой заявление, которое легко изложить словами.
Соответственно, юристы и судьи ищут явное, похожее на манифест послание в одежде или внешнем виде. Однако в таком прямолинейном подходе упускается самое важное в самовыражении при помощи одежды – ее способность украшать, улучшать пропорции тела и скрывать то, что мы не хотели бы демонстрировать окружающим. Мода – это уникальный способ самопрезентации, которая невозможна с помощью языка или другого способа коммуникации.
Мода посылает сообщения, но одежда – это не только ее буквальное значение. Она более глубокая и образная, чем слова на странице. Хорошо сшитый костюм говорит о богатстве и утонченности, напоминая о других богатых и изысканных людях. Это не столько аргумент, сколько демонстрация. Упрощенная идея о том, что мода – это язык, оставляет за рамками многие возможности выразительного потенциала одежды. Это все равно что настаивать на том, что картина, к примеру, Марка Ротко, это заявление об утрате нашей подлинной связи с природой в условиях современности. В этом случае не учитывается мощное эстетическое воздействие, настолько же очевидное, насколько и непостижимое.
Некоторые дресс-коды могут нарушать законы, запрещающие дискриминацию, но какие именно и почему, не понятно людям без юридического образования. К примеру, работодатель может определить разные дресс-коды для мужчин и женщин, но при этом, с точки зрения закона, это не дискриминация, если эти дресс-коды не предполагают «неравномерной нагрузки» на один или другой пол и не «унижают».
В то же самое время, чтобы избежать дискриминации, для служащих может быть сделано особое исключение из дресс-кода, если речь идет о религиозно мотивированной одежде, путем создания особых дресс-кодов для служащих разных религий. Профессиональные дресс-коды могут запрещать «искусственные» прически, например, начес или косички, но не те, которые определяются натуральной текстурой волос. Разумеется, дресс-код может регулировать длину волос. Тем временем, не считая этих непоследовательных правил и удивительных исключений, работодатель может навязать любой дресс-код, который захочет, даже если внешний вид сотрудника не имеет никакого отношения к выполняемой им работе.
Как юрист и преподаватель, я потратил немалую часть своей карьеры на изучение и преподавание гражданского права, а также на борьбу за его реформу, поскольку именно в этой области споры по поводу одежды и внешнего вида встречаются очень часто. Так как я еще и модой интересуюсь, я всегда думал, что законные аргументы в большинстве этих случаев не учитывают некоторых самых очевидных и важных моментов этих разногласий.
Одной из причин, по которой я решил исследовать историю дресс-кодов, было желание понять, что находится в центре этих разногласий. Изучение более ранних эпох, когда еще не укоренилась идея о тривиальности и незначительности моды, выявило еще более яростные дискуссии об одежде и причины появления дресс-кодов.
Статус, пол, власть, личность
Мы поговорим о дресс-кодах, начиная с XIV века, который многие историки считают концом Античности и началом современного мировосприятия. Средние века заканчивались, и эпоха Возрождения начинала обретать форму. В течение этого периода появляется новая социальная восприимчивость, сделавшая своим центром личность. Новая восприимчивость в конечном итоге вдохновила новые формы искусства, такие как роман. Появились новые концепции человеческого сознания в психологии того времени и новые политические и этические идеалы классической либеральной мысли, которая ассоциируется с теоретиками Джоном Локком, Иммануилом Кантом и Жан-Жаком Руссо.
Новые стили в одежде сопровождали эти события и способствовали им: люди искали иные способы представить свое тело как отражение и продолжение уникальной личности каждого. Эти новые стили стали первой «модой» в том смысле, в каком я буду использовать этот термин. Я не буду утверждать, что мода являлась ключевым фактором перемен, но ее развитие сыграло свою роль, и зачастую очень важную, в социальных, интеллектуальных и политических событиях той эпохи.
На протяжении долгой истории люди считали, что в моде есть доля политики. Именно поэтому появлялись законы и развивались правила, регулировавшие ее, а другие сопротивлялись этим законам и правилам и уничтожали их. Попытка интерпретировать язык одежды – это сложнейшая задача. Одежда может передавать бесконечное количество посланий, основываясь на своей многовековой истории. Любой наряд может напоминать об историческом моменте, о социальном институте, о политической борьбе, об эротической возможности. Как можно надеяться распутать миллионы нитей долгой истории моды? К счастью, мы не обязаны это делать.
Используя дресс-коды – правила, законы и социальные ограничения, касающиеся одежды, – в качестве своего Розеттского камня, мы можем идентифицировать четыре проблемы, лежащие в основе главных элементов развития моды. Это статус, пол, власть и личность. Одежда – символ статуса, и ее история наполнена правилами и законами, гарантировавшими, что статус индивидов находил свое отражение в том, во что они одеты. Одежда – это еще и символ пола. Социальные условности и законы гарантировали, что одежда позволяет определить, мужчина это или женщина, с сексуальным опытом или без него, состоящие в браке или одинокие, целомудренные или развратные.
Одежда – это униформа власти. Она помогала определить национальную принадлежность так же успешно, как территориальные границы. Не хуже языка или культурных ритуалов одежда характеризовала этнические группы и племена и, словно священные тексты, формировала религиозные секты. Одежда одновременно устанавливала расовую иерархию и бросала ей вызов. И, наконец, мода – это средство выражения личности человека. Мы собираем свой гардероб и ансамбли на каждый день, чтобы они отражали нашу точку зрения и подтверждали отчетливое ощущение себя. История моды развивалась параллельно истории индивидуализма. По мере того как росла личная свобода, росла и свобода в одежде.
В этой книге мы посмотрим на то, как люди пытались контролировать моду и почему они это делали. В части Первой мы рассмотрим использование дресс-кодов для создания символов статуса в конце Средних веков и в эпоху Возрождения, когда зародились современная мода и отношение к миру. История современной моды и современных дресс-кодов начинается в 1300-х годах, когда люди вместо драпирующейся одежды начали носить одежду сшитую. Благодаря этой технической инновации одежда стала более выразительным средством, чем она была ранее.
В следующие четыре века мода была привилегией элиты, поэтому она зачастую становилась символом королевской власти и аристократического происхождения. В эпоху, когда большинство населения было неграмотным, социальные ценности передавались с помощью визуальных средств изображения: искусства, религиозной иконографии, завораживающих ритуалов и, разумеется, роскошных нарядов. Но появление современной моды таило в себе угрозу для старого социального порядка. Мода позволяла людям заявлять о своей уникальной личности, независимой от традиционных социальных ролей или даже находящейся в оппозиции к ним. Экономическое развитие привело к появлению нового класса богатых людей – крупных торговцев, банкиров и купцов. Они хотели показать свой успех через моду.
Некоторые амбициозные люди копировали аристократическую одежду, чтобы сойти за знать, тем самым ставя под сомнение ее элитарность. Другие использовали моду для того, чтобы показать собственный социальный статус, бросая вызов превосходству аристократии.
Многие ранние дресс-коды являлись результатом стараний элиты использовать моду для усиления привычных социальных ролей и установившихся прерогатив, ставя амбиции социальных выскочек вне закона, осуждая и высмеивая их. Религиозные меньшинства стремились к социальной инклюзии, а женщины добивались равенства с мужчинами.
Глубокие изменения произошли в конце XVIII века, когда политические революции и влияние философии Просвещения начали дискредитировать аристократические притязания. В части Второй мы рассмотрим переход моды от излишеств к элегантности. Распространение идеалов Просвещения привело к соответствующим изменениям в дресс-кодах. Демонстрация богатства, характерная для одежды элиты в Средние века и в эпоху Возрождения, уступила место новому идеалу сдержанности. Придворные наряды, подчеркивавшие божественное право королей и королев, сменил совершенно иной аристократический гардероб.
В новом политическом контексте высокий социальный статус начал ассоциироваться с усердием, компетентностью и просвещенностью, а не с благородным происхождением и почестями. У новой элиты появился свой сдержанный стиль одежды. Мужчины все еще выделялись своими нарядами, но знаком принадлежности к элите была изысканная утонченность, а не броский декор. Во многих отношениях этот переход был способом сохранить элитарность под видом атаки на нее.
Прорыв в производстве и торговле наряду с растущим рынком подержанной одежды превратили некогда редкие и роскошные украшения в более широкодоступные, размывая их ценность как символа исключительных привилегий. Напротив, новые статусные символы элегантности требовали образования и повышения культурного уровня, которые было куда труднее сфальсифицировать. Тем временем упадок династической власти и подъем национальных государств как политической формации вдохновили новые дресс-коды.
XVIII и XIX века стали свидетелями появления предложений ввести национальную гражданскую униформу в Западной Европе и в Соединенных Штатах, а также законов, запрещающих традиционную одежду этнических меньшинств в Великобритании.
Этот переход от бьющей в глаза роскоши к сдержанной элегантности затронул, по большей части, только мужчин. Феминистки и их сторонники, такие как Амелия Блумер, сопротивлялись ограничениям гендерных ролей и гендерной моде, но их усилия реформировать женскую одежду были встречены насмешками и провалились. Понадобится более модная форма сопротивления, чтобы начать убирать гендерные нормы, державшие женщин в корсетах и нижних юбках более века.
Как только женщины во множестве пополнили ряды работающих во время Первой мировой войны, они наконец достигли широкого принятия новой, упрощенной моды, которая включала в себя некоторые заимствования из мужского гардероба.
Поначалу над флэпперами смеялись, как это всегда бывало с попытками принять практичную женскую одежду без украшений. Но одежда, пионерами которой стали эти женщины, сформировала основу реформированного женского дресс-кода для эмансипированных женщин, остающегося с нами и сегодня. Несмотря на бесспорные успехи в этом плане, многие феминистки справедливо настаивают на том, что современная мода все еще отражает старые патриархальные идеалы женской декоративности и обязательной скромности.
В Третьей части мы рассмотрим дресс-код силы (power dressing). Афроамериканцы использовали силу одежды, чтобы придать вес своим требованиям равного уважения и достоинства, сначала как рабы, потом беглецы и, наконец, свободные люди в борьбе за базовые права в откровенно расистском обществе. После освобождения, терпя притеснения и борясь за гражданские права, активисты носили «лучшее воскресное платье» в попытке разрушить расовые стереотипы17.
Более поздние поколения активистов развили альтернативные кодексы в одежде, воплощая политику респектабельности раннего движения за гражданские права. Активисты одевались так, чтобы продемонстрировать солидарность с сельскохозяйственными рабочими. Радикальные бойцы из «Власти черных» выбирали облегающую, военизированную одежду в стиле битников. Были и поклонники романтического афроцентризма.
Сегодня афроамериканцы все еще борются с тем, что некоторые считают элитарностью политики респектабельности, а другие осуждают как непрактичность (и не такую явную элитарность) «радикального шика».
Части Четвертая и Пятая посвящены дресс-кодам конца XX и начала XXI веков. Наши представления об одежде стали более свободными, но мы продолжаем ее контролировать и судим о других по тому, во что они одеты. В части Четвертой мы поговорим о том, как меняющиеся дресс-коды регулируют и определяют гендерную одежду. Так как женщины требуют равенства и начинают пользоваться некогда исключительно мужскими прерогативами, дресс-коды для женщин соединяют в себе политику и личность.
Некоторые женщины стремятся вырваться за рамки ограничений традиционной женственности, отказываясь от обязательной женственной декоративности в пользу скромной аскетичности. Другие отвергают обязательную женскую скромность и выбирают вызывающую сексуальную самоуверенность. Каждая из этих новых форм дресс-кода силы имеет свои преимущества и опасности.
В Пятой части мы поговорим о том, как в наше время по-новому смешиваются символы в одежде. Это стало возможным благодаря отсутствию учреждающих дресс-кодов, и перемены привели к изменению ожиданий. Мы теперь более терпимы к индивидуальному выбору в моде, чем предыдущие поколения, и не только принимаем, что одежда будет отражать личность, но и ожидаем этого.
Теперь у каждого из нас есть в распоряжении многовековая история моды. Каждый человек волен выбирать любые символы статуса прошлого, и при этом не важно, занимает человек ту социальную позицию, которую они определяют, или нет. Но, разумеется, дресс-коды не сдаются. Это могут быть как написанные правила, регулирующие, как должны одеваться студенты или работники сферы услуг, так и неписаные установки, согласно которым все манхэттенские инвестиционные банкиры будут одеты во флисовые свитера одного стиля поверх одинаковых светло-голубых сорочек из ткани оксфорд.
Даже если формальная власть правительства теперь обычно не задействована, социальные ожидания и давление общества ограничивают индивидуальную свободу. Большинство людей все еще ждет, что одежда будет отражать принадлежность ее обладателя к определенному социальному классу, расе, религии и полу. Некоторые считают нарушения старых норм неуважением и даже намеренным обманом.
Поэтому многие современные дресс-коды рассчитаны на то, чтобы одежда оставалась символом социального положения, и одновременно как запрещают новаторское и нетрадиционное использование старых символов в одежде, так и создают новые статусные символы, которые могут расшифровать лишь немногие избранные. «Дресс-коды» расскажут, почему мы одеваемся так, как одеваемся, чтобы понять, как дресс-коды творили историю.
Часть первая
Символы статуса
С помощью двух ярдов красной ткани можно выглядеть благородным человеком.
КОЗИМО МЕДИЧИ
В трудные времена мода всегда эпатажна.
ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ
Глава 1
Кодировка статуса
О чрезмерном выставлении напоказ коротких штанов, корон, сборчатых воротников, бархата и малинового шелка
В 1565 ГОДУ НЕСЧАСТНОГО РИЧАРДА УОЛВЕЙНА, слугу Роуленда Бэнгема, эсквайра, арестовали за ношение «чудовищных и возмутительно пышных коротких штанов». За это модное преступление Уолвейна продержали под стражей «до того времени, пока он не купит или иным образом не получит в свое распоряжение штаны приличного и дозволенного фасона и сорта… и не предстанет в этих новых коротких штанах» перед лорд-мэром Лондона18. Суд постановил конфисковать оскорбительный наряд и выставить его «на открытом месте в каком-либо здании, где люди смогут его должным образом рассмотреть и оценить как пример наивысшего безрассудства».
Историк Виктория Бакли описывает короткие штаны этого периода как «объемные шорты… расширяющиеся от талии и сужающиеся вокруг верхней части бедер»19.
Они «зачастую могли быть… нелепыми, с огромным количеством подкладок и подбивок и даже… с вшитыми вставками из шелка кричащего цвета, которые обладатель мог вытащить сквозь прорези в верхнем слое ткани, чтобы еще больше уподобить их подушке…»20.
Такие короткие штаны были парашютными штанами своего времени, а Ричард Уолвейн – рэпером Хаммером эпохи Ренессанса. По мнению властей, короткие штаны стали угрозой общественному спокойствию в елизаветинской Англии.
В официальном объявлении 1551 года говорилось, что «в последнее время ношение коротких штанов ужасной и оскорбительной величины… просочилось в королевство к великому очернению его и увеличению числа тех, кто ими пользуется. [Эти люди] добывают их незаконными путями… которые приводят их к разложению»21.

Объемные короткие штаны были модной мужской одеждой в елизаветинскую эпоху
Закон накладывал суровое наказание на тех, кто носил такую контрабандную одежду. Наказание Ричарда Уолвейна было мягким по сравнению с тем, что вынес Томас Брэдшоу, торговец-портной, который в том же году был арестован за ношение слишком объемных коротких штанов «против правильного порядка». Суд постановил, «что всю набивку и подкладку следует отрезать и вынуть… А его облачить в дублет [облегающую куртку] и короткие штаны и провести в таком виде по улицам до его… дома. И там вырезать набивку и подкладку из других штанов»22. Модные преступления считались порождением греха тщеславия, и наказание публичным унижением за них признавалось самым подходящим.
Ношение коротких штанов хорошего вкуса обычно не наказывалось законом, даже во время думавшей о моде Елизаветы. Какими бы безвкусными или некрасиво набитыми ни были короткие штаны и какими бы тщеславными ни были те, кто их носил, почему власти с помощью закона наказывали подобный дресс-код? Ричард Уолвейн и Томас Брэдшоу не только нарушили каноны изысканности в одежде. Они нарушили политический порядок в обществе, в котором внешний вид считался маркером ранга и привилегий. Их бросающееся в глаза одеяние сочли своего рода контрафактом, который угрожал экономически подорвать прерогативу аристократии, снижая стоимость ее вестиментарной валюты.
С конца Средних веков до эпохи Просвещения и закон, и обычай требовали, чтобы одежда указывала на принадлежность к социальному классу, касте, роду занятий, религии и, разумеется, к полу ее обладателя. Эти дресс-коды превращали одежду в символ статуса, устанавливая вестиментарный язык, сохранившийся до наших дней. В каком-то смысле законы Тюдоровской эпохи, запрещавшие вызывающие короткие штаны, продолжали древнюю традицию. Спартанцы завоевали репутацию суровых людей благодаря одному из самых ранних из известных законов против роскошной одежды. А их соперники афиняне издали законы, ограничивавшие роскошную одежду, в VI веке до н. э. Римляне, первыми использовавшие термин «регулирующие» для законов такого рода, приняли множество законов, ограничивавших пышную одежду, а также изобильную пищу, роскошную мебель и обмен дорогими подарками23.
Первый средневековый европейский закон, запрещавший излишнюю роскошь, был принят в Генуе в 1157 году, а к концу Средних веков регулирующие дресс-коды были широко распространены по всей Европе24. Ранние дресс-коды служили для продвижения добродетели аскетизма и для предупреждения излишних трат. Они ограничивали не только использование роскошной одежды, но и чрезмерные расходы на пиры и празднества, такие как свадьбы и похороны.
Начиная с 1300 годов регулирующие законы все чаще касались одежды. Моралисты осуждали ее за роскошь, которую в лучшем случае считали отвлечением от более важной духовной чистоты и религиозного благочестия, а в худшем – греховным потаканием плоти. Для религиозных властей украшение тела относилось к приманкам, которыми развратные женщины пытались ввергнуть мужчин в грех и распутство. Сама одежда была следствием грехопадения. В указе от 15 июня 1574 года королева Англии Елизавета I привела более прозаические причины того, почему регулирование одежды считалось делом национальной безопасности.
Королева настаивала на том, что дорогой импортный текстиль, меха и готовая одежда нарушают торговый баланс: «Деньги и сокровища королевства не должны расходоваться на указанные излишества». Соревнование, кто лучше одет, подрывало закон и порядок, так как стоимость роскошной одежды угрожала разорением людям со скромными средствами и толкала их на преступления:
«Большое число молодых джентльменов, во всех остальных отношениях полезных обществу, и других, кто стремится демонстрацией одежды добиться, чтобы их сочли джентльменами, кто прельстился тщеславным показом подобных вещей, не только уничтожают себя, свое добро и земли, оставленные им родителями, но и погружаются в долги и хитрости, так как не могут жить, не совершая незаконных действий и не подвергая себя опасности наказания по закону…»25
Такими были стандартные оправдания регулирующего законодательства, но с большей вероятностью главной целью множества новых дресс-кодов было сохранение символов статуса для элиты. Главной проблемой, которую решали регулирующие законы, было не то, что «люди низшего сорта», как было написано в одной из елизаветинских прокламаций, соблазнялись одеждой, которая была им не по средствам, а то, что они могли позволить себе конкурировать с элитой в одежде. В самом деле, в преамбуле к Акту 1533 года, регулирующему одежду, говорится:
«Из роскошных и дорогих одеяний, которые по обычаю носят в этом королевстве, проистекли и проявляются ежедневно подобные многочисленные и видимые неудобства, приносящие большой, явный и заметный урон всеобщему благу, подрывающие правильный и политический порядок в распознавании людей в соответствии с их владениями, превосходством, достоинством и званиями»26. Многие регулирующие законы конца Средних веков и эпохи Возрождения недвусмысленно ссылаются на социальный ранг и статус. К примеру, в 1229 году король Франции Людовик VIII ввел ограничения на одежду знати, пытаясь взять феодалов под централизованный контроль. А в 1279 году король Филипп III Смелый ограничил роскошь нарядов в соответствии с количеством земель во владении. Английский «Статут, касающийся питания и одежды» 1363 года напрямую связывал роскошь одежды с богатством.
Городские жители и землевладельцы с сопоставимыми доходами были объектами одинаковых ограничений в одежде27. Регулирующий закон Милана 1396 года освободил жен рыцарей, адвокатов и судей от ограничений в одежде и украшениях, тогда как в преамбуле к последующему миланскому закону 1498 года откровенно говорится, что он стал ответом на жалобы знати на то, что их привилегии уменьшаются. В соответствии с этим законом сенаторы, бароны, графы, маркизы, монахи, монахини, лекари и в некоторых случаях их жены освобождались от ограничений28.
Пока законотворцы пытались примирить знать и новые модные тренды, правила приобрели совершенно невообразимый характер. Практически каждая деталь одежды могла стать потенциальной мишенью для ограничений по закону. В Генуе в 1157 году запретили использование отделки из соболя29. В 1249 году в Сиене ограничили длину шлейфов на женских платьях.
В 1258 году король Кастилии Альфонс X разрешил носить алые плащи только королю, а шелк только знати. Папский легат в Романии в 1279 году потребовал, чтобы все женщины региона носили вуали. А в Лукке в 1337 году запретили носить вуали, капюшоны и накидки всем женщинам, за исключением монахинь30. Флорентийский закон 1322 года запрещал всем женщинам, кроме вдов, носить черное. В 1375 году в Л’Аквиле только родственники-мужчины недавно усопшего могли ходить небритыми и отращивать бороды, и только в течение десяти дней31.
Короны были отдельной проблемой. В конце XIII века во Франции король Филипп IV Красивый ограничил ношение корон высшим сословием. Его жена Жанна Наваррская по крайней мере однажды язвительно высказалась по поводу преобладания роскошной одежды: «Я считала себя единственной королевой, и вот я нахожусь среди сотен!»32 Многих возмущало неоправданное использование короны.
В 1439 году анонимный критик в Брешии пожаловался, что «строители, кузнецы, мясники, обувщики и ткачи одели своих жен в багряный бархат, шелка, дамаск и тончайший пурпур; у их рукавов, похожих на широченные флаги, атласная подкладка, подходящая только королям, на их головах сияют жемчуга и богатейшие короны, тесно усаженные драгоценными камнями…»33.
Если верить Никколо Макиавелли, то Козимо Медичи, могущественный флорентийский банкир и правитель Флоренции в начале XV века, сказал: «С помощью двух ярдов красной ткани можно выглядеть благородным человеком»34. Так как высшие классы стремились сохранить статус-кво перед лицом разрушительных новаций, количество регулирующих законов резко выросло, достигнув пика в процветающую эпоху Возрождения, начиная с XIV века. В городах всего итальянского полуострова и республики, и деспотии вводили новые ограничения на явную демонстрацию роскоши, особенно в одежде35. Европейские правительства изобретали новые дресс-коды в отчаянной попытке опередить новую моду и новые деньги.
К примеру, по мнению историка Алана Ханта, число регулирующих законов во Флоренции выросло с двух в XIII веке до двадцати в веке XVII. В Венеции был один такой закон в XIII веке, а в XVII веке их стало 28. В Англии в XIII веке не было никаких регулирующих законов, но в XVI веке их было уже 20. В конце XV века в Испании было всего два регулирующих закона, но к XVI веку их было уже 1636. Во Франции в XII веке был один подобный закон, но их насчитывалось 20 в XVII веке.
К этому времени ограничения были введены и в уголовное законодательство, и в экономику. Закон 1656 года разрешал полиции останавливать и обыскивать людей на улицах Парижа в поисках товаров, которые нарушали регулирующие коды. Торговцы, продававшие запрещенные товары, облагались штрафом, а при неоднократных нарушениях могли лишиться патента, то есть законного разрешения на занятие торговлей37.
Регулирующие законы конца Средневековья и эпохи Возрождения были попытками определить социальное значение одежды. Эти законы стали ответом на новую социальную мобильность и нестабильность, которые появились вместе с экономическим процветанием. По мере того как Европа поднималась из тьмы Средневековья, новые технологии, новые возможности для торговли, увеличившаяся миграция и рост населения дестабилизировали старый социальный порядок.
Размах перемен конца Средневековья сравним с промышленной революцией XIX века или современной эпохой высоких технологий и глобализации. В XII веке началось производство бумаги, был изобретен магнитный компас и построена первая из известных ветряная мельница. Аванпосты Ганзейского союза городов, достигшего зенита в XIII и XIV веках, располагались далеко на востоке (Россия) и далеко на западе (Англия). Ганза контролировала торговлю в Балтийском и Северном морях. Торговля расширялась, появлялись новые состояния и новые идеи. Великий шелковый путь начал регулярно функционировать в XIII веке, и в Европу потекли технологии и товары Востока, больше всего из Китая, который был в те времена самым крупным производителем в истории.
Первые европейские университеты были основаны в XII и XIII веках. Ученые из Италии, Англии, Испании и Португалии начали переводить греческие и арабские тексты. Так в Европе появились утраченные древние знания и новаторские идеи в математике, науке и философии. Всплеск технологий и торговли позволил торговцам, купцам, банкирам и другим представителям мелкой буржуазии окружить себя роскошью, доступной прежде только аристократам-землевладельцам. Тем временем процветавшая торговля ношеным, а иногда и ворованным платьем угрожала еще сильнее размыть понятие престижа и запутать социальное значение одежды38.
Затем в XIV веке пандемия чумы опустошила Европу, Азию и Средний Восток, убив десятки миллионов людей. По оценкам историков, примерно 45–65 % населения Европы умерло между 1347 и 1351 годом. По налоговым записям видно, что 80 % флорентинцев умерли всего за четыре месяца в 1348 году39. Когда чума отступила, сокращение числа работников позволило им требовать более высокой платы, лучших условий труда и уважения к себе, сделав социальную мобильность более выраженной, чем когда бы то ни было40.
Одежда была необходимым символом статуса сформировавшейся элиты и нуворишей. Это идеальное средство для демонстрации богатства и власти, вездесущее, индивидуальное, съемное. Любые украшения одежды, если они не носят сугубо функциональный характер, показывают, что ее владелец может позволить себе сорить деньгами. То есть роскошная одежда – это реклама успеха, которую можно носить. Социолог Торстейн Веблен в своей знаменитой «Теории праздного класса» написал об этом так:
«Основание, на котором зиждется авторитет, – это финансовое могущество… [выражаемое посредством] праздности и демонстративного потребления товаров… Траты на одежду отвечают этим условиям. Наша одежда всегда на виду и с первого взгляда является индикатором нашего финансового статуса для всех наблюдателей…»41
Если роскошная одежда была способом заявить о социальном доминировании, то регулирующие законы были способом держать дерзких выскочек в узде. В Средние века большинство европейцев было неграмотно, и только в эпоху Возрождения грамотность начала медленно распространяться. К примеру, по мнению историков, более 90 % населения Англии были неграмотны в 1500 году и большинство оставалось неграмотным до XIX века42. Поэтому такие общества полагались на вербальную коммуникацию и изображения, чтобы передавать то, что следующие поколения передавали через написанные тексты. Церковь распространяла Евангелие через иконы, картины, ритуалы и зрелища. Государство обращалось к своим гражданам и представителям иностранных государств через величественные праздники, большие дворцы, парады и вызывающие восторг монументы. Это были визуальные аргументы в пользу почитания и уважения.
Одежда являлась неотъемлемой частью этих основанных на образах доводов. Монарх мог показать другим людям, что он необыкновенный человек и судьбой предназначен править. Священник мог одним своим физическим присутствием намекнуть на великолепие рая и славу Господа. Новинки моды усилили такое визуальное убеждение. Искусство портных, появившееся в XIV веке, позволило одежде быть экспрессивной не только с помощью роскошных тканей, ярких цветов и украшений, но и с помощью силуэта.
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе