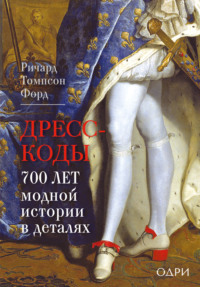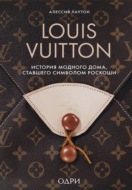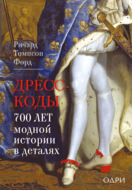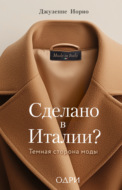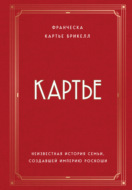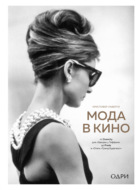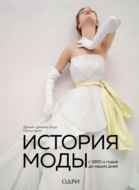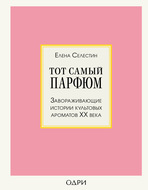Читать книгу: «Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях», страница 5
Неправильные одеяния
Одеяние монахини было сложным и даже противоречивым символом в одежде, говорившим о запретной чувственности через показную скромность и намекавшим на отринутую роскошь своей очевидной строгостью.
Когда в XVI веке по Северной Европе прокатилась Реформация, фигура монахини в ее узнаваемом одеянии стала символом разложения и лицемерия католической церкви. Многие протестантские реформаторы, и особенно сам Мартин Лютер, сосредоточились не только на том, что они считали теологической ошибкой, но и на моральном разложении католической церкви. В 1517 году в своих знаменитых 95 тезисах Лютер обрушился на продажу индульгенций, которые, как утверждали церковники, уменьшат наказание за грехи.
В своей критике протестанты также сосредоточились на периоде папства первой половины X века, позже получившего название «порнократии» («правление блудниц»), когда многие папы вели себя как римские аристократы в дохристианскую эпоху. Они устраивали заговоры, чтобы контролировать переход папского престола, а в некоторых случаях имели любовниц. С точки зрения протестантов, католическая церковь была не только коррумпированной, но и развратной.
Церковный раскол разделил Европу на католический юг и протестантский север, где новые теологи распространяли критику католицизма Лютера, а государство и частные лица поощряли отрицательное отношение к католицизму. В следующие столетия монахини в своих приметных одеяниях стали объектами преследования, финансируемого государством и частными лицами, а также героинями непристойных литературных произведений.
Сексуализированный образ монахини, образы монахини-жертвы или монахини-садистки были превалировавшей темой даже в католической Франции. Дени Дидро в романе 1780 года «Монахиня» поведал о беспричинной жестокости настоятельницы, от которой страдала молодая женщина, заточенная в монастыре. А у серии новелл 1837 года Оноре де Бальзака «Озорные рассказы» был подзаголовок «Славные пересуды монашек из Пуасси».
В викторианской Англии кошмарные повествования о разврате, пытках и святотатстве в монастырях стали отдельным литературным жанром. В этих жутких опусах священники и монахи, чья сексуальность была исковеркана обетом воздержания, находили для нее выход через женщин, которых церковь держала взаперти в монастырях. Тем временем монахини-старухи, высохшие, обиженные и вооруженные плетками или другими инструментами для пыток, с садистическим энтузиазмом приводили к послушанию молодых монахинь. Сенсационные отчеты о жизни в монастырях описывали некий опасный культ, который втайне отвергал Библию105.
Некий преподобный Коулридж написал памфлет под названием «Ужасные разоблачения мисс Джулии Гордон, беглой монахини или шпионки». В нем рассказывалась страшная история девушки-протестантки, которая последовала дурному совету и перешла в католицизм, а затем ушла в монастырь. Она быстро поняла, что совершила ошибку, но было уже слишком поздно. Монастырь на деле оказался тюрьмой, а священники – распутниками, требовавшими сексуальных утех от монахинь.
Во время вынужденной поездки в Рим Джулия видела, как незаконных отпрысков священников и монахинь бросают в яму с известью перед собором Святого Петра вместе с обугленными останками протестантов, отказавшихся переходить в католичество. Поняв, что забеременела от священника, Джулия сбежала и нашла убежище у доброй протестантской семьи в Париже, но умерла во время родов. Подобная литература распространялась и в других странах. В американской книге 1836 года «Ужасные разоблачения монахини Марии» предлагали рассказ «из первых рук» о монастырях, соединенных тайными туннелями, позволявшими священникам пробираться в кельи монахинь ради незаконных связей, и об убийстве незаконных отпрысков106.
Подобные истории вдохновляли одновременно и насилие толпы, и порнографические фантазии. В викторианской Англии иногда забрасывали монахинь камнями, при этом их одеяние стало фетишем: монахиня с плеткой была популярным возбуждающим образом.
Многие бордели викторианской Англии держали среди набора костюмов одеяние монахини107. Изначально задуманный скромным ансамбль, частично призванный защитить одинокую женщину от посягательств мужчин, был эротизирован, и эта ассоциация жива до сих пор.
В некоторых случаях тщательно продуманные фасоны одежды, появившиеся в Средние века и в эпоху Возрождения, прожили намного дольше, чем моды, вдохновившие их и уже ставшие музейными экспонатами108. Между тем настойчивое желание монашеских орденов не быть похожими на других привело к появлению множества новых дизайнов. Некоторые, как пишет Кюнс, обладали «причудливыми характеристиками, требовавшими излишнего внимания к деталям»109.

В Викторианскую эпоху одежда монахинь превратилась в фетиш, и эта странная ассоциация сохраняется до наших дней
Вследствие этого многие ордена сохранили одеяния, которые изначально создавались как стилизованные версии обычного скромного платья, даже когда мирская мода двинулась в противоположном направлении и ее линии становились все более облегающими. К примеру, каноническое одеяние сестер милосердия включало сильно накрахмаленный «крылатый» чепец с отогнутыми кверху углами, надеваемый поверх вимпла (обвязки).
В Средние века вимпл был традиционным головным убором замужних аристократок и оставался им до конца XVII века, когда сестры стали его носить. Но, разумеется, женская мода двигалась вперед, тогда как монашеское одеяние оставалось таким же, как и в прошлом. Сестры милосердия отказались от крылатого чепца только в 1964 году.
В 1917 году кодекс Канонического права установил новый дресс-код, который требовал от «всех религиозных женщин» постоянно носить монашеское одеяние. Устанавливалось, что новые общины не могут принимать монашеское одеяние давно существующих орденов, тем самым эффективно кодифицируя эти анахронистические дизайны. К середине XX века многие монахини считали, что монашеское одеяние символически отделяло их от людей, которым они старались служить, проводя миссионерскую и благотворительную работу.
В ответ на эту озабоченность в 1950 году папа римский Пий XII порекомендовал следующее: «При всем уважении к религиозному монашескому одеянию выбирайте то, которое выражает ваше внутреннее отсутствие нарочитости, простоту и религиозную скромность»110.
После проповеди Пия XII итальянские модные дизайнеры представили новые идеи для монашеского одеяния, одни – практичное прет-а-порте, другие – детально проработанную высокую моду111. Тренд получил новое развитие в 1962 году, когда папа Иоанн XXIII объявил Второй Ватиканский собор и выразил намерение «стряхнуть пыль, скопившуюся на престоле святого Петра со времен Константина». Перемены витали в воздухе.
В тот же год кардинал Леон-Жозеф Сюэненс, архиепископ Мехелена-Брюсселя, опубликовал книгу под названием «Монахиня в миру», в которой заявил: «Современный мир не терпит никаких украшательств, излишеств или других причуд, накрахмаленных или развевающихся на ветру… Все нарочитое или лишенное простоты отвергается… все, создающее впечатление, что монахиня не только в стороне от этого мира, но и совершенно чужда его эволюции».
Религиозные ордены обратились к моде, чтобы она помогла найти новый облик. К примеру, сестры милосердия обратились в элитный нью-йоркский универмаг Bergdorf Goodman, тогда как дочери милосердия святого Венсана де Поля выбрали новый дизайн с элегантным платьем в бантовую складку и вуалью в стиле платка на голову, вдохновленного стилем Кристиана Диора112. Второй Ватиканский собор укрепил этот современный взгляд. В 1965 году «Декрет о должном обновлении религиозной жизни», Perfectae cartatis, настаивал на том, что «религиозное монашеское одеяние… должно быть простым и скромным… подходящим ко времени и месту, и к нуждам апостольского служения. Монашеские одеяния и мужчин, и женщин, не соответствующие этим нормам, должны быть изменены»113.
В 1960-х годах феминистки-католички обратили критический взор на неравноправие женщин в лоне церкви, ярким символом которого было монашеское одеяние. В 1968 году теолог Мэри Дэйли пожаловалась на католическую церковь, которая «делает вид, что ставит женщину на пьедестал, но в действительности не позволяет ей истинной самореализации»114.
По мнению историка Элизабет Кюнс, «для некоторых сестер монашеское одеяние и вуаль олицетворяли настоящий идеал мужского доминирования, и они сравнивали его с паранджой Среднего Востока». Еще до Второго Ватиканского собора многие новые ордены приняли упрощенный современный вариант монашеского одеяния: однотонное темно-синее или черное платье и однотонные покрывала или шляпы, лишь немного отличавшиеся от мирской одежды того времени. На волне растущей феминистской критики монашеского одеяния в 1966 году Лоретские сестры сделали следующий логичный шаг и полностью отказались от монашеского одеяния в пользу скромных костюмов.
Столкнувшись с такими вызовами традициям и традиционной власти, Ватикан попробовал установить границы модернизирующей реформы, обратившись с проповедью к монахиням и призвав их сохранить верность монашескому одеянию. «Мы не можем не упомянуть, как важно для платья быть… знаком посвящения и так или иначе отличаться от мирской моды», – написал папа римский Павел IV в 1971 году.
В 1972 году Священная Конгрегация настаивала на том, что необходимо «соблюдать базовый критерий, чтобы монашеское одеяние, предписываемое религиозными институтами, даже измененное и упрощенное, выделяло религиозного человека, который его носит»115. А Коалиция американских монахинь повторила феминистскую критику католического патриархата, поклявшись «протестовать против любого доминирования священников в наших институтах вне зависимости от их иерархического статуса. Мы считаем нерушимым… право самоопределения для религиозных женщин».
К концу 1970-х годов монашеское одеяние стало не только религиозным, но и политическим символом. По данным Кюнс, «либеральные и “прогрессивные” монахини носят мирскую одежду, монахини консервативные сохранили монашеское одеяние. Выбор монахиней одеяния – это барометр ее политических взглядов, философии и привязанностей»116. В этом смысле монашеское одеяние стало своего рода личным заявлением, пронизанным не только традиционным духовным значением, но еще и социальным, и политическим, характерным для всей одежды.

Слева современное одеяние дочерей милосердия, вдохновленное стилем Кристиана Диора. Справа традиционное одеяние с эффектным «крылатым» чепцом
Разумеется, именно этого и боялись католические традиционалисты, когда сопротивлялись его модернизации. Но битва была проиграна задолго до того, как Bergdorf Goodman начал предлагать дизайнерскую монашескую одежду, а американские монахини выбрали шляпы-таблетки вместо покрывала. На самом деле эта битва началась еще в XVII веке, когда неаполитанские послушницы в открытую обменивали семейные драгоценности на высокий статус в монастыре.
Дресс-коды, определявшие монашеское одеяние, как и регулирующие законы тюдоровской Англии, были не просто кодификацией древних обычаев. Они стали защитной реакцией на использование древних вестиментарных символов в современных модных заявлениях.
* * *
Дресс-коды в бурные годы после рождения моды пытались обеспечить одежде сохранение особых и легко считываемых смыслов. Для политической власти самыми насущными были классовые вопросы. Для религиозных лидеров наибольшее значение имели вопросы веры и общественной морали. Дресс-коды, определенные как законами, так и проповедями, связали веру с сексом и чувственностью, определив одежду, подходящую для добродетельных женщин, как прямо противоположную той, которую должны носить падшие женщины. Но эти дресс-коды вступили в противоборство с растущим влиянием моды, которая переделала, преобразила и перекодировала старые вестиментарные символы, поставив их на службу самовыражения.
Серьги, которые закон предписывал носить иудейкам, привлекли внимание неевреев. Наряды падших женщин стали модными у женщин респектабельных и богобоязненных. Скромные наряды самых религиозных женщин неизбежно намекали на статус и чувственность, которые они пытались скрыть.
Мода превратила эту непреднамеренную игру показательной скромности в форму отстаивания своих прав, тогда как мужская сексуальная фантазия превратила ее в сексуальный фетиш. Трансформация традиционных символов, сакральных или нечестивых, в визуальные элементы личных нарративов вдохновляла на создание новых дресс-кодов в отчаянной, но тщетной попытке угнаться за последними модными трендами.
Глава 4
Символы пола
О пластинчатых доспехах и нижнем белье под ними, о масках и костюмах
ОДЕЖДА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, кажется естественным следствием человеческой биологии. Как перчатка создана так, чтобы сидеть по руке, а обувь – чтобы облегать ступни, так и штаны были созданы с расчетом на мужское тело, а платье – на женское. Это традиционное понимание вопроса, не столько сформулированное, сколько предполагаемое, присутствует в каждом ритуале, обычае и моральных ограничениях, окружающих нашу одежду. Но пол, который проявляется в одежде, на деле не отражает человеческую биологию. Это артефакт, определенный привычными социальными ролями и практиками.
Одежда, связанная с половыми различиями, всегда в большей степени отражала ожидания, страхи и фантазии, окружавшие семью и сексуальность, чем анатомические различия между мужчинами и женщинами. В древности одежда маркировала эти культурные гендерные роли относительно просто, насколько это позволяли делать одеяния с драпировкой. Дресс-коды после рождения моды использовали новый, более утонченный и выразительный вестиментарный словарь, который резко повысил ставки гендерной одежды. Сшитая одежда могла ярче обозначить традиционные гендерные роли, но одновременно она создавала новый сексуальный символизм, который бросал этим ролям вызов и разрушал их.
Как девчонка-сорванец стала первой в истории жертвой моды
В 1429 году семнадцатилетняя девушка, которая скоро станет известна под именем Жанны, Орлеанской девы, покинула маленький городок на северо-востоке Франции, чтобы служить дофину Карлу, наследнику престола, на поле боя. Его войска проигрывали в Столетней войне против англичан, считавших, что имеют право управлять Францией по сомнительному праву наследования.
Поначалу Жанну никто не принял всерьез, но ее решимость преодолела первоначальное сопротивление. Талант и интуиция девушки помогли французам разработать новые планы битв, а ее отвага вдохновила деморализованные войска. Под руководством Жанны французские войска смогли успешно выйти из осажденного Орлеана. Впоследствии она провела кампанию по освобождению города и Реймсского собора, где короновали французских королей с того времени, когда франкские племена были объединены под властью одного правителя.
Это позволило короновать дофина по древней традиции. Казалось, что своими поразительными успехами Жанна обязана божественному провидению, и это, в свою очередь, предполагало божественное право Карла VII править Францией. В 1430 году Жанну схватили во время боя и заключили в тюрьму. Церковный трибунал, в котором было много сторонников англичан, попытался обвинить ее в ереси. Но вера Жанны была безупречна. Она проявила удивительные знания запутанной схоластической теологии, поэтому все усилия вынудить ее сделать еретические заявления оказались безрезультатными.
Не имея возможности дискредитировать веру Жанны, трибунал обратил внимание на ее одежду. В бою она носила доспехи, под которые надевала полотняные штаны и некое подобие облегающей туники, которые соединялись между собой завязками. И то и другое было традиционно мужской одеждой. Как и мужчины, бок о бок с которыми она сражалась, Жанна носила этот наряд и вне поля битвы.
Трибунал обвинил ее в ереси, процитировав библейскую заповедь из Второзакония, глава 22, стих 5: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие». В 1431 году ее сожгли на костре.
В 1455 году церковь провела еще один суд над Жанной, уже посмертный, и в 1456 году приговор отменили. Чтобы поддержать аннуляцию предыдущего обвинения, трибунал процитировал трактат «Сумма теологии» Фомы Аквинского, в котором содержится исключение из библейского запрета на кроссдрессинг: «Тем не менее это [ношение одежды, которая ассоциируется с противоположным полом] может порой совершаться без греха ввиду некоей необходимости, либо ради того, чтобы скрыться от врагов, или ввиду неимения другой одежды…»117
Точно так же святая Хильдегарда Бингенская написала: «Мужчины и женщины не должны носить одежду друг друга за исключением необходимости. Мужчине никогда не следует надевать женское платье, как и женщине не следует использовать мужской наряд… если только жизни мужчины или целомудрию женщины не угрожает опасность…»118 Трибунал пришел к выводу, что Жанна носила мужскую одежду и спала в полотняном нижнем белье, защищаясь от возможного изнасилования солдатами. Эти обстоятельства оправдывали нарушение ею дресс-кода, установленного во Второзаконии.
Хотя при жизни она ее никогда не использовала, но известна Жанна стала под фамилией отца – д’Арк. Жанну д’Арк причислили к лику святых в 1909 и канонизировали в 1930 году. Из-за известности Жанны ее история была рассказана многократно и изменена в угоду различным обстоятельствам. Первоначальное обвинение Жанны основывалось на том, что она носила мужскую одежду ради собственного удовольствия, намеренно бросила вызов религиозному закону.
Но все судилище было политической вендеттой, основанной на надуманных обвинениях и фальсифицированных доказательствах. Посмертный суд выяснил, что Жанна была непорочной и чистой, она носила мужскую одежду исключительно по необходимости. Но на это решение, вне всякого сомнения, повлияло желание реабилитировать и принять женщину, которая в последующие годы стала религиозной и национальной иконой.
Так носила Орлеанская дева мужскую одежду по собственному выбору или по необходимости? Привлекательность мужской одежды сама по себе могла быть причиной, по которой юная Жанна стала ее носить. Мужская одежда определенно была более практичной при тех обстоятельствах. Она была интереснее и, с точки зрения символизма, сильнее, чем женские наряды того периода. Жанна стала взрослой как раз в то время, когда модная одежда начала дополнять, если не вытеснять, традиционные наряды. И это была мужская мода, производное от сшитой на заказ военной одежды. Таковой она и оставалась следующие триста лет.
Использование портновских приемов, впервые примененных для пошива нижнего белья под доспехи, привело к появлению в XIV веке облегающих штанов и брюк, коротких дублетов и фаллического гульфика. Мужская одежда подчеркивала тело, тогда как женская одежда оставалась скромной. Хотя женские корсажи обрисовывали верхнюю часть торса, ниже талии женщины были задрапированы. И такой вариант просуществовал до XX века. Так как облегающая одежда подчеркивала форму тела, она была сексуальнее драпированных одеяний, предписанных женщинам, намекая на мужественность и сексуальную уверенность. Историк Энн Холландер написала:
«Жанна д’Арк выглядела нескромно эротичной в своей мужской одежде. Она не переодевалась в мужчину и не просто выглядела одетой практично и по-солдатски… [вместо этого она] отвергла романтичную скромность женского платья того времени, не скрывая того факта, что она женщина…»119
В средневековой литературе женщина в мужской одежде уже была привычным и популярным персонажем. Женщины-рыцари сражались на турнирах, девушки выдавали себя за юношей, чтобы унаследовать и сохранить семейные владения. Во времена раннего христианства женщины, впоследствии причисленные к лику святых, носили мужскую одежду во время отважных поисков духовного просветления.
По мнению историка Вэлери Хотчкисс, эти истории показывали, что средневековая аудитория была заинтригована размыванием гендерных категорий и симпатизировала женщинам, которые носили мужскую одежду ради благой цели120. Легенда о Жанне д’Арк идеально укладывается в романтическую традицию. Хотя она была героиней в рыцарской традиции, Жанна была не только романтической, но и сексуальной фигурой. Жанна приняла мужскую новацию – облегающую одежду, – но не прятала свою духовную добродетель и женскую сексуальность. Она была прямым визуальным опровержением религиозной морали того времени, которая связывала женскую добродетель с непритязательной скромностью.
В эпоху Жанны д’Арк переодевание в одежду другого пола было установившейся практикой, но при этом противоречивой и допустимой только в строго определенных социальных границах. Кроссдрессинг различного рода был обычной частью средневековых фестивалей, праздников, карнавалов, театральных представлений и всегда нес с собой сочетание подрыва традиций и эротики. В некоторых случаях такое переодевание заключалось только в костюме и могло предполагать нарушение традиционных классовых границ и социальной роли, а также половой принадлежности.
На балах и празднествах часто носили костюмы и маски, дававшие возможность выдавать себя за другого человека и позволять себе вольности иного социального положения. Некоторые костюмы по-настоящему скрывали личность того, кто их носил, и существовали законы, запрещавшие ношение масок и переодевания вне празднеств121. Но большинство костюмов не обманывали наблюдателей и не были рассчитаны на это. Вместо этого они предполагали легкомысленные ролевые игры и тщательно ограниченные и обставленные ритуалами отступления от установленных социальных ролей122.
Историки Джудит Беннет и Шеннон Макшефри отмечают, что «ношение одежды другого пола, как в публичных домах, так и на сцене, имело сильный эротический заряд… Проститутка, одевавшаяся выше своего статуса», была распространенным фетишем в Англии во время правления Елизаветы I, и «это уходило корнями в прошлое вплоть до тринадцатого века, когда Лондон запретил проституткам носить накидки с мехом «на манер достойных дам», чтобы «уменьшить эротизм разодетых проституток»123.
Наряды «матрон» из высшего класса или собственных жен были эротическим фетишем для мужчин из рабочего класса, «для которых подобные фантазии одновременно выражали тревогу по поводу женской власти дома и социальные амбиции»124. Тем временем высшие классы одевались в одежду низов или в наряды экзотических иноземцев и преступников на эротически заряженных маскарадах. Как говорится в отчете о подобном переодевании, в 1509 году Генрих VIII и несколько других знатных мужчин ввалились «в спальню королевы, все одетые в короткие штаны, с капюшонами на головах и… с луками и стрелами, с мечами и небольшими круглыми щитами, как разбойники или люди Рокина [Робина] Ходса [Гуда]»125.
Несмотря на частую симпатию к некоторым формам кроссдрессинга или благодаря ей, регулирующие законы конца Средних веков и эпохи Возрождения запрещали разнообразные практики переодевания. Одежда должна была соответствовать статусу, и следовало предупреждать сексуальное возбуждение и незаконный секс, который ассоциировался с кроссдрессингом разного рода. К примеру, закон Флоренции 1325 года запрещал кроссдрессинг и игры, в которых молодые люди переодевались в стариков или в которых «каждый преображал себя».
Закон Брешии 1481 года запрещал ношение масок, чтобы скрыть лицо. Статут Феррары 1476 года запретил ношение масок, потому что они дают возможность непорядочным женщинам и женщинам, переодетым в мужчин, дурно себя вести. Закон 1507 года города Губбио объявлял преступлением ношение маски, одежды противоположного пола или ношение мирянами религиозной одежды126. Ношение одежды противоположного пола, особенно ношение женщинами мужской одежды, было распространенным развлечением. Кроссдрессинг, вероятно, настолько же стар, насколько стара сама одежда, связанная с полом. Но в 1300-х годах, когда мужская и женская мода начали разделяться, он стал более явным и провокационным.
По данным Беннет и Макшефри, кроссдрессинг «настолько указывал на сексуальную доступность женщины… что, когда в конце шестнадцатого века распространились книги с описанием моды, типичную венецианскую куртизанку описывали одетой в короткие мужские штаны под женскими юбками». Но в случаях с женщинами, переодетыми в мужчин, существовали практические, а не эротические причины для кроссдрессинга. Женщины не допускались ко многим видам работ, для них были недоступны публичные увеселения, они могли стать жертвой нападения. Независимым женщинам кроссдрессинг давал много преимуществ127.
В конечном счете кроссдрессинг был одним из способов использования формирующегося словаря моды, чтобы создать отличную от других визуальную личность. Одежда отражает личность, только используя четкие символы социального статуса и сочетая их особенным образом, и тем самым демонстрирует, что есть не только статус, но и уникальный индивид. По мере того как мода получала широкое распространение, такое ниспровергающее каноны использование одежды стало более привычным и… более опасным.
Запреты на кроссдрессинг128 Средних веков и эпохи Возрождения, как и другие дресс-коды того времени, были направлены на то, чтобы усилить традиционное значение одежды, то есть чтобы платье обозначало женское тело, а штаны, надетые под доспехи, обозначали мужское тело. Жанна д’Арк нарушила коды, согласно которым одежда обозначала половую принадлежность, и разрушила вестиментарный символизм, который отличал добродетельные тела от грешных. Использовав условные значения одежды необычным способом, она создала непохожую на других, современную личность, которая завораживала современников и все еще привлекает нас сегодня. Поступив так, она стала первой в истории жертвой моды.
* * *
Зарождение моды в конце Средневековья отражало и провоцировало драматические перемены в природе статуса, пола, власти и личности. Если драпированные одежды древности позволяли выразить социальный статус с помощью декоративных деталей и роскошных тканей, пошив гарантировал одежде намного более многочисленные и не такие явные эффекты. Выразительный язык моды был особенно значим в эпоху массовой неграмотности, когда зрелища были важнейшей формой пропаганды.
И церковь, и государство общались с народом с помощью изображений, икон и пышных зрелищ. Мода сделала одежду одним из главнейших средств визуального выражения. Имея возможность трансформировать тело, одежда получила уникальную возможность формировать социальные отношения. Но в отличие от архитектуры, скульптуры, музыки и изобразительного искусства, одежда была неизменно личной и неизбежно мобильной. Она делала заявление о человеке, который ее носил, и передвигалась в пространстве вместе с этим человеком. Эти качества сделали моду в высшей степени привлекательной и особенно трудно поддающейся контролю.
Дресс-коды конца Средневековья как раз и пытались обеспечить такой контроль, чтобы создать и сохранить символы статуса. Они гарантировали, что одежда будет символизировать социальный статус – классовую принадлежность, религию, занятие и прежде всего пол. Одежде следовало служить интересам политической власти как церкви, так и государства. Но мода размывала прежние социальные роли так же легко, как и усиливала их, так как она втайне служила другому хозяину – личности индивида. Под влиянием моды символы статуса менялись.
Это продолжалось на протяжении веков, когда переменчивая мода все быстрее трансформировала символы статуса, пока они не стали неузнаваемыми. Началась новая эпоха с новыми символами, сформированными на основании совершенно иного вестиментарного словаря. И в эту эпоху предполагалось общение изысканным шепотом, а не громкими криками.
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе