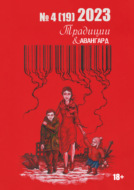Читать книгу: «Традиции & Авангард. №4 (23) 2024», страница 4
– Друг, пойми, это ж не по злобе, – начал он первым, – я ведь считаю тебя по-прежнему своим другом! Но тут такое дело, приказ есть приказ, ты-то должен понимать… Короче, мне приказали – я делал. Но ничего такого я им не сказал.
– Это какого такого, «друг»? – попытался съязвить я.
– Ну, такого, что характеризовало бы тебя как-то плохо. Или в нужном им русле. Ничего, что могло бы представлять угрозу или опасность для нашей страны. Как аналитик я вообще не согласен с их базовой концепцией… Тут надо вести речь скорее о мультивселенной с её взаимовлияниями и самопроник-новениями, чем о том, чего они понавыдумывали. Нет ведь никаких подтверждающих подобную власть Мироздания фактов, а вот теория множественности миров как раз есть!
– Ребята, вы оба что, меня совсем задурить решили? Вчера про одно, сегодня про другое, вот это вот самое, про мультики ваши… Я вам что, знаменитый учёный? С ними разговаривайте на такие темы, с паучниками, им это понравится. А я старый ветеран, мне это всё сейчас вообще до балды! Я просто домой хочу. И вы точно меня с кем-то путаете.
– Боюсь, придётся напомнить, что вы не просто старый ветеран, а очень даже старый… Хотя, безусловно, настоящий Ветеран, с большой буквы! – Помалкивавший до того вчерашний полковник принялся доставать из портфеля какие-то толстые папки. – Позвольте просветить моего молодого коллегу, что первое реально задокументированное у нас упоминание о некоем «майоре» относится ещё к семнадцатому веку… А если хорошо покопаться в истории, то и недокументированных наберётся вагон и малая тележка. Это если даже пока к мифологии не обращаться. А то, к примеру, можно вспомнить и про некоего Егуду, «единственного, кто может»…
Продолжать я ему не дал, не надо мне этих вот лишних откровений с подробностями. И без всяких теперь побочных волн вполне получилось, практически сразу и вдруг – начал просто и тупо довлеть, несмотря на сразу же расколовшую голову дикую боль.
Очнулся на заброшенном пустыре у своих Красных казарм, и единственное, про что успел подумать: «Да нет же никаких этих мультивселенных, Мироздание у нас на всех одно, и оно – вполне дееспособный и, почти уверен, разумный организм (или всё-таки механизм?). Оно и само вполне может защитить себя от любых навязываемых ему флуктуаций. Ведь для чего-то же создаёт оно нас, мойров, упорно именуемых здесь майорами?»
Эта мысль оказалась последней каплей яда, которую пришлось всё-таки принять… А потом – рывками, вспышками, разрозненными кусками – стала прорываться через все прежние заслоны память (своя или чужая – уж и не знаю). Та самая, которая никому не нужна вовсе.
Часть II
Полковник Шварц
4. Мойры и службы
Наш мир устроен очень странно, какой-то он уже не наш.
Наталья Захарцева (Резная Свирель)
– Итак, что мы знаем про этих мойров? Ну, или ашацва – кому как больше нравится. Да ничего мы толком про них не знаем! Не про мифических кавказских архангелов или греческих старух, плетущих нити судьбы, которых придумали понятно зачем и для чего, а про реальных и, по сути, несчастных людей, призванных неизвестно кем и для каких целей и вынужденных по мере сил и в объёме личного понимания выправлять наше исковерканное настоящее. – Полковник Шварц, стоя у окна своего кабинета на третьем этаже, рассматривал захламлённый хоздвор, но видел совсем не его. – А для того чтобы узнать состояние днища долго плававшего по морям судна, нужно – слой за слоем – соскребать с него налипшие ракушки (в нашем случае – не реальные, а мифологические пласты таких ракушек). Да и не факт, что это получится.
В общем, как предполагает аналитический департамент Особой полиции страны (ОПС, она же Отдельная полицейская стража и ещё целая туча отвлекающих обозначений), на планете одновременно присутствует весьма ограниченное количество мойров и, похоже, все они проявляются в «умеренном поясе»: Северной Америке, России, на Кавказе, в Японии.
Своих мойров никогда не удавалось зафиксировать ни на одном из других континентов – ни в Австралии, ни в Африке, ни в Европе, ни в Антарктиде (впрочем, она ведь и не континент вовсе, а, скорее, архипелаг, как выяснилось недавно). Но это вовсе не значит, что их там нет, это всего лишь рабочая версия, предположение наших аналитиков, базовая конструкция, как говорится.
Российские или американские мойры наверняка периодически посещают Европу, оказывая тем самым определённое влияние и на этот континент. Можно предположить, что в одно из таких стародавних посещений и возникла нелепая древнегреческая сказка.
Легендарная эллинистическая мойра – это, по сути, нечто прямо противоположное самому явлению: не «высший, большой, старший, превосходящий» (чему и соответствует исходно не искажённое слово «майор»), а всего лишь «часть, доля чего-то», да к тому же дама. Выдумщик Платон назвал их дочерьми богини необходимости Ананке (что значит Судьба), вращающей мировое веретено. А до того как Платоном была описана сия античная мифологема, мойров вообще представляли в виде тёмной невидимой силы, не имевшей отчётливого человеческого облика.
Неслучайно же у древних римлян, знавших слово «майор», не было названия «мойры», там этих дружных сестёр величали парками, а в Скандинавии – норнами, правда, в отличие от мойр и парок, норны не могли вмешиваться в течение судеб, они лишь наблюдали со стороны, хотя изредка и помогали людям, предупреждая их об опасности. Если хорошенько покопаться в легендах, то можно увидеть: Судьбу прядут в виде нити и хеттские богини, и даже (иногда) сам Зевс или другие боги.
А вот у славянских народов судьбой изначально занимался бог ясной погоды Догода – крылатый светловолосый юноша (что совсем близко к нашему пониманию функционала «майор») с веткой шиповника в руке, приносящей тёплый ветерок. И только потом, позже, были придуманы девы судьбы Доля и Недоля (счастье и несчастье, судьба и не судьба), тоже небесные пряхи, каждая из которых по очереди плетёт нить жизни. У молодки Доли нить получается светлой и ровной, а у одноглазой старухи Недоли – кривой и тонкой. Кстати, и Доля тоже поначалу представлялась в облике милого юноши с кудрями золотыми и улыбкой весёлой («на месте устоять не может, ходит по свету, для него преград нет, Доля их вмиг одолеет»). Аналоги есть и в мифах других народов, у сахалинских нивхов (гиляков), к примеру, за людьми присматривают и сроки их жизни отмеряют «небесные хозяева» тлы-ызь, добрые или злые.
В представлении древних Судьба могла быть активной и деятельной силой, меняющей жизнь по указке богов, а могла быть простым наблюдателем, строгим и безучастным. Правда, мифологическое сознание изрядно перековеркало истинное положение дел. Но вполне можно предположить, что кое-какие выдумки привнесены в мифы намеренно: мужское превратилось в женское, например… В иранской традиции первоначально распространялся культ Зервана, мужского божества вечного времени и судьбы. У монголов и бурят судьбой управлял Дзаячи, в шаманских камланиях именовавшийся «самовозныкшим», «создателем всего», божеством человеческой судьбы как небесного волеизъявления, дарителем счастья и блага, защитником. А это уже самые близкие к нашим трактовки.
Не странно ли, что точно так же сразу несколько разных религий и верований из отдалённых друг от друга частей света сходятся и в своих описаниях того же Всемирного потопа и кое-каких других вещей и событий… Однако мифо-ракушек там налеплено гораздо-гораздо меньше.
От тягостных размышлений его оторвал звонок телефона – вызывали к начальству.
Полковник Шварц принадлежал к той немногочисленной когорте спецслужбистов старой школы, которым неинтересны все эти теперешние заморочки с госраспилами, откатами и посадками, ему лично не нужны были ни загородные особняки с золотыми унитазами, ни тугие мешки добытой под себя валюты, по необходимости складируемые в чужих квартирах. Полковник любил служить. Не просто служить, а служить Родине. И чувствовал себя в этом деле на своём месте.
Служба охраны реальности, СОР, в которой он теперь состоял, была создана предпоследним Указом президента Ельцина, как раз за полчаса до того, как он записал своё финальное видео «Я мухожук»3, потому её очень долго никто из властей предержащих не принимал всерьёз и даже, несмотря на довольно мощное финансирование, почти не замечал – ну, работают ребята сами по себе над чем-то недоступным простому уму, и пусть работают, лишь бы не мешали нам тут своё мухлевать. Да и оперативные группы СОР к тому же никогда не работали в регионе базирования. Считалось, что это помогает избежать неизменного влияния местных элит с их тесными связями и, следовательно, неизбежной коррупции. Дабы не дразнить гусей и не выглядеть совсем уж идиотами, сами себя «соровцы» чаще называли Службой охраны Родины – так проще найти у народа понимание.
С чьей подачи и почему не всегда трезвый БээН подписал тогда сей сверхсекретный Указ, теперь приходится только гадать, но через какое-то время некоторым стало понятно, что это не совсем то, что им очень надо, а иногда и совсем не то. Что он напоследок, наверняка сам того не осознавая, подложил в почти устоявшееся и вполне подходящее им государственное болото довольно большую, хоть и не сильно пахнущую, свинью. Однако даже сейчас, спустя почти треть века, о ней всё равно никто ничего толком не знает и представления точного не имеет. Да и мало кому с ней вообще приходилось сталкиваться.
А вот ОПС, рабочим органом которой является СОР, существует уже не одно столетие. В разное время её величали по-разному, как-то (правда, ненадолго) обозвали даже околонаучной разведкой, но это наименование не прижилось из-за того, что занималась она не только и не столько научными изысками, сколько делами, скорее, вообще ненаучными. Тем, во что паучники до сих пор отказываются верить. И в последние годы благодаря появлению СОР сосредоточилась в основном на вопросах, связанных с фактическими, а не умозрительными изменениями реальности… Скрытно и слаженно продолжая работать, пытаются обе они методично и жёстко выгребать из нашей действительности заносимый туда неведомыми ветрами лишний сор.
В те не совсем добрые времена, когда страна, сорвавшись со всех и всяческих тормозов и катушек, пооткрывала мыслимые и немыслимые границы со шлюзами и первый её президент громогласно призвал американцев скупать по дешёвке российские земли да не опаздывать с этим, Шварц был всего лишь простым капитаном флотской контрразведки и ни о каких там охранах реальностей даже не помышлял.
Время было суровое и расхристанное, продавать можно было всё, что покупается, и в любой комплектации, а потому он чувствовал себя там не совсем в своей тарелке. Владивосток, где капитан Шварц тогда нёс службу, – город маленький, хотя и вполне самодостаточный. Казалось, оторви его от России – и городишко вполне суверенным островком отправится в отдельное плавание, как тот же Сингапур, к примеру. Желающих сотворить подобное всегда хватало, но для того-то и создана контрразведка, чтоб ничего такого в реальности никогда не произошло.
Капитан Шварц просто служил Родине и не витал ни в каких эмпиреях, высокоэлитная и доходная карьера ему была просто неинтересна. Чаще всего он начинал работу в своей конторе на Ленинской с разбора не то чтоб многочисленного, но и немалого наплыва очередных рапортов и докладов, более подходящих под определение «донос». Да, и такое тоже принимает на себя структура, ранее гордо именовавшаяся СМЕРШ, «смерть шпионам». Конечно, ни о каких смертях теперь не могло быть – да и не было – речи, а потому военные моряки, слегка ещё по привычке опасаясь, давно обозначали между собой это ведомство, особый отдел (00), по аналогии с гальюном – «два нуля»…
Докладная записка на старшего лейтенанта Красько, начальника отдела воинской подготовки флотской газеты «Ратная пашня», была какой-то невнятной, но всё равно настораживающей. Шварц в недоумении даже затылок почесал. Один из давних и многократно проверенных информаторов из среды журналистов описывал ситуацию так: будучи допущенным на боевые учения и совещания Штаба флота, Красько активно собирает информацию о действительном, а не декларируемом состоянии наших Вооружённых сил, а также имеющихся проблемах и недостатках с целью продать это за определённые деньги японскому информагентству, с шефом местного бюро, с которым он сумел установить вполне дружеские отношения год назад, во время визита наших кораблей в Страну восходящего солнца. И очередная их встреча назначена тогда-то и там-то.
Игорь Красько был выпускником львовской кузницы военно-журналистских кадров, а потому отличался кроме талантливого владения словом (даже стихи иногда пописывал) и неистребимого западноукраинского прононса изрядной долей скептического либерализма и, как отмечали его коллеги и сослуживцы, некоторым высокомерием пополам с себялюбием. Однако был на хорошем счету у начальства и даже представлен недавно к медали какого-то ордена по случаю очередной годовщины чего-то.
Работать с таким кадром непросто, но надо. Эта докладная была уже не первой в череде ей подобных, и следовало незамедлительно принимать меры. А тут ещё изрядно подзатянувшееся недорасследованное до сих пор дело с предпродажной подготовкой вполне боеспособных тяжёлых авианосных крейсеров за рубеж – на вес, по цене металлолома, на которое ему сверху настоятельно рекомендовали просто закрыть глаза и спустить на тормозах! Для самого себя Шварц называл его «адмиральское дело», потому что замазаны там были самые высокие и даже столичные чины.
Дело началось с того, что во время стандартной и штатной проверки готовности к перегону в соседнюю страну одного из этих кораблей капитан Шварц – единственный из всей несметной толпы проверяющих и согласовывающих – обратил внимание на то, что железная дверь в «секретку» – каюту, где ранее хранилась секретная и сверхсекретная документация, – оказалась почему-то крепко заваренной, и проверить её на отсутствие содержимого не представлялось возможным. Почему – никто внятно объяснить не смог, пришлось в приказном и срочном порядке вызывать заводского сварщика, чтоб открыть её для полагающейся проверки. Результат показал, что якобы комиссионно уничтоженная по акту списания документация никуда не делась и безмятежно пребывает всё в той же «секретке» на своих полках. И вполне готова к отправке покупателям вместе с кораблём.
А позже и часть оружейных погребов корабля тоже была замечена в не менее заваренном состоянии. Но, поскольку в них ранее находились, согласно всё тому же акту комиссии по списанию, отнюдь не бумаги (а противокорабельные ракеты, самонаводящиеся торпеды, сверхзвуковые крылатые ракеты морского базирования и даже целый зенитно-ракетный комплекс корабельного базирования с комплектом управляемых ракет средней дальности, плюс реактивный морской бомбомёт со стационарной наводящейся в двух плоскостях установкой с радиально расположенными стволами), решено было пока разваривания железных дверей не производить – во избежание возможного взрыва. В результате отправку корабля покупателям пришлось задержать «до выяснения обстоятельств».
Надо бы вот это настоящее, реально шпионское дело завершать, а вместо того приходится отвлекаться на каких-то безумных журналистов с их неуёмной жаждой выгоды… «Адмиральское дело» всё-таки через пару недель приказано было передать другому особисту, после чего оно было вполне успешно закрыто, а самого Шварца перевели «с повышением» в далёкий город Сыктывкар, столицу замечательной Республики Коми, где он и продолжил службу Родине, но без возможности наступать на мозоли начальству. И всего через какой-то десяток лет его, к тому времени уже подполковника, сумела отыскать там и подобрать недавно созданная и никому пока не особо интересная СОР.
* * *
Редакционная планёрка (она же редакторская летучка) в тот день оказалась быстрой и весьма летучей: шефа внезапно вызвали в Штаб флота, – и пришлось всё скомкать, завершить по-быстрому. Игорёша был даже рад: не любил он эти бесконечные топтания вокруг да около, все эти долгие рассусоливания постоянно меняющихся моментов в свете очередного виляния всё более отрастающим в сторону демократии партийно-политическим хвостом.
Быстро собравшись, он надавал заданий всем трём своим подчинённым и со словами «я тоже в штаб, по плану» покинул давно опостылевшую общую комнату своего отдела, где по углам ютились четыре стола, за каждым из которых сидел отдельный «корреспондент-организатор», включая его самого, начальника. «Давно пора бы уже для начальников отделов сделать отдельные кабинеты», – в очередной раз подумалось ему на бегу. На дальнейшую свою судьбу у Игоря Красько были далеко идущие планы: он уже почти видел себя в кресле ответственного редактора, с которого в дальнейшем рассчитывал перелететь сразу в Москву, в какой-нибудь из центральных органов… Ну и что, что это будет не так скоро, главное ведь – запланировать, а потом и осуществить.
А на улице была настоящая весна! Солнце светило вовсю, девчонки ходили разодетыми почти по-летнему, и жизнь вокруг била сверкающей и яркой струёй. Игорёша спешил на встречу с японским коллегой из местного корпункта и совсем не хотел даже вспоминать про обязанности службы.
– Если вы думаете, что представляете хоть какой-то интерес для иностранных разведок, – лучше не думайте. Не надо так, это неправильно… Лично вы, если, конечно, не обладаете хоть какими-то властными полномочиями или там государственными секретами вместе с военными тайнами, никому из них совершенно не интересны. Не хотелось бы никого обидеть, но любая отдельная частичка общей человеческой массы не стоит тех усилий, которые следует направлять на саму массу в целом. – Японского коллегу явно потянуло на философствование. – Игорь-сан, дорогой, вся ваша страна не представляет для нас теперь никакого стратегического и даже тактического интереса… Разве что ресурсный: железо, нефть и всё такое. А стратегически вы ещё долго не сможете опомниться от содеянного, продолжая играть в эту вашу Перестройку и новое мышление. Из ресурсов, а не этих вот вчерашних секретов, вот лично вы можете сейчас хоть что-нибудь предложить? Думаю, вряд ли. Так за что же я должен тратить на вас наши иены? За неисполнимые и мечтательные планы ваших военных штабов? Даже вам наверняка это не может казаться серьёзным…
– Наши штабы ещё очень на многое могут быть способны!
– Не смешите меня. Семьдесят лет негативной селекции генералитета ни для кого даром не проходят… Да все эти ваши штабы и шага не сделают без команды сверху! А наверху теперь вполне вменяемые коммерсанты, и их интересуют только распродажи с выгодой. Вы, военные, просто не нужны теперь и доживаете последние сроки только потому, что вами пока некому заняться… А вот когда поделят все ресурсы, тогда-то верхи займутся и вами, потому что любые запасы – это резервный ресурс. Запасы железа ведь на флоте, включая ваши корабли, весьма значительны? Так что первыми продадут авианосцы, потом – крейсера и эсминцы с подводными лодками, а потом – и всё остальное… Торговать так торговать! Это всего лишь вопрос времени, Игорь-сан. – Японец лукаво улыбнулся, по привычке склонившись в поклоне.
5. Японский городовой
…Пришли и к Магомету горы, соткали нить судьбы майоры, нововведения в судьбе они наткали и тебе.
Аркадий Лиханов
– Да, японский майор, пожалуй, самый малопонятный из них, тёмный какой-то, тут начальство, безусловно, право, как говорится. – Вернувшийся после доклада в свой рабочий кабинет Шварц снова занял любимую позицию у окна, выходящего на задний двор (почему-то ему там лучше думалось), и продолжил размышления, переключившись теперь по указанию начальства на восточное направление. – Может надолго пропадать, неожиданно появляться и исчезать по всей Азии, с переменным успехом его удаётся иногда идентифицировать по произошедшим событиям, правда, косвенно. Вот взять хотя бы эти два документа, уж очень описываемая в них ситуация смахивает на самую первую «разминку» начинающего мойра. Похоже, в то время у японцев как раз и появился новый мойр, который начал пробовать силы, почти незаметно довлея:
«Цуда Сандзо родился в 1855 году в самурайской семье, предки служили князьям Ига в качестве врачей. В 1872 году призван в Императорскую армию, участвовал в подавлении мятежа Сайго Такамори. С 1882 года служит в полиции.
Показал следующее. Он стоял на своём посту на холме Миюкияма возле памятника воинам, погибшим во время восстания 1877 года. И тут подумал, что тогда он был героем, а теперь – самый обыкновенный полицейский. Кроме того, он боялся, что русский наследник Николай действительно привёз с собой Сайго Такамори, который, несомненно, лишит Цуда Сандзо его боевых наград. Ещё он полагал, что цесаревичу следовало начать свой визит с посещения императора в Токио, а не с Нагасаки. Ему показалось также, что эти иностранные путешественники не оказывают почтения памятнику жертвам гражданской войны, а внимательно изучают окрестности. Поэтому он посчитал их за несомненных шпионов – многие газеты опасались, что задачей цесаревича является обнаружение уязвимых мест в обороне Великой Японской империи.
Ему хотелось убить цесаревича прямо сейчас, но он не знал, кто из них Николай. Потом его поставили охранять улицу, по которой высокие гости должны были возвращаться в Киото. Тогда он понял, что рискует потерять свой последний шанс, и бросился на цесаревича».
(Из протокола допроса омавари4, даты приведены к нашему календарю).
«29 апреля. Проснулся чудесным днём, конца которому мне не видать, если бы не спасло меня от смерти великое милосердие Господа Бога.
Из Киото отправились в джен-рикшах в небольшой город Отсу… В Отсу поехали в дом маленького кругленького губернатора. У него в доме, совершенно европейском, был устроен базар, где каждый из нас разорился на какую-нибудь мелочь. Тут Джорджи и купил свою бамбуковую палку, сослужившую через час мне такую великую службу. После завтрака собрались в обратный путь. Джорджи и я радовались, что удастся отдохнуть в Киото до вечера.
Выехали в джен-рикшах и повернули налево, в узкую улицу с толпами по обеим сторонам. В это время я получил сильный удар по правой стороне головы, над ухом. Повернулся и увидел мерзкую рожу полицейского, который второй раз на меня замахнулся саблей в обеих руках. Я только крикнул: “Что, что тебе?..” – и выпрыгнул через джен-рикшу на мостовую. Увидев, что урод направляется ко мне и никто не останавливает его, я бросился бежать по улице, придерживая рукой кровь, брызнувшую из раны. Я хотел скрыться в толпе, но не мог, потому что японцы, сами перепуганные, разбежались во все стороны… Обернувшись на ходу ещё раз, я заметил Джорджи бежавшим за преследовавшим меня полицейским… Наконец, пробежав всего шагов шестьдесят, я остановился за углом переулка и оглянулся назад. Тогда, слава богу, всё было окончено. Джорджи – мой спаситель – одним ударом своей палки повалил мерзавца, и, когда я подходил к нему, наши джен-рикши и несколько полицейских тащили того за ноги. Один из них хватил его же саблей по шее.
Чего я не мог понять – каким путём Джорджи, я и тот фанатик остались одни посреди улицы, как никто из толпы не бросился помогать мне… Из свиты, очевидно, никто не мог помочь, так как они ехали длинной вереницей, даже принц Ари Сугава, ехавший третьим, ничего не видел. Мне пришлось всех успокаивать и подольше оставаться на ногах… Народ на улицах меня тронул: большинство становилось на колени и поднимало руки в знак сожаления…»
(Дневник Николая II за 1891 год).
Хоть это и не так очевидно, но мы ведь до сих пор живём в сильно исковерканной кем-то реальности. В том числе и потому, например, что более века назад одному старому и опытному российскому мойру – по причине внезапно свалившей его тифозной горячки – не удалось попасть на вторую Тихоокеанскую эскадру, отправлявшуюся из Петербурга в Порт-Артур… А ещё потому, что тогда же другой, совсем уж неопытный и очень молодой японский мойр, имевший воинское звание дзюнъи5, не просчитывая никаких возможных результатов и последствий, сорвался вдруг с катушек и в патриотическом угаре принялся неистово довлеть в пользу своего отечества. А первой ласточкой этой его истерии наверняка оказалось двенадцатилетней к тому времени давности ничем не мотивированное нападение в префектуре Сига на гостившего там цесаревича, но именно это не сразу стало понятным.
До сих пор тяжким камнем на груди обеих наших стран лежит тот Цусимский погром – полностью бредовая, с точки зрения сюжета и драматургии, реализация событий, особенно нереалистичное какое-то фэнтези, как будто из параллельной реальности вывалившееся к нам, прямо на театр военных действий… Дикая и непонятная роковая смесь: командир российской объединённой эскадры вице-адмирал З. П. Рожественский зачем-то лишний день топчется у входа в пролив, воспрещая своим кораблям атаковать японские крейсера-разведчики, отказывается подавлять (имея такую возможность) вражеский радиообмен, и лишь когда японцы наконец закончат своё построение к атаке и вокруг опустится, укрывая их, густой туман, Зиновий Петрович даёт команду начать движение российской эскадры в гибель.
Нелепые перемещения его боевых корабельных колонн; рождественскими ёлками подсвечивающие их всеми своими огнями госпитальные суда «Орёл» и «Кострома»; неожиданные смерти и ранения большей части русских флотоводцев (включая самого Рожественского); беспримерное мужество наших моряков и ничем (кроме коварной воли японской верховной богини Аматэрасу) не объяснимое везение этого японского «морского Чапая», адмирала Того…
Увольте, но такое просто невозможно никак считать естественным и закономерным течением событий. Как, впрочем, и подвергнутый позже офицерскому суду чести знаменитый «подвиг» командира крейсера «Варяг» – вместо того чтобы перевезти на свой борт немногочисленный экипаж более медлительного и старого «Корейца» и спасти для страны свой боевой корабль, он устроил форменное самопобоище, сразу же воспетое либеральными французами и прочими немцами…
Тот мойр-дзюнъи (никто и не вспомнит теперь его имени), конечно, после был списан, но сразу исправить то, что он успел наворотить, отменить результаты его экстатических давлений окончательно так и не удалось, и вся дальнейшая история соседней страны, включая даже зверства Нанкинской резни, гекатомбы Хиросимы и Нагасаки и позднейшую аварию на Фукусиме, стала закономерным следствием именно этой невероятной победы японцев в Цусимском проливе.
Их молодого мойра, наверное, можно понять, но ведь и нас, теперешних, понять надо – даже столь нелепая, вообще нелогичная реальность всё равно является для нас родной и потому требует своей защиты и охраны. Вопрос тут только один: чего нам хочется больше – сохранить её в неприкосновенной нелепости или всё-таки попытаться выправить до логической целостности?
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+1
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе