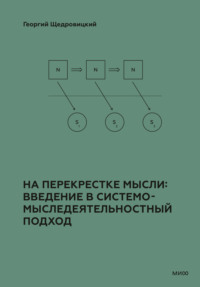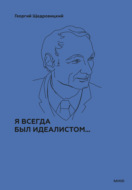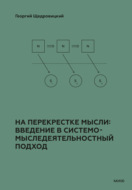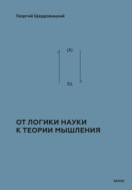Читать книгу: «На перекрестке мысли: введение в системомыследеятельностный подход», страница 11
Вы помните, что я, задав схему организации пространства методологической рефлексии (см. рис. 4), а затем поставив перед собой задачу рассмотреть в рефлексивном аспекте само мое движение, перешел к обсуждению различных понятий, обеспечивающих это движение. Я перечислил целый ряд таких понятий, критика и предварительное задание которых необходимы для организации моего движения и всей нашей работы. Некоторые из этих понятий я предварительно разобрал, показал многообразие трактовок понятий исследования, теории и на первом шаге предварительно задал понятие о понятии. И все это делалось в определенном отношении к этой схеме организации пространства.
И теперь я должен, продолжая это движение, то есть анализ понятий, необходимых для организации моей работы, обсудить еще ряд понятий – в первую очередь понятие рефлексии, понятие рассуждения, затем понятия исследования и конструирования. Эти четыре названных мною понятия образуют как бы первое поле, или первый блок.
Но я подчеркивал в позапрошлый раз и повторяю сейчас еще раз: само обсуждение понятий всегда идет по определенным семействам, узлам, и довольно подробно, так, как это здесь можно делать, обсудил саму тактику и технику подобных движений.
Из того, что мы обсуждали в прошлый раз, мне важно напомнить сегодня эту взаимосвязь понятий и непрерывное движение с центрациями. Поэтому и сейчас, выделив две таких группы парно организованных понятий – «рефлексия – рассуждение» и «исследование – конструирование», я должен буду параллельно обсуждать еще ряд понятий, которые будут лежать не в центре этого узла, а как бы на его периферии. Мне придется обсуждать понятие интенциональности, затем понятие операционализации, понятия формализации, онтологизации и категоризации, а при этом я опять-таки должен буду апеллировать, соответственно, к другим понятиям, к заданным ими содержаниям. Это будет как бы третий слой: я должен буду использовать понятие о понятии, понятие знания, понятия объекта, операции, формы и содержания и целый ряд других.
Мне сейчас важно, чтобы вы видели и представляли себе эти три слоя, понимали слоистое строение того, с чем я имею дело, примерно представляли себе, что я буду затрагивать. Каждый из этих блоков [схемы организации пространства методологической рефлексии] в принципе остается открытым… Эти две группы слева я высветил только на этом отрезке моего движения, а дальше все это должно пойти, по идее, вниз, и я должен буду рассматривать все другие типы деятельности, и основной, левый, слой будет сдвигаться, и, соответственно, будут меняться эти фоновые слои. А кроме того, я могу на определенных этапах и фазах моей работы сдвигаться еще во второй блок, и тогда, соответственно, будет другая центрация. Мне каждый раз придется переорганизовывать эти узлы.
Цель и задача моего сегодняшнего сообщения состоит прежде всего в том, чтобы обсудить понятие рефлексии, содержание этого понятия, включив это все в контекст предшествующих обсуждений, и наметить, с одной стороны, – в ретроспективном плане – то, что мы раньше обсуждали, а с другой стороны, показать (чтобы вы отчетливо представляли) наши цели и линию дальнейшего движения. То, что относится к этой ретроспективе и резюме, основанному на этой ретроспективе, будет по содержанию повторять то, что мы уже обсуждали, но совсем в другом повороте, и в этом плане является во многом новым содержанием. Но какие-то моменты, естественно, там будут уже отработаны.
Итак, я прежде всего напоминаю нашу основную цель и задачу, следовательно, обращаю вас ко всему этому движению: главное – это соорганизовать и организовать собственный рефлексивный процесс и собственную рефлексивную работу. А поскольку я говорю все время о работе – о моей работе и нашей работе, – то это можно трактовать и как задачу организации моего и вашего сознания. Но это – вторичный план. Я мог бы точно так же сказать, что мне надо организовать коммуникацию. Главное здесь в этих терминах: «соорганизовать» и «организовать» работу – свою собственную методологическую работу. Эта формулировка сразу входит в известное противоречие с темой моего доклада: «Проблемы построения теории мышления». Но я в прошлый раз неоднократно возвращался к этому пункту и пояснял, что основная-то задача, наверное, всегда состоит в том, чтобы организовать свою собственную работу – будь то рефлексия, будь то мышление.
При этом мне надо проделать очень длинное и очень объемное рассуждение. И в этом состоит смысл дела. Оно, правда, может быть сильно сокращено за счет удачной и эффективной организации. Тем не менее я должен проделать это длинное рассуждение, а в результате у меня должна появиться методологическая организация мышления вообще, в том числе ее собственно теоретические формы. То есть одним из результатов этого рассуждения должна быть теория мышления. Но это – один из результатов. Это только одна из форм организации собственной мыслительной работы. И в такой переформулировке нет, в общем-то, ничего странного и необычного. Потому что именно с такого рода задачами и сталкивается традиционно исследователь-новатор.
Если, скажем, Кеплер пишет «Стереометрию винных бочек»31, то это ведь длинное рассуждение: перед ним стоят определенные цели, и он должен решить задачу, и, чтобы решить задачу, он рассуждает. А в результате появляется то, что мы потом называем теорией. И, кстати, точно такую же задачу решает Галилей: ему нужно, например, определить законы соударения двух шаров, а в результате рождается теория соударения шаров. Но первоначально в этих книгах, кроме рассуждения, ничего нет.
Значит, то, что мы называем теорией, или то, что потом, будучи особым образом переработано и организовано, становится теорией, есть не что иное, как особая структура, которая порождается этим рассуждением и которую мы затем специально в этом рассуждении как бы высвечиваем. Вот что мне очень важно.
Поэтому и тут задача состоит в том, чтобы построить очень длинное рассуждение, а для этого надо его определенным образом организовать. В этом состоит смысл всей работы. На этом пути организации собственного рефлексивного движения мы уже сделали первый важнейший шаг: мы задали схему организации пространства нашей работы (см. рис. 4).
В этом плане можно обсуждать еще очень много интересных и весьма сложных проблем. Если сейчас вы начнете рассматривать всю мою работу сквозь призму нашей основной цели – создания определенных рабочих групп для разработки теории мышления, соответствующих учебных предметов, учебных задач, обеспечивающих передачу и воспроизводство мышления и т. д., – то вы можете теперь, в свете этого представления, видеть все дело так, что я задаю некоторые слои проблем, которые, собственно, и должны обсуждаться в этом контексте.
Если на этом первом шаге соорганизации всей нашей рефлексивной работы была задана схема пространства, то там возникает масса проблем, требующих обсуждения, и это и есть, собственно, первый слой, в том числе и при построении теории мышления. Построить теорию мышления – это значит, прежде всего, обсудить все эти проблемы, связанные с понятием пространства рефлексии, и задать определенные правила, по которым мы можем для каждой нашей задачи либо рисовать это пространство рефлексии и заполнять его соответствующим материалом, либо, каждый раз обращаясь к нему, вынимать из него в определенном порядке, в определенной последовательности все то, что нам нужно для решения разных частных методологических задач. Важно, что мы в рамках методологической работы должны уметь пользоваться этой схемой, а она, соответственно, должна быть организована.
И поэтому здесь возникает еще масса проблем разного рода. Я повторил бы их: что такое пространство в его обобщенном смысле? ограниченное оно или неограниченное? замкнутое или не замкнутое? Это также весь круг традиционных проблем, которые обсуждались, скажем, для архимедова пространства, ньютонова пространства, гильбертова пространства, пространства Минковского и т. д.: внешнее и внутреннее для этого пространства; пространство как статическая структура и его временизация; пространство и предметные организации; гомогенность и гетерогенность этого пространства; его гетерогенность и гетерархированность и т. д. Тут, повторяю, есть масса очень интересных и очень сложных проблем, и именно их обсуждение и задает нам первый, ядерный слой в работе по построению теории мышления и вообще организации мышления.
Это можно обсуждать еще очень долго и нужно обсуждать, но можно вместе с тем считать, что вчерне это все намечено, что у нас уже возникло какое-то понятие о пространстве рефлексии. И мы можем двинуться дальше, оставив здесь блок общей проблематизации, после задания соответствующего смысла, каких-то частных знаний, описывающих это, определенных отношений к культуре и, соответственно, включенности этого куска в прошлую культуру, и даже использовать его в функции образования, как бы снимающего эту прошлую культуру в определенной фокусировке, в определенной центрации.
Для того чтобы вы четко понимали дальнейшее, мне из всего этого круга вопросов, связанных с пространством, нужно выделить четыре пункта, которые относятся уже не к пространству вообще, а к пространству методологической рефлексии. Это, по сути дела, напоминание того, что я уже говорил, но мне хочется здесь это подытожить и сделать более резким.
Первая важная особенность того пространства, которое рисовалось все эти заседания, – это то, что его заполняют, сказал бы я, системодеятельностные образования. Почему я не говорю «объекты»? Здесь можно, конечно, воспользоваться словом «объекты», но понимая, что слово «объект» употребляется не в собственном смысле. Это – некие системодеятельностные образования, которые всегда, во-первых, допускают, во-вторых, требуют четвероякой интерпретации: каждый из нарисованных внутри объемлющей рамки блок есть всегда 1) процесс, 2) структура, 3) организованность и 4) материал. И это принципиально.
При этом я могу спроецировать это утверждение в категориальный план и сказать, что я, с одной стороны, пользуюсь категорией системы и здесь идет [соответственно] четвероякая интерпретация каждого блока как системы, а с другой стороны, я каждый раз говорю, что это есть процессы мышления или деятельности, организованности мышления или деятельности, соответственно, материал мышления или деятельности.
Второй очень важный пункт. Я, как осуществляющий рассуждение и всю эту работу, могу вступать в двоякие отношения с каждым из блоков, заполняющих это пространство: с одной стороны, я могу рассматривать каждый такой блок как организационно-деятельностное образование и входить в него, а могу его рассматривать как объектное образование и тогда по отношению к нему осуществлять либо исследование, либо конструктивную переорганизацию, либо еще что-то. Этот пункт является важнейшим в определении специфики методологического подхода и методологического мышления.
Итак, в одном случае, рассматривая каждый блок как организационно-деятельностную структуру, я как бы вхожу внутрь этого блока в буквальном смысле этого слова, то есть принимаю наличествующие там структуры и организованности как принципы, правила формы и нормы моей работы. Там, следовательно, положены не объекты моего действия, а моя собственная деятельность. И я, следовательно, как говорил Станислав Лем32, вынимаю здесь, у себя, «штепсель» и вставляю там в «розетку», включаюсь и становлюсь ретранслятором того, что там происходит, и живу по этим законам. А могу (и в этом – свобода, задаваемая методологическим мышлением) не включаться в эту «розетку», не входить в эту структуру, а положить ее перед собой и особым образом (уже по законам другой структуры или по законам свободной рефлексии, о которой мы будем говорить потом) с ней манипулировать: исследовать, переконструировать, проектировать и т. д.
Это очень важный момент, без понимания которого, с одной стороны, вообще нельзя понимать специфику методологической работы, а с другой – смысл всего того, что я буду обсуждать дальше, смысл тех основных оппозиций, в которых я работаю… Нельзя понять эти оппозиции, скажем, по отношению к той концепции, которую развивает М. К. Мамардашвили, с его «превращенными формами», и вообще к его концепции сознания33. Для меня просто не существует всех тех проблем, которые он развивает, и не может существовать, ибо, как это ни странно будет звучать, я-то уже исхожу из того, что я работаю не в превращенных формах, и вообще тут уже не может быть превращенных форм, поскольку если мы подключаемся к структурам деятельности, то мы освобождаемся от необходимости двигаться в превращенных формах.
В превращенных формах работают только те философы, мыслители, ученые и т. д., которые себя включили в превращенные формы. И поскольку они себя туда включили, постольку они в них, соответственно, и живут. Ведь наше сознание работает как «телефонная станция», как ретранслятор, поэтому все зависит от того, куда вы включились. Они взяли превращенные формы в европейской культуре, и поскольку они себя туда – ко всем этим «экранам» – подключают, постольку они так и работают…
Для этого чтобы пояснить этот прием, я воспользуюсь примером, который приводит Роман Кармен, рассказывая о своей поездке во Вьетнам. Когда он там показывал фильм о Чапаеве, то в момент психической атаки каппелевской дивизии все сидевшие там солдаты вскинули свои автоматы и превратили экран в дырку. Почему? Поскольку у них были превращенные формы, они мыслили в них и не видели разницы между жизнью и кино. А если бы они понимали это различие, то не стреляли бы, а знали бы, что это – экран и это происходит на экране. Так вот, тот, кто знает, что это кино, он уже освободился от превращенной формы, а тот, кто не знает, что это кино, начинает стрелять.
Если мы движемся не в понятиях, а в деятельности, то мы знаем действительность. То есть пафос этого утверждения в том, что действительность есть не содержание понятий, а отнесение себя к деятельности и понимание того, в какой роли ты выступаешь. Очень красиво про это сказал В. Я. Дубровский на дискуссии в журнале «Знание – сила». Ему сказали: «Ведь уж не может полететь». Он ответил: «Если уж знает, что он уж, то он полетит». И в этом состоит весь смысл дела. И в этом смысл прекрасной вещи Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
Если вы поняли, что [ваше сознание – ] «телефонная станция», то у вас уже больше нет превращенных форм…
Тюков: Подключение – это не понимание. Подключение – это подключение в организованные формы, которые сами представляют собой превращенные формы.
Я понимаю, что это очень трудный момент, и поэтому я здесь и останавливаюсь. Я говорю: если вы работаете в методологической организации пространства, вы можете входить в структуры деятельности (при этом вы знаете, что вы входите в структуры деятельности) и выходить из этих структур деятельности…
Тюков: «Входить в структуры деятельности» и «знать о вхождении» – это все-таки разные вещи. Отсутствие проблемы превращенных форм возникает не тогда, когда вы входите в структуры, а когда вы знаете в методологической рефлексии, что вы входите в структуры деятельности.
Здесь надо различать включение в организационную форму и представление о включенности и выключенности из этих структур. Это – разные образования или разные слои одного процесса.
Обратите внимание: если это разные слои одного процесса, то это совсем другое.
Но постарайтесь разделить эти две вещи: 1) что я говорю (вы можете отнести это к моим заведомо ошибочным представлениям и убеждениям) и 2) понимание того, что я говорю (вы можете, например, проверить, правильно вы понимаете или неправильно). Есть пафос, смысл моих утверждений, содержание. Есть проблема истинности. Вы можете быть не согласны, вы можете считать, что я здесь запутался в трех соснах и вообще не различаю простых вещей. Но это уже относится к дискуссии. Я с удовольствием помолчу, а вы выскажете свою точку зрения и т. д. Но надо различать все это.
Пафос моего утверждения здесь состоит в следующем…
Первое. В методологическом пространстве лежат системодеятельностные образования, к которым я могу относиться двояко… Я могу взять любой такой блок как организационно-деятельностную структуру. Что значит «взять ее как организационно-деятельностную структуру»? Я должен твердо знать, во-первых, что это – организационно-деятельностная структура, во-вторых, что я ее таким образом беру, что я в нее вхожу, занимаю там определенное место со своей соответствующей идеологией – профессиональной, позиционной, групповой, клубной – какой хотите. Я это понимаю, я знаю, что это моя деятельная роль, и я играю свою роль: произношу соответствующие фразы, при этом могу про себя или явно улыбнуться. Если я все это знаю, то я свободен.
Второй момент. А могу встать совсем в другое отношение: я беру эти структуры деятельности и начинаю их рассматривать и трактовать как некий объект. А вот какой объект – мне уже не важно. Я могу сказать: это не объекты – реальный мир из них не состоит. Это только превращенные, превратные и т. д. формы. Ну, прекрасно. Но ничего же не меняется, поскольку я их взял как предметы, про которые я высказываю разные – более умные или менее умные – мысли. Это совсем другая позиция. И я могу сделать одно, могу сделать другое с одинаковым успехом, и при этом я каждый раз буду знать, что я в одном случае делаю одно, а в другом случае делаю другое.
Третий пункт. И один, и другой из названных мною планов существуют в единстве. И это обеспечивается понятием и предметом рассмотрения этих образований. Собственно, представление о предмете и есть связка этих двух планов, или принцип этой двуплановости.
А отсюда – четвертый пункт: я могу совершенно свободно осуществлять распредмечивание этих образований, то есть переходить в план деятельности и в любые элементы этой деятельности, то есть в знаки, в объекты, в смыслы, в онтологические картины, в содержания – куда угодно. Поскольку у меня есть структуры деятельности, которые мне дают набор разнообразных элементов и связи между ними и определенную технику перефокусировок, переходов (так как все структурировано), то я вообще в любой момент могу любой предмет распредметить. И это обеспечивает процедуру вхождения. А могу, с другой стороны, любую структуру деятельности опредметить. И за счет этого я могу осуществлять любые перепредмечивания.
Тут я резюмирую этот кусочек: следовательно, то пространство, которое здесь нарисовано (см. рис. 4), – это не пространство жизни моих объектов, тех, которые я рассматриваю, исследую, о которых я высказываюсь и т. д., это есть пространство моей собственной мысли и деятельности, пространство моей жизнемысли. И это есть единое пространство того и другого. Это принципиально важно.
Таким образом, я могу сказать, что обсуждение проблем организации этого пространства, по сути дела, и есть попытка решить основные из тех проблем, которые возникают (я специально даю такую аналогию) в ядерной физике. Что значит решать ту проблему, которая поставлена принципом неопределенности, принципом дополнительности, представлениями о пространстве-времени, которые разрабатывают в последнее время Стивен Чу и другие? Это и есть попытка построить такое представление о пространстве, в котором процессы нашего мышления и нашей деятельности сосуществуют с процессами жизни объектов нашей мысли, где нет этой принципиальной границы и принципиальной оппозиционности, характерной для всего натурализма и обслуживающей его философии.
И с этой точки зрения возникает целый ряд очень важных историко-научных проблем. Дело в том, что мы, скажем, говорим о принципе тождества бытия и мышления у Гегеля (и ругаем его много, и пользуемся им не меньше), но для того, чтобы подлинный смысл этого гегельянского представления был бы восстановлен вновь и в этом новом контексте, нужно проводить параллель, соотнеся между собой такую форму организации рефлексии-мышления-деятельности с теми представлениями о мире тождественного самому себе бытия-мышления, о котором говорил Гегель. И в этом же плане очень интересно посмотреть, как это все сейчас развертывается, скажем, в гуссерлевской феноменологии и в феноменологических исследованиях его учеников и последователей. И заодно нужна соответствующая историко-критическая проработка представлений о пространстве, начиная от Демокрита и Архимеда и кончая Минковским и Эйнштейном.
Итак, я задал – как первую форму организации методологической рефлексии – схему пространства. У меня там все положено: онтологемы, предметы, понятия, практики и т. д. Причем все это там набросано и лежит, хотя, по идее, нужно все это как-то организовать. Следовательно, это пространство принципиально гетерогенно. И это все существует в рефлексии, через рефлексию.
Но пока что я ведь не ответил на вопрос: что есть рефлексия и каковы ее процессы? Я поэтому пользуюсь в основном образами: «субстанция рефлексии» и т. д. Я представлял дело так, что все эти образования структурированы, организованы и как бы «плавают» в нашей рефлексии, хотя одновременно подчеркивал и деятельный, активностный характер этого образования в том смысле, что, собственно, они и заданы как одно в этой рефлексии. Именно рефлексия собирает и стягивает все это воедино.
Но задать пространство рефлексии – это только первый шаг. Ведь цель-то наша состоит в том, чтобы соорганизовать то рассуждение, которое здесь надо проделать, то рассуждение, в результате которого потом появятся различные формы организации самого мышления для трансляции, воспроизводства, в том числе и теория. И само это пространство есть только одна из форм, как бы первичная форма организации методологической рефлексии и методологических рассуждений. И поэтому дальше надо обсудить другие формы организации методологической рефлексии, и, собственно, эту работу мы с вами и начали.
И здесь возникают две группы проблем… С одной стороны, мы должны ответить на вопрос: что есть рефлексия как таковая, или чистая рефлексия? А с другой стороны, мы должны рассмотреть, инвентаризовать, перечислить, каким-то образом описать все те разнообразные формы организации рефлексии, которые обеспечивают наше рассуждение и другие рассуждения (в принципе – всякие рассуждения и всякую мыслительную работу, и всякую деятельность), и они все должны быть, с одной стороны, как бы вынуты из этого пространства и из рефлексии, а с другой стороны, возвращены туда в своих уже отчеканенных формах. И это должно быть сделано за счет этого рассуждения и в ходе него, потому что ведь мы не имеем ничего, кроме рассуждения, и рефлексия наша будет осуществляться прежде всего через рассуждение, хотя и через рисование, и через коммуникацию, то есть через ваши вопросы, ваше понимание и мышление, но именно рассуждение образует ту связь, через которую все это передается.
При этом само это рассуждение (именно это меня интересует в первую очередь) должно быть особым образом организовано. Причем оно должно быть организовано так, чтобы, по сути дела, могло обеспечиваться любое рассуждение методологического типа. Поэтому я рассуждаю и организую это рассуждение; в этом моя цель и моя работа. Но, с другой стороны, меня ведь само рассуждение интересует меньше всего, потому что меня интересуют эти формы организации и возможность включить их в трансляцию и на их базе строить любые рассуждения достаточно эффективно.
Итак, у меня здесь оказывается, в общем, два образования: с одной стороны, рефлексия, а с другой стороны, эти формы организации [рефлексии]. И это различие приводит нас к понятиям мышления и деятельности, потому что ведь мышление есть не что иное, как особым образом организованная рефлексия, и деятельность есть на самом-то деле не что иное, как особым образом организованная рефлексия, если мы говорим о человеческой, социальной деятельности. И коммуникация, то есть речь, есть тоже не что иное, как особым образом организованная рефлексия. Таким образом, я намечаю здесь несколько линий анализа всего этого, о которых я сейчас скажу.
Но главное пока что для меня – рефлексия: с одной стороны, как таковая, чистая рефлексия, а с другой стороны, формы организации этой рефлексии. И эти формы организации будут отличать типы, виды рефлексивной работы друг от друга, а вместе с тем будут задавать речь-коммуникацию и, соответственно, понимание, герменевтику, и дальше, соответственно, мышление как таковое, мыслительную деятельность, деятельность. Вот что мне очень важно. Поэтому, описывая те или иные формы организации [рефлексии], я одновременно буду осуществлять переработку рефлексии в речь-язык, мысль-мышление и, соответственно, в деятельность.
Здесь несколько замечаний. Во-первых, очень интересно само понятие «чистое». «Чистая рефлексия» – что это значит? Тут уже приходится возвращаться к кантовским и даже докантовским основным понятиям. «Критика чистого разума»… В чем, собственно, состоял смысл этой абстракции «чистого»? Что хотел сделать Иммануил Кант, когда он так резко разделял и противопоставлял друг другу «чистый разум» и не-«чистый разум»?
Мне-то представляется, что это и есть, говоря нашим, современным языком, как бы разделение процессов-носителей и форм их организации. Когда мы говорим «чистая рефлексия», то мы хотим понять, что это такое на уровне материала. Но поскольку рефлексия не есть материал, а есть, по-видимому, процессы (какие-то очень странные) вроде материала, значит, это есть процессы-материал, или процессы-носители – носители особых форм организации. И поэтому, когда мы говорим о «чистой рефлексии», мы, по-видимому, хотим выделить эти процессы-носители.
Кстати, эта абстракция нужна всюду. Скажем, когда Л. С. Выготский различал натуральные процессы психики и искусственные процессы, которые возникают за счет того, что мы включаем знак и таким образом овладеваем своими натуральными, естественными процессами, то он имел в виду эту самую абстракцию. А поскольку мы имеем дело с историческими образованиями, постольку мы, по-видимому, без нее вообще не можем сделать ни шагу.
Я мог бы дальше еще развить эту тему – она сама по себе очень интересная. Только замечу, что все те, кто критикует Выготского за якобы сведение таким образом психики к физиологизму, к физиологии, в частности его ученики Леонтьев, Зинченко-старший, Гальперин, просто расписываются в том, что они ничего не понимают здесь в природе объекта и в методах, которые необходимы для того, чтобы такого рода объекты анализировать. Когда Выготский говорил о «натуральных процессах», он совсем не имел в виду физиологию – он осуществлял эту необходимую абстракцию.
Какую абстракцию? Ту самую, которую историк производит, когда он делит историю на ту, которая была до Рождества Христова и после Рождества Христова. А главное, он же не может поступить иначе. Он должен на этой линии хронологического, или собственно эволюционно-исторического, движения поставить посредине точку. Эта точка может сдвигаться вперед или назад, но вы ничего не можете сделать без точки, не можете начать исследование… И точно так же психолог, который начинает изучать психику ребенка, или его мыслительные процессы, или еще что-то, всегда должен поставить эту точку. Эта точка очень четко отделяет то, что он будет рассматривать как натуральное, то есть как не формируемое, а само собой сложившееся… А вот как вы потом будете трактовать это «до» – как природные задатки, как от природы данные способности, склонности и еще как-то, – это все уже фуфло и не имеет к научному и вообще к мыслительному анализу никакого отношения. Это все уже бытовые рассуждения на уровне – надо ли «класть Бриану палец в рот» или не надо34.
Теперь второе замечание. Поскольку мне нужно разделить чистую рефлексию и организованную рефлексию, то есть формы организации [рефлексии], которые приходят откуда-то, совсем с другой стороны, постольку мне приходиться пользоваться этой схемой пространства (см. рис. 4). Это очень важно. Я ведь должен задать как бы соцелостность этого, стянуть воедино. А как мне на уровне метаметодологического рассуждения это показать?
Рефлексия каждого из нас делает это очень просто: она что-то выбирает и что-то стягивает. И поскольку она что-то стянула и соорганизовала, она задала в данном случае функционарную соцелостность. А мне же надо перейти на уровень всеобщности. Я хотя и работаю конкретно, но ведь работаю с категорией неопределенности, строю это рассуждение не по поводу сидящих здесь людей и не описываю в исследовательской модальности что-то происшедшее, фактическое, – я строю пространство. То есть фактически я создаю набор средств и общую онтологию – так же, как это делали и Архимед, и Ньютон, и другие. Тут совершенно одинаковая логика и одинаковые законы. Но ведь мне это нужно онтологически каким-то образом задать. И как я это могу задать? За счет того, что я кладу всё.
На первом и втором докладах в этом плане было несколько очень интересных и характерных реплик. Да, действительно, я кладу всё, но это не означает, что очерчиваю. А вот как я дальше буду трактовать это пространство – это уже другой вопрос.
– А где находится это пространство?
Пространство – по сути понятия пространства – находится нигде. Все остальное находится в нем. Но ведь вы же задаете свой вопрос в натуральной модальности. Вы туда глядите – «во двор» – и спрашиваете: где? Кант отвечал: пространство есть априорная эстетическая форма. И он в этом смысле был прав.
Но мы же это трактуем совершенно иначе. Я ведь рисую не пространство, а схему пространства. Если вы меня спросите, где находится схема пространства, я отвечу: на доске. А где находится пространство, которое я мыслю? Но для ответа на этот вопрос надо понимать принципы интенциональных отношений рефлексии: если мы рассматриваем это как онтологическое образование – тогда глядите и упирайтесь в него (потому что объект есть то, во что мы упираемся, пространство как объективное есть то, во что мы упираемся), либо мы хотим это рассматривать как знак – тогда откройте эту «калитку» и проходите через нее дальше. А куда вы пройдете – это зависит от испорченности вашей рефлексии, ваших интенций – куда сможете, туда и пройдете, вплоть до объективности. Вы можете это делать сколько угодно.
И, кстати, ведь вы опять задаете вопрос в логике превращенных форм. Вы спрашиваете меня: что такое пространство? А я вам отвечаю: не задавайте вопросов, что есть пространство, время и т. д. Смотрите, что мы делаем, когда мы вводим эти понятия и ими пользуемся. [Посмотрите на] ход, который предложил в отношении времени Эйнштейн и построил новую космологию. Вы можете ее строить на каждом шагу.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе