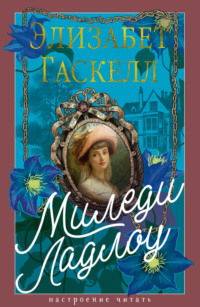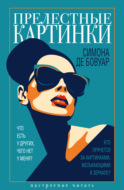Читать книгу: «Миледи Ладлоу», страница 3
– Уж не хотите ли вы сказать, мистер Лейтем, что не считаете себя ответственным за всякую несправедливость или беззаконие, каковые вы могли бы предотвратить, но не предотвратили? А в этом деле первоисточником неправедного суда стала ваша собственная ошибка. Жаль, вас не было со мной, когда по пути к вам я зашла в дом этого несчастного, и вы не видели, в каком бедственном положении находится его семья.
Она понизила голос, и мистер Грей, чтобы лучше слышать ее, сделал несколько шагов вперед, скорее всего безотчетно. Теперь мы с Мэри ясно видели его, а мистер Лейтем наверняка услыхал за спиной его шаги и понял, что священник слышит и одобряет каждое слово миледи. Мистер Лейтем еще больше насупился, однако деваться некуда – миледи есть миледи! – и он не смел говорить с ней так, как говорил бы с мистером Греем. Леди Ладлоу заметила на его лице выражение угрюмого упрямства, и это вывело ее из себя, я никогда еще не видела ее в таком раздражении.
– Уверена, сэр, что вы не откажетесь принять от меня залог. Предлагаю отпустить осужденного под залог и мое поручительство: я обязуюсь, что он явится в суд на последующие слушания. Что вы на это скажете, мистер Лейтем?
– Миледи, по закону осужденный за воровство не может быть отпущен под залог.
– Полагаю, закон писан для обычных случаев. Мы же говорим о случае необычном. Исключительно вам в угоду, как я узнала, и вопреки всем доказательствам человека посадили за решетку. Через два месяца он сгниет в тюрьме, а его жена и дети умрут с голоду. Я, леди Ладлоу, беру его на поруки и обязуюсь обеспечить его явку на слушания в ходе ближайшей квартальной сессии29.
– Но это будет нарушение закона, миледи!
– Ба-ба-ба! Кто составляет законы? Такие, как я, – в палате лордов; такие, как вы, – в палате общин. И мы, принимающие законы в часовне Святого Стефана30, можем позволить себе иногда пренебречь их формальной стороной, ежели твердо знаем, что за нами правда, что мы творим справедливость в своем отечестве, среди своего народа.
– Да за такие вольности лорд-лейтенант31, как только ему донесут, лишит меня судейской должности!
– Это было бы на благо графству, Гарри Лейтем, да и вам тоже… если вы собираетесь продолжать в том же духе. Хороши жрецы правосудия – что вы, что ваши собратья-магистраты! Я всегда говорила, что честный деспотизм – наилучшая форма правления, а теперь и подавно так считаю, глядя на ваш судейский кворум. Милые мои! – внезапно обратилась она к нам. – Если вас не слишком утомит пешая прогулка до дому, я попрошу мистера Лейтема сесть ко мне в карету и мы сейчас же поедем в Хэнли вызволять беднягу из тюрьмы.
– Молодым леди не подобает в такой час одним идти по полям, – неуклюже возразил мистер Лейтем, пытаясь уклониться от поездки с миледи и вовсе не горя желанием прибегнуть к противозаконным мерам, на которые она его толкала.
И тогда вперед смело выступил мистер Грей. Он готов был на все, лишь бы устранить препятствие, способное помешать освобождению узника. Видели бы вы лицо леди Ладлоу, когда она внезапно поняла, что он все это время, затаив дыхание, следил за ее беседой с мистером Лейтемом! На наших глазах разыгралась поистине театральная сцена. Ведь все, что она говорила, было зеркальным отражением того, что час или два назад, к ее великому неудовольствию, говорил мистер Грей. Она распекала мистера Лейтема в присутствии человека, которому сама же отрекомендовала сквайра истинным джентльменом, столь благоразумным и столь уважаемым в графстве, что нельзя было сомневаться в добропорядочности его поступков. Итак, мистер Грей вызвался проводить нас в Хэнбери-Корт. И еще прежде чем он успел закончить фразу, к миледи вернулось ее обычное самообладание. В тоне ее ответа ему не сквозило ни удивления, ни досады.
– Благодарю вас, мистер Грей. Я не знала, что вы здесь, но, кажется, я догадываюсь, зачем вы здесь. Наша нечаянная встреча напомнила мне о том, что я должна повиниться перед мистером Лейтемом. Мистер Лейтем, я говорила с вами довольно резко… совсем позабыв – пока не увидела мистера Грея, – что не далее как сегодня мы с ним решительно разошлись во мнениях по поводу дела Грегсона: я придерживалась точно такого же, как у вас, взгляда на всю эту историю, полагая, что для нашего графства будет лучше избавиться от Джоба Грегсона или любого другого вроде него, виновен он в краже или нет. Мы не вполне дружески расстались с мистером Греем, – прибавила она, слегка поклонившись священнику, – но потом я случайно оказалась возле дома Джоба Грегсона и увидела его жену… И тогда поняла, что мистер Грей прав, а я заблуждалась. Поэтому с непоследовательностью, свойственной, как известно, нашему полу, я приехала сюда выговаривать вам, – с улыбкой сказала миледи мистеру Лейтему, все еще насупленному, даже после ее улыбки, – за то, что вы упорствуете в своем мнении, которое я разделяла еще час назад. Мистер Грей, – завершила она с поклоном, – молодые леди премного благодарны вам за любезное предложение; примите также и мою благодарность. Мистер Лейтем, вы не откажете съездить со мной в Хэнли?
Мистер Грей низко поклонился и густо покраснел. Мистер Лейтем что-то пробормотал – слов мы не разобрали; по всей видимости, в них выразилось вялое сопротивление. Пропустив его ропот мимо ушей, леди Ладлоу невозмутимо ждала, когда он займет свое место. И едва мы сошли с проезжей дороги, я краем глаза заметила, как мистер Лейтем с видом побитой собаки полез в карету. Признаться, я ему не завидовала: миледи была настроена очень решительно. Но я и теперь думаю, что он справедливо считал цель их поездки противозаконной.
В нашей пешей прогулке до дому не было ничего, кроме скуки. Честно говоря, мы совсем не боялись ходить одни и нам было бы куда веселее без такого провожатого, как мистер Грей, который наедине с нами тотчас превратился в неловкого, беспрестанно краснеющего молодого человека. Возле каждого перелаза в изгороди он впадал в суетливое замешательство – то первый лез наверх, желая оттуда помочь нам взобраться, то вдруг вспоминал, что полагается пропустить дам вперед, и торопливо возвращался вниз. Он был напрочь лишен светской непринужденности, как заметила однажды миледи, но, когда дело касалось пасторского служения, в нем просыпалось необычайное достоинство.
Глава третья
Если мне не изменяет память, почти сразу после описанных выше событий я впервые почувствовала боль в бедре, а кончилось тем, что я на всю жизнь осталась калекой. После нашей прогулки в сопровождении мистера Грея я, кажется, еще только раз ходила пешком и тогда уже заподозрила (хотя никому ничего не сказала), что для меня не прошел даром смелый соскок с верхней ступеньки перелаза, который я по неосторожности совершила во время путешествия от усадьбы мистера Лейтема до Хэнбери-Корта.
С тех пор много воды утекло, и на все воля Божья… Я не стану утомлять вас рассказом о том, какие мысли и чувства овладели мной, когда я поняла, что за жизнь ожидает меня… о том, как часто я поддавалась отчаянию и хотела скорей умереть. Вы сами можете представить, каково это для здоровой, подвижной, деятельной семнадцатилетней девушки, жаждавшей преуспеть в жизни, чтобы, используя свое новое положение, помогать своим братьям и сестрам, – каково в одночасье превратиться в беспомощного инвалида без всякой надежды на исцеление и чувствовать себя лишь обузой. Скажу только одно: даже это великое, беспросветное горе подчас оборачивалось благословением, и главным подарком судьбы была доброта леди Ладлоу, взявшей меня на свое особое попечение. Теперь, на склоне лет, когда я целыми днями лежу совсем одна, прикованная к постели, мысли о ней согревают мне душу!
Миссис Медликотт оказалась превосходной сиделкой, и я навеки благодарна ее светлой памяти. Однако там, где требовался не просто уход, ей бывало нелегко со мной. Я подолгу не могла унять горькие слезы – боялась, что мне придется уехать домой, и спрашивала себя, что же будет, ведь моим домашним и без калеки несладко живется… К этому страху примешивались другие, от них гудела голова, но далеко не все свои тревоги я могла откровенно высказать миссис Медликотт. Она не знала иного способа утешить меня, кроме как незамедлительно принести мне что-нибудь «вкусненькое» или «питательное», искренне полагая, что чашка подогретого желе из телячьих копыт есть наилучшее средство от любых невзгод.
– Вот, милая, покушайте, – приговаривала она. – Полно вам горевать по тому, чего уже не исправишь.
Вероятно, убедившись наконец в бесполезности самого расчудесного съестного, она признала свое поражение. Однажды я, хромая, сошла вниз, чтобы увидеться с доктором, которого провели в гостиную миссис Медликотт – комнату, сплошь уставленную буфетами со всевозможными припасами и сластями (благодаря ее неустанным трудам в доме всегда были лакомства, хотя сама она к ним не притрагивалась), – а когда возвращалась к себе, сославшись на необходимость разобрать свои вещи, но с тайным намерением проплакать остаток дня, меня на полпути перехватил Джон Футмен, посланный миледи сообщить мне, что я должна сейчас же явиться в ее «будуар» – приватную гостиную, расположенную, как я уже говорила, описывая свой приезд в Хэнбери, в самом конце длинной анфилады. С того дня я туда больше не заходила. Когда миледи звала нас почитать ей вслух, она садилась в своей «тихой» комнатке, или кабинете, позади которого и находился ее будуар. Должно быть, лица высокого звания не чувствуют потребности в том, что столь ценится нами, нижестоящими, – я говорю о возможности уединиться. Мне кажется, в личных покоях миледи не было помещения с одной-единственной дверью – каждое имело по меньшей мере две, а некоторые три или четыре. Отчасти это объяснялось необходимостью держать под рукой прислужниц: при спальне – горничную Адамс, а при будуаре и кабинете – миссис Медликотт, которой предписано было сидеть в боковой комнате, примыкавшей к будуару миледи (с противоположной стороны к нему примыкала общая гостиная), и являться к госпоже по первому ее зову.
Чтобы яснее представить себе устройство дома, нарисуйте мысленно большой квадрат и разделите его чертой пополам. На одном конце черты будет парадный вход с главным холлом; на другом – задний вход с террасы, торцом упирающейся в старую крепостную стену из серого камня с низкой массивной дверью, некогда служившей потайным ходом; за стеной располагаются службы и хозяйственный двор. Люди, приходившие к миледи по делам, обыкновенно пользовались задним входом. Для самой миледи это был кратчайший путь в сад из ее личных покоев: ей всего только нужно было пройти через комнату миссис Медликотт в малый холл, выйти на террасу, протянувшуюся до угла дома, повернуть направо и по широкой лестнице с низкими ступенями спуститься в прелестный сад с убегавшими вдаль лужайками, веселыми цветниками, торжественными лаврами и прочими декоративными кустами, пышно-зелеными или усыпанными соцветиями; еще дальше высились деревья – тут раскидистые вязы, там ажурные лиственницы, чьи нижние ветви почти касались земли. Все это великолепие было оправлено, так сказать, в темную раму лесов. В годы правления королевы Анны32 старый замок хотели перестроить, но на полную модернизацию денег не хватило, поэтому новыми высокими окнами обзавелись только парадные покои, включая анфиладу гостиных и комнаты с видом на террасу и сад; ко времени моего приезда в Хэнбери даже новые окна успели состариться – летом и зимой их обвивали одревесневшие побеги ползучей розы, жимолости и пираканты.
Но вернемся к тому дню, когда я с трудом доковыляла до покоев миледи, изо всех сил стараясь скрыть, что чуть не плачу от боли. Не знаю, догадалась ли она о моих мучениях. По ее словам, она послала за мной, желая навести порядок в ящиках своего бюро, для чего ей нужна помощница. Миледи попросила меня – словно я делала ей одолжение – поудобнее устроиться в глубоком мягком кресле возле окна. (К моему приходу все было уже приготовлено – и скамейка под ноги, и столик у подлокотника.) Возможно, вы удивитесь, отчего она не предложила мне сесть или лечь на диван. Ответ очень прост: дивана в ее комнате не было, хотя через день или два он там появился. Мне кажется, что и большое мягкое кресло принесли туда нарочно для меня – при нашем первом свидании миледи сидела в другом, я его отлично запомнила: резное, с позолотой, увенчанное графской короной кресло. Однажды, когда миледи не было в комнате, я решила из любопытства посидеть на нем – проверить, сильно ли оно стесняет движения, – и нашла его страшно неудобным. Мое же кресло (которое я позже не только называла, но и считала своим) было до того мягкое и уютное, что тело поистине блаженствовало в нем.
Несмотря на удобство моего кресла, в тот первый день (да и в последующие, пока все было внове для меня) я чувствовала себя довольно скованно. Однако надоедливая боль, из-за которой я постоянно пребывала в унынии, сама собой утихла, как только мы принялись извлекать из ящиков старинного бюро разные курьезные вещицы. Многие из них вызывали у меня немое изумление: зачем нужно было их сохранять? Скажем, какой-нибудь клочок бумаги с десятком написанных на нем обычных, незначительных слов, или обломок хлыстика для верховой езды, или невзрачный камень – таких камней я могла бы набрать целый кулек во время любой прогулки. Теперь я понимаю, что во мне говорило невежество. Ведь то были куски драгоценного мрамора, объяснила миледи, из которого выкладывались полы во дворцах римских императоров. Давным-давно, когда она была еще молоденькой девушкой и совершала большое путешествие по континентальной Европе, ее родственник, сэр Хорас Манн, тогдашний не то посол, не то посланник во Флоренции33, советовал ей сходить на поля, где крестьяне расчищали почву под посадку лука, и собрать все, какие попадутся, кусочки мрамора. Она послушалась его и собранный мрамор хотела отдать в работу, чтобы ей сделали столешницу, да так и не отдала – камни, облепленные грязью с луковых полей, многие годы лежали в ящиках бюро. Однажды я предложила вымыть их с мылом, но миледи сказала: ни в коем случае, ведь это «земля Рима», хотя, по-моему, грязь – она и есть грязь.
А вот ценность других реликвий мне не нужно было объяснять. Я имею в виду локоны волос (при каждом имелась аккуратная памятная записочка), на которые миледи всегда смотрела с великой печалью; или же медальоны и браслеты с миниатюрными портретами – действительно крошечными в сравнении с теми, какие делают в наши дни, оттого их по праву называли миниатюрами: иногда, чтобы разглядеть выражение лица или отдать должное искусству живописца, требовалось вооружиться микроскопом. Мне кажется, маленькие эмалевые портреты не отзывались в душе миледи такой неизбывной болью, как упомянутые локоны волос. Оно и понятно, ведь волосы – частичка настоящей материи, оставшаяся от некогда живых и горячо любимых существ, к которым более уже не прикоснешься, которых нельзя ни обнять, ни приласкать, ибо они давно лежат в земле, обезображенные, неузнаваемые, – за исключением, может быть, волос, тех же самых, что в ее скорбной коллекции. В конце концов, портреты – всего лишь картинки, и люди на них ненастоящие, при всем внешнем сходстве с оригиналом. Спешу оговориться, что это мои собственные домыслы: миледи редко высказывала свои чувства. Во-первых, она принадлежала к титулованной знати, а люди ее круга, по ее же словам, говорят о своих чувствах только с равными себе, да и то лишь в особых случаях. Во-вторых (и здесь я вновь хочу поделиться с вами собственными размышлениями), она была единственным ребенком в семье, наследницей солидного состояния, и потому приучила себя больше думать, нежели говорить, как и подобает всякой хорошо воспитанной наследнице. В-третьих, она намного пережила своего мужа, и в годы ее вдовства рядом с ней не было близкого человека одних с нею лет, с которым ее связывали бы общие воспоминания, минувшие радости и печали. Дольше других при ней состояла миссис Медликотт, в некотором роде ее подруга; к миссис Медликотт миледи обращалась почти по-родственному и чаще, чем ко всем прочим домочадцам, вместе взятым. Но та была по природе молчалива и не расположена к пространным ответам. В итоге больше других с леди Ладлоу разговаривала горничная Адамс.
Проведя со мной около часа за разбором вещей в бюро, миледи объявила, что на сегодня наша работа окончена; к тому же подошло время ее ежедневной прогулки в карете. Она оставила меня одну, а чтобы я не скучала, возле моего кресла по одну руку лежал том гравюр с картин мистера Хогарта34 (не рискну приводить их названия, хотя миледи определенно не видела в них ничего зазорного), а по другую, на аналое, – ее огромный молитвенник, раскрытый на вечерних псалмах для чтения в тот день. Мельком взглянув на приготовленные для меня книги, я нашла себе иное развлечение и начала с любопытством осматривать комнату. Стена с камином была вся обшита дубовыми панелями, уцелевшими от старого убранства дома, тогда как другие стены были оклеены расписными индийскими обоями с изображениями птиц, зверей и насекомых. На панелях и даже на потолке теснились гербы различных семейств, с которыми Хэнбери породнились через брак. Интересно, что в комнате почти не видно было зеркал, а между тем прапрадед миледи, служивший послом в Венеции, привез оттуда множество зеркальных пластин, и одна из парадных гостиных, богато отделанная зеркалами, так и называлась – Зеркальная зала. Зато в изобилии имелись фарфоровые вазы всех форм и размеров, как и фарфоровые чудища, или божки, на которых я не могла смотреть без содрогания, хотя миледи, кажется, чрезвычайно ими дорожила. Срединная часть узорного паркета, набранного из дерева редких пород, была покрыта толстым ковром; двери располагались одна против другой и состояли из двух тяжелых створок, разъезжавшихся в стороны по вделанным в пол медным желобам (ковер не позволял установить обычные распашные двери). В комнате было два высоких, почти под потолок, но очень узких окна, и под каждым имелась глубокая ниша с сиденьем. В воздухе разливалось благоухание – частично от цветов за окнами, частично от стоявших внутри огромных ваз-ароматниц, называемых «попурри». Миледи очень гордилась своим умением подбирать ароматы. Ничто так не выдает породу, как тонкое обоняние, уверяла она. При ней мы никогда не упоминали о мускусе: все в доме знали о ее отвращении к этому запаху и о том, что за неприязнью к нему скрывалась целая теория, будто бы всякий аромат животного происхождения не обладает изысканной чистотой и не может доставить удовольствие человеку благородной крови, потому что в его семье из поколения в поколение прививалась тонкость чувств. Посмотрите, говорила она, как охотники выводят породу собак с особо острым нюхом и как эта способность передается от одного поколения животных к другому; не станем же мы подозревать собак с чутким носом в фамильной спеси и похвальбе потомственными привилегиями: наследственный дар – не фантазия! Так вот, в Хэнбери-Корте о мускусе никто не заикался. Под запретом были также бергамот35 и полынь, несмотря на свою несомненно растительную природу. Два этих запаха миледи считала вульгарными. Если она приглядывалась к молодому человеку – скажем, узнав, что тот сватается к ее служанке, – и видела, как он в воскресенье выходит из церкви с веточкой одного из упомянутых растений в петлице36, лицо ее омрачалось. Ей уже чудился любитель грубых удовольствий; я даже не исключаю, что из любви к острым ароматам миледи делала вывод о наклонности к пьянству. Однако вульгарные запахи не следовало путать с банальными. К банальным ею относились фиалка, гвоздика, шиповник, а также роза и резеда (в саду на клумбе) или жимолость (в тенистых аллеях). Украсить свое платье любым из этих цветков вовсе не означало проявить дурновкусие; сама королева, восседая на троне, возможно, не отказалась бы приколоть себе на грудь душистый букетик. В пору цветения гвоздик и роз каждое утро на стол миледи ставили вазу со свежими цветами. Среди наиболее стойких запахов миледи отдавала предпочтение лаванде и медовнику – в виде натуральных сухих смесей, а не готовых экстрактов. Лаванда напоминала ей о старых обычаях, о скромных деревенских палисадниках и их хозяевах, которые с поклоном подносили ей синие пучки лаванды. Медовник же рос в дикой природе, на лесистых склонах с легкой почвой и чистым воздухом. Дети бедняков ходили собирать для миледи это растение и за свои труды всегда получали от нее блестящие новенькие пенни; каждый год в феврале милорд, ее сын, присылал ей мешочек пенни, только что отчеканенных на лондонском монетном дворе.
Розовое масло миледи с трудом выносила: оно ассоциировалось у нее с лондонским Сити и купчихами – чересчур приторный, навязчивый, тяжелый запах. По той же причине она не жаловала ландыши. С виду ландыш бесспорно прекрасен (миледи никогда не скрывала своего восхищения), в нем все изысканно – цвет, форма… все, кроме запаха. Слишком крепок! Великая наследственная способность, которой так гордилась миледи – и гордилась не зря, ибо я ни у кого больше не наблюдала столь тонко развитого обоняния, – наглядно обнаруживалась в том, что миледи могла своим чутким носом уловить нежнейшую ноту аромата, поднимавшегося от грядки садовой земляники поздней осенью, когда листья сохнут и отмирают. Одной из немногих книг в комнате миледи был томик Бэконовых «Опытов»; и если бы вам вздумалось взять его в руки и раскрыть наугад, вы непременно попали бы на эссе о садах37.
– Послушайте, – говорила, бывало, миледи, – что пишет великий философ и государственный муж. «За ней, – (чуть выше он упоминает фиалку, моя милая), – можно назвать розу моховую…» Помните тот большой куст на углу южной стены, под окнами Голубой гостиной? Это и есть моховая, или мускусная, роза, прозванная еще розой Шекспира38; ныне она почти перевелась в нашем королевстве. Но вернемся к лорду Бэкону: «…и земляничный лист, который пахнет особенно сладко, когда увядает»39. Так вот, представители рода Хэнбери всегда умеют распознать этот упоительный, нежный, сладостно свежий земляничный дух. Видите ли, во времена лорда Бэкона не заключалось столько браков между королевским двором и Сити, как в последующие, начиная с правления его величества Карла Второго, который вечно страдал от нехватки денег. Но в эпоху королевы Елизаветы40 родовая английская знать была еще совершенно отдельной людской породой; никто ведь не спорит, что ломовые лошади (пусть и очень полезные на своем месте) – не то же самое, что чистокровные Чилдерс или Эклипс41, хотя все они принадлежат к одному виду животных. Точно так же те из нас, в ком течет славная древняя кровь, отличаются от прочих людей. Следующей осенью, моя милая, непременно испытайте себя – сможете ли вы услышать дивный аромат засыхающих листьев садовой земляники. Как-никак в ваших жилах есть толика крови Урсулы Хэнбери, и это дает вам надежду.
Но в октябре, сколько бы я ни принюхивалась, все было впустую, и миледи, не без волнения ожидавшая, чем закончится наш маленький опыт, отбраковала меня как негодный гибрид. Не скрою, я тяжело переживала свою неудачу, особенно когда миледи, словно для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство, приказала садовнику посадить земляничную грядку у той стороны террасы, куда смотрели ее окна.
Но я опять перескакиваю с места на место, нарушая последовательность событий, по мере того как мне вспоминается то одно, то другое. Остается надеяться, что на старости лет я все же не уподобилась небезызвестной миссис Никльби с ее бессвязными речами!42 (Книжку про похождения мистера Никльби мне в детстве читали вслух.)
Мало-помалу я стала все дни проводить в будуаре миледи – иногда подолгу сидела в своем покойном кресле с каким-нибудь тонким шитьем для нее, или расставляла по вазам цветы, или раскладывала старые письма по разным стопкам в соответствии с почерком, чтобы затем миледи легче было навести в них порядок – какие уничтожить, а какие сохранить, – ввиду ее неминуемой смерти. Когда в комнате поставили диван, миледи нередко приказывала мне лечь и отдохнуть, если видела, что я внезапно побледнела. Еще я каждый день, превозмогая боль, совершала короткую прогулку по террасе – на этом настаивал доктор, и я подчинилась в угоду миледи.
Пока я своими глазами не увидела изнанку повседневной жизни гранд-дамы, жизнь эта рисовалась мне нескончаемой чередой забав и удовольствий. Не знаю, как другие титулованные особы, но миледи не терпела праздности. Начать с того, что она должна была постоянно вмешиваться в управление обширной вотчиной Хэнбери. В свое время имение было заложено, а вырученные за него деньги пошли на улучшение шотландских владений покойного милорда; однако миледи непременно желала выплатить долг по закладной, дабы после ее смерти Хэнбери-Корт без каких-либо обременений унаследовал ее сын, тогда уже носивший титул графа Хэнбери. Полагаю, в ее глазах сей титул (хотя и доставшийся ему по женской линии) весил больше, чем титул лорда Ладлоу вкупе с еще пятью или шестью другими, менее значимыми.
Для того чтобы освободить имение из залога, требовалось вести хозяйство умно и осмотрительно, и миледи, не жалея сил, старалась во все вникать сама. У нее имелся гроссбух с вертикально расчерченными страницами – на каждой по три столбца. В первый заносились дата и имя арендатора, обратившегося к ней с письмом по какому-то делу; во втором кратко излагалось содержание письма, которое обыкновенно сводилось к той или иной просьбе. Однако продираться к просьбе нужно было через такие дебри совершенно излишних слов, несусветных разъяснений и пустых оправданий, что управляющий мистер Хорнер недаром сравнивал это занятие с поиском иголки в стоге сена. Так вот, во втором столбце помещалась та самая «иголка», очищенная от словесной шелухи, и миледи, просматривая наутро свежие записи в гроссбухе, сразу могла ухватить суть обращения просителя. Иногда она требовала показать ей исходное письмо, иногда просто отвечала «да» или «нет»; нередко посылала за очками и документами, которые внимательно изучала вместе с мистером Хорнером на предмет соответствия некоторых просьб (к примеру, о разрешении вспахать пастбище) условиям договора аренды. По четвергам с четырех до шести часов пополудни она принимала арендаторов лично. Утренние часы больше устроили бы миледи, если говорить о ее персональном удобстве, и, насколько мне известно, в былые времена эти приемы (аудиенции на языке миледи) всегда происходили до полудня. На призывы мистера Хорнера вернуться к прежней практике миледи отвечала, что для фермера это означало бы потерять целый день, ведь ему нужно было бы прилично одеться и до обеда забыть про работу (у себя дома миледи желала видеть своих арендаторов одетыми как на праздник; возможно, она не проронила бы ни слова, просто медленно вынула бы очки, молча водрузила их на нос и смерила бедолагу в грязных обносках таким строгим, осуждающим взглядом, что надо было обладать поистине крепкими нервами, чтобы не вздрогнуть и не уразуметь в тот же миг: как ты ни беден, прежде чем в следующий раз показаться в приемной ее светлости, научись пользоваться водой и мылом, иголкой и ниткой). По четвергам для арендаторов из дальних мест в столовой для прислуги накрывали ужин, к которому приглашались и все иные приходящие. Хотя время дорого, говаривала миледи, и после беседы с ней у них остается не так уж много часов для работы, люди нуждаются в пище и отдыхе, и она сгорела бы со стыда, если бы за тем и другим они отправились в трактир «Атакующий лев» (ныне переименованный в «Герб Хэнбери»). За ужином арендаторы могли вдоволь пить пиво, а когда еда была убрана, перед каждым из сидевших за столом ставили кружку доброго эля и старший из них, встав с места, провозглашал тост за здоровье мадам. После эля гостям полагалось разойтись по домам; во всяком случае, других бодрящих напитков не подавали. Арендаторы называли миледи не иначе как «мадам»: для них она была в первую голову замужняя наследница владений и титула Хэнбери и только потом вдова лорда Ладлоу, о коем ни сами они, ни их предки ничего не знали; более того, имя покойного лорда вызывало у них глухое неодобрение, истинную причину которого сознавали лишь те немногие, кто понимал, что означало взять ссуду под залог имения и потратить деньги мадам на обогащение худых шотландских угодий милорда.
Я совершенно уверена – постоянно находясь, так сказать, за кулисами и пользуясь возможностью многое видеть и слышать, пока сама неподвижно сидела или лежала в комнате миледи, связанной открытыми в течение дня дверями с соседней приемной, где леди Ладлоу обсуждала дела с управляющим и давала аудиенции своим арендаторам, – так вот, повторю, я уверена, что мистер Хорнер про себя тоже досадовал на злосчастный залог, съедавший уйму денег. И вероятно, когда-то он все же высказал свои мысли миледи: в ее обращении с ним ощущался легкий холодок обиды, а в его покорной почтительности – признание вины, хотя временами его несогласие вновь прорывалось наружу; это случалось каждый раз, когда нужно было платить процент по закладной или когда миледи снова и снова отказывалась тратить деньги на свои личные потребности, что мистер Хорнер считал абсолютно необходимым и приличествующим ей как наследнице Хэнбери. Ее допотопные громоздкие экипажи не шли ни в какое сравнение с усовершенствованными повозками окрестных аристократов. Мистер Хорнер мечтал бы заказать наконец для миледи новую карету. Под стать экипажам были и лошади, уже выслужившие свой срок, а между тем лучшие жеребцы из конюшни миледи продавались за наличные. Ну и так далее. Милорд, ее сын, возглавлял посольство в какой-то иностранной державе, и мы все гордились его блестящими успехами, однако высокое положение предполагает большие расходы, и миледи скорее согласилась бы сесть на хлеб и воду, чем просить сына помочь ей выкупить поместье из заклада, притом что это было бы только в его интересах.
Я замечала, что со своим верным и неизменно почтительным управляющим миледи говорила иногда строже, чем с другими, угадывая, вероятно, его молчаливое несогласие с распределением доходов от родового имения Хэнбери – слишком дорого, на его взгляд, обходилось ей поддержание земель и статуса графа Ладлоу.
Покойный лорд, супруг миледи, был моряк и любил жить широко, как многие моряки, если верить слухам (сама я моря даже близко не видала), однако же и о выгоде своей не забывал. Так или нет, теперь не важно, – миледи любила его и чтила его память, всегда с теплотой отзываясь о муже, которого, без сомнения, высоко ставила.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе