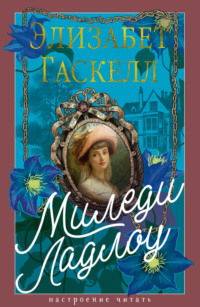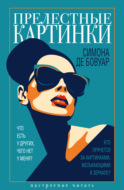Читать книгу: «Миледи Ладлоу», страница 2
Что и говорить, у мистера Маунтфорда было доброе сердце. Он не выносил вида боли или горя – любого несчастья; и если таковое все же попадалось ему на глаза, не мог успокоиться, пока не находил способа облегчить страдание, пусть и на короткое время. Из-за своей чувствительности он так боялся переживаний, что по возможности отвращал свой взор от страждущих и не жаловал тех, кто рассказывал ему о них.
– Да что прикажете мне делать с ним, ваша светлость? – ответил он, когда миледи Ладлоу попросила его навестить какого-то бедняка со сломанной ногой. – Ногу ему я не склею – для этого есть доктор; в уходе моем он не нуждается – для этого у него есть жена. Мне остается лишь вести с ним беседы, но много ли поймет он из моих слов? Не больше, чем я из слов алхимика. Мое присутствие только смущает его: из почтения к моему сану он застывает в неудобнейшей позе – ни дрыгнуть ногой, ни выругаться, ни жену попрекнуть ему нельзя, пока я рядом. Внутренним слухом я так и слышу, миледи, вздох облегчения у себя за спиной, когда выхожу от него. А насчет моей проповеди… Я-то знаю, что́ он думает: лучше бы я приберег свою проповедь для аналоя – для его односельчан, им она бы уж точно пригодилась (ибо адресована грешникам, по его разумению). Я сужу о других по себе и поступаю с другими так, как хотел бы, чтобы и со мной поступали. Это, во всяком случае, по-христиански8. А я решительно не хотел бы – не при вас будь сказано, ваша светлость, – чтобы милорд Ладлоу пришел проведать меня, когда я болел. Он оказал бы мне великую честь, спору нет, однако мне пришлось бы натянуть на голову чистый колпак, и демонстрировать из вежливости примерное терпение, и не докучать его светлости своими жалобами. Я был бы вдвойне благодарен и полнее осознал бы оказанную мне честь, если бы его светлость прежде прислал мне подстреленную дичь или жирненький окорок для скорейшей поправки здоровья и укрепления сил. Посему я обязуюсь ежедневно посылать Джерри Батлеру, пока он не выздоровеет, вкусный и сытный обед и милосердно избавлю несчастного старика от своего присутствия и наставлений.
В иных обстоятельствах миледи была бы немало изумлена этой речью, как и многими речами мистера Маунтфорда. Но поскольку на него пал выбор милорда, она не могла поставить под сомнение мудрость покойного мужа. К тому же миледи знала, что обещанные обеды всегда отправляются по назначению, нередко с одной-двумя гинеями в придачу для оплаты докторских счетов; и что мистер Маунтфорд убежденный роялист – роялист до мозга костей, как говорится; и что он одинаково ненавидит раскольников и французов и даже за чаем готов поднять тост «за Церковь и Короля – долой Охвостье»9. Более того, однажды он удостоился чести произнести в Уэймуте10 проповедь перед королевской четой и двумя принцессами и заслужил высочайшую похвалу (все слышали, как его величество одобрительно заметил: «Хорошо, очень хорошо»). В глазах миледи это было все равно что пробирное клеймо, удостоверяющее ценность мистера Маунтфорда.
К безусловным достоинствам мистера Маунтфорда относилось и то, что он помогал скоротать долгие зимние воскресные вечера в Хэнбери-Корте: сперва читал проповедь нам, молодым подопечным миледи, а после играл с ее светлостью в пикет11. В завершение миледи приглашала его отужинать вместе с нею на подиуме, но так как весь ее ужин неизменно состоял лишь из хлеба с молоком, мистер Маунтфорд предпочитал сидеть внизу, за общим столом с нами, не упуская случая ввернуть свою излюбленную шутку про вопиющую несуразицу предписания не есть вдоволь по воскресеньям, в праздник Дня Господня. Мы вежливо улыбались его остроумию – в двадцатый раз точно так же, как в первый, заранее предупрежденные о том, что́ сейчас воспоследует: прежде чем пошутить, преподобный смущенно откашливался, словно опасаясь вызвать недовольство миледи. Судя по всему, ни он, ни она не помнили, что его «оригинальная» мысль уже не нова.
Умер мистер Маунтфорд для всех неожиданно, и мы искренне сожалели об этой утрате. Часть своего имущества (у него было небольшое имение) он оставил в пользу нуждающихся прихожан, дабы в Рождество они не чувствовали себя обделенными и получили на обед ростбиф и пудинг: превосходный рецепт рождественского пудинга обнаружился в приложении к его завещанию.
Другое распоряжение мистера Маунтфорда содержало просьбу к душеприказчикам тщательно проветрить усыпальницу настоятелей хэнберийского храма, прежде чем внести туда его гроб: всю свою земную жизнь преподобный страшно боялся сырости, и в последние месяцы температура в его жилище держалась на столь высокой отметке, что, возможно (как думали некоторые), это ускорило его конец.
После смерти мистера Маунтфорда второй попечитель приходской церкви представил осиротевшей пастве его преемника мистера Грея, обладателя ученой степени оксфордского Линкольн-колледжа12. Естественно, все мы, принадлежа в той или иной мере к семейству Хэнбери, не одобряли выбора второго попечителя. Но когда кто-то из злоязычников пустил слух, будто бы мистер Грей – моравский методист, миледи сказала (и я тому свидетель), что не поверит столь чудовищным обвинениям без неопровержимых доказательств.
Глава вторая
Прежде чем перейти к рассказу о мистере Грее, думаю, надо ближе познакомить вас с особенностями нашей повседневной жизни в Хэнбери. В то время на попечении миледи нас было всего пять душ – пять девиц из хороших семей, связанных родственными узами (хотя бы и дальними) с представителями титулованной знати. Если мы не находились в обществе миледи, нами занималась миссис Медликотт, кроткая маленькая женщина, многолетняя компаньонка миледи и, как мне сказывали, ее отдаленная родня. Родители миссис Медликотт жили в Германии, и по-английски она говорила с сильнейшим акцентом. Другим следствием ее германского воспитания было виртуозное владение всеми видами вышивки и шитья, о которых нынешние мастерицы даже не слыхивали. Она так незаметно умела починить и кружево, и скатерть, и тончайший индийский муслин, и вязаные чулки, что никто не нашел бы места недавней прорехи. Добрая протестантка, миссис Медликотт никогда не пропускала праздничного богослужения в День Гая Фокса13, хотя искусством рукоделия владела не хуже монашки из какой-нибудь папистской обители. Вот она берет в руки кусок французского батиста – тут несколько нитей вытянет, там вошьет, и в считаные часы гладкая материя превращается в ажурное белое шитье. Так же ловко она управлялась с тяжелым, плотным голландским льном, украшая его простым и крепким кружевом – им были отделаны все салфетки и скатерти в доме миледи. Значительную часть дня мы трудились под ее руководством либо в просторной подсобной комнате-кладовой при кухне, либо (когда корпели над рукоделием) в примыкающей к холлу светлой комнате. Миледи не признавала изделий «с претензией», полагая, что использовать в вышивке цветную нить или гарус позволительно только в качестве детской забавы, но взрослой женщине не пристало увлекаться синим и красным, так как главное удовольствие в работе белошвейки – аккуратные, мелкие, ровные стежки. Со слов миледи мы знали, что старинный гобелен в холле соткан ее прародительницами, жившими еще до Реформации14 и потому не ведавшими о высокой чистоте вкуса ни в ремесле, ни в религии. Впрочем, современную моду миледи также отвергала. Что это за мода, если высокородные леди берутся шить себе туфли, как повелось с начала нынешнего века? По ее убеждению, подобные причуды были следствием французской революции, которая весьма преуспела в попытках стереть все сословные различия, и вот вам результат: молодые леди благородного происхождения и воспитания возятся с обувными колодками, шилом и воском для нити, будто дочки простого башмачника!
То и дело одну из нас вызывали к миледи в ее маленькую «тихую» комнату, своего рода кабинет, – почитать ей вслух что-нибудь поучительное, как правило из Аддисонова «Зрителя»15. Но в какой-то год нам велено было читать рекомендованные миссис Медликотт «Размышления» Штурма16 в переводе с немецкого. Господин Штурм учил нас, о чем надобно думать в каждый день года, и это было невыразимо скучно; но книга его очень нравилась королеве Шарлотте, и, разумеется, мысль о похвале ее величества не давала миледи сомкнуть глаза во время чтения. «Письма» миссис Шапон17 и «Наставление дочерям» доктора Грегори18 замыкали список книг для нашего чтения по будням. Не знаю, как другие, а я с радостью отрывалась от шитья и даже от чтения вслух (хотя последнее позволяло побыть наедине с незабвенной миледи), если могла отправиться в кладовую, где с любопытством разглядывала всевозможные припасы и снадобья. На много миль вокруг не было ни одного доктора, и мы, следуя указаниям миссис Медликотт и прописям доктора Бьюкена, рассылали больным пузырьки с нашим домашним лекарством, которое, на мой взгляд, ничем не уступало купленному в лавке аптекаря. Не думаю, чтобы мы кому-то навредили своим лечением. Если иной из наших настоев выходил крепковат, на вкус миссис Медликотт, она просила развести его кошенильным раствором – от греха подальше, так сказать. Таким образом, собственно лекарства содержалось в наших пузырьках совсем немного, но аккуратно надписанные этикетки придавали им в глазах неграмотных пациентов ученый и загадочный вид, что несомненно способствовало исцелению. Не счесть, сколько склянок с подсоленной и подкрашенной водицей я отправила хворым! А когда в кладовой не было дел поважнее, миссис Медликотт поручала нам заготавливать хлебные катыши, или «пилюли», и, насколько я могу судить, они отлично действовали, не в последнюю очередь благодаря тому, что миссис Медликотт всегда предупреждала больного, каких симптомов выздоровления ему следует ожидать; поэтому на вопрос, помогли ли пилюльки, я неизменно слышала утвердительный ответ. Помню, один старик всегда принимал в качестве снотворного на ночь шесть хлебных пилюль – независимо от их размера и вида, подсказанных нашей фантазией; и если его дочь случайно забывала вовремя уведомить нас, что лекарство подошло к концу, он маялся без сна и терпел такие муки, «прямо хоть в гроб ложись», по его собственному выражению. Вероятно, наша метода был в чем-то сродни нынешней гомеопатии. В той же кладовой, или подсобной комнате, мы учились готовить сообразные времени года кушанья и печения: сытный праздничный пудинг и сладкие пирожки на Рождество, блины и жаренные в масле ломтики овощей и фруктов на Покаянный вторник19, наваристую пшеничную кашу на День Матери Церкви20, фиалковые кексы на Страстную, пижмовый пудинг на Пасху, треугольные слойки на Троицу – и так в течение всего года, по испытанным церковным рецептам, передававшимся из поколения в поколение от одной из первых прародительниц-протестанток в роду миледи.
Некоторую часть дня каждая из нас проводила в обществе леди Ладлоу и время от времени сопровождала ее в экипаже, запряженном четверкой лошадей. Миледи всегда предпочитала паре лошадей четверку, как куда более подобающий ее титулу выезд; честно говоря, с парой лошадок ее тяжелая карета могла по дороге надолго увязнуть в грязи. Вообще, для узких уорикширских проселков этот громоздкий экипаж был малопригоден, и я часто благодарила судьбу за то, что графини в тех краях большая редкость, иначе мы раньше или позже столкнулись бы на пути с другой знатной дамой – с другой каретой, запряженной четверкой, – и оказались бы в безвыходном положении: ни вбок свернуть, ни разъехаться, а уж о том, чтобы пятиться задом, ни одна из дам, полагаю, не стала бы и помышлять. Однажды страх повстречаться на узкой разбитой дороге с другой знатной леди настолько завладел моими мыслями, что я рискнула спросить миссис Медликотт, как следовало бы поступить в подобном случае, и в ответ услышала: «Тшей род титулован посше, тот и должен здать назад, это ясно». В то давнее время ее слова немало изумили меня, хотя теперь мне понятен их смысл. Постепенно я приохотилась пользоваться «Пэрством»21 – книгой, которая прежде навевала на меня скуку. Из-за своих трусливых опасений, связанных с поездками в экипаже, я на всякий случай изучила историю титулований всех трех уорикских графов и, к своей радости, выяснила, что лорд Ладлоу стоит вторым в этом ряду, тогда как обладатель еще более древнего титула – вдовец и любитель охоты, а посему вероятность повстречать на дороге его карету была крайне мала.
Но я опять ушла в сторону от мистера Грея. Разумеется, впервые мы увидели его в церкви, в день рукоположения в пресвитерский сан. Он стоял красный как рак – так краснеют только блондины с очень светлой тонкой кожей – и казался щуплым и малорослым; его вьющиеся рыжеватые волосы были лишь слегка припорошены пудрой. Помнится, миледи тотчас отметила непорядок и сокрушенно вздохнула. Несмотря на то что после голодных тысяча семьсот девяносто девятого и тысяча восьмисотого годов пудру для волос и париков обложили налогом22, появляться в публичном месте без толстого слоя пудры на голове считалось предосудительным: в этом усматривали революционное вольнодумство – якобинство!23 Миледи скептически относилась к воззрениям джентльмена, который отказывался носить парик, хотя сама признавала, что в ней говорит предрассудок. Во времена ее молодости без париков расхаживали только простолюдины, и парик всю жизнь ассоциировался у нее с голубой кровью и соответствующим воспитанием, а свои волосы на голове – с классом людей, творивших бесчинства в тысяча семьсот восьмидесятом году, когда лорд Джордж Гордон24 навсегда превратился для миледи в безобразное чудовище. И муж ее, и его братья, рассказывала нам миледи, должны были в свой седьмой день рождения надеть короткие панталоны и чулки и распрощаться с волосами – головы мальчикам обривали наголо; в подарок от матери, прежней леди Ладлоу, каждый из сыновей получал в свой черед красивый, завитой по последней моде паричок; и до конца своих дней они не видели собственных волос. По понятиям того времени, отказ от пудры (впоследствии подхваченный дурно воспитанными людьми) был таким же нарушением приличий, как отказ от одежды: то же санкюлотство25, только на английский манер. Однако мистер Грей слегка пудрил волосы – достаточно, чтобы не пасть безнадежно в глазах миледи, но явно недостаточно для ее безоговорочного одобрения.
В следующий раз я увидела мистера Грея уже в нашем парадном холле, когда мы с Мэри Мейсон, готовясь сопровождать миледи в экипаже, надели свои лучшие накидки и шляпки, спустились по лестнице и лицом к лицу столкнулись с ним, ожидавшим появления ее светлости. Не сомневаюсь, что мистер Грей не впервые пришел выразить ей свое почтение, но прежде мы его здесь не видели; к тому же он отклонил приглашение миледи проводить воскресный вечер в Хэнбери-Корте (невольно вспомнишь мистера Маунтфорда, почти еженедельного нашего гостя и партнера миледи по игре в пикет…), чем отнюдь не порадовал ее светлость, как сообщила нам миссис Медликотт.
Встретившись с нами в холле, он покраснел, особенно когда мы обе сделали ему книксен. Потом слегка откашлялся, словно намереваясь заговорить, да, видно, не придумал, что сказать, – с каждым следующим покашливанием он только сильнее краснел. Стыдно признаться, но мы едва сдерживали смех, отчасти потому, что сами ужасно смутились и слишком хорошо понимали его смущение.
На наше счастье, в холл уверенной быстрой походкой вошла миледи (позабыв про трость, она всегда двигалась быстро), как бы самой своей стремительностью извиняясь за то, что заставила нас ждать, и приветствовала всех одним из тех изящных, коротких, с легким поворотом приседаний, искусство которых, боюсь, умерло вместе с нею. В ее поклонах было столько непринужденной учтивости!.. Каждое движение яснее всяких слов говорило: «Мне жаль, что я заставила вас ждать… прошу меня простить».
Она сразу направилась к камину, возле которого стоял мистер Грей, и вновь присела перед ним, на сей раз глубже, во-первых, из уважения к его сану, а во-вторых, сознавая свой долг хозяйки перед гостем, который еще не освоился в ее доме. Она спросила, не угодно ли ему пройти для разговора в ее приватную гостиную, всем своим видом показывая, что готова тотчас препроводить его туда. Но у него, что называется, накипело, и он принялся говорить взахлеб, задыхаясь, чуть ли не со слезами, все более входя в раж и выкатывая большие голубые глаза:
– Миледи, я хочу просить вас… призываю вас употребить свое благое влияние на мистера Лейтема… судью Лейтема… владельца Хатауэя.
– Вы имеете в виду Гарри Лейтема? – переспросила миледи, как только мистер Грей сделал паузу для вдоха в своей сбивчивой речи. – Я не знала, что он в комиссии26.
– Его совсем недавно назначили, еще и месяца не прошло, как он принял присягу… Тем прискорбнее!
– Не понимаю, о чем тут сожалеть. Лейтемы владеют Хатауэем со времен Эдуарда Первого, и мистер Лейтем – добропорядочный молодой человек, хотя излишне порывист…
– Миледи! Он признал Джоба Грегсона виновным в воровстве… с таковым же успехом могли бы назвать вором меня… вопреки всем свидетельствам, которые говорят об обратном… теперь, когда дело заслушано магистратским судом, это всем очевидно. Но сквайрам важнее выступать единым фронтом, нежели судить по справедливости. Они готовы отправить Джоба в тюрьму, лишь бы потрафить мистеру Лейтему. Ведь это его первое судебное решение, говорят они; и с их стороны было бы просто невежливо заявить, что нет никаких доказательств вины осужденного. Ради бога, миледи, поговорите с джентльменами, вас они послушают, не отмахнутся, как от меня, – мол, не ваша забота!..
Надо сказать, миледи всегда горой стояла за своих, а Лейтемов из Хатауэя с семейством Хэнбери связывали родственные узы. К тому же в те времена считалось, что честь обязывает поддержать молодого судью, если по своему первому делу он вынес суровый приговор; и потом, дочь этого Джоба Грегсона недавно была уволена с должности судомойки за то, что посмела дерзить миссис Адамс, горничной миледи; и, кроме того, мистер Грей не привел ни одного довода в пользу невиновности Грегсона – он слишком спешил и, кажется, будь его воля, сейчас же погнал бы миледи в Хэнли, где находился суд. Таким образом, все складывалось против обвиняемого, тогда как за него было только голословное утверждение мистера Грея. Строго взглянув на него, миледи произнесла:
– Мистер Грей! Я не вижу, по какой причине мне или вам необходимо вмешиваться в ход событий. Мистер Гарри Лейтем весьма разумный молодой человек, он способен установить истину без нашей помощи…
– Но теперь есть новое доказательство! – перебил ее мистер Грей.
В лице миледи прибавилось строгости, и она холоднее, чем прежде, сказала:
– Полагаю, это доказательство представлено судейской коллегии, куда входят люди, дорожащие своей честью, репутацией и добрым именем своей семьи, люди, хорошо известные всему графству. Вполне естественно, что мнение одного из них имеет в глазах остальных больше веса, чем слова какого-то Джоба Грегсона – человека совсем иного свойства… его небеспочвенно подозревают в браконьерстве, и никто не знает, откуда он взялся, и живет он здесь на птичьих правах… на Хэрмановой пустоши, то бишь на общинной земле… которая, к слову сказать, не относится к нашему приходу, и следовательно, вы, как приходский священник, не в ответе за то, что там происходит. Возможно, судьи отчасти правы, когда говорят вам… к сожалению, не вполне дипломатично… что дела судейские не ваша забота, – с улыбкой прибавила миледи. – Возможно, они захотят и мне указать на мое место, если я стану вмешиваться. Вы этого не допускаете, мистер Грей?
Судя по его виду, он был крайне разочарован и, пожалуй, рассержен ее ответом. Раз или два он порывался что-то возразить, но останавливал себя на полуслове, опасаясь, должно быть, высказаться неосмотрительно; в конце концов он промолвил:
– Вероятно, я слишком много на себя беру… я человек пришлый, всего несколько недель как поселился здесь… и не мне учить местных старожилов, кто заслуживает доверия, а кто нет. – (Леди Ладлоу слегка кивнула в знак согласия – невольно, думаю я, и ее собеседник вряд ли обратил на это внимание.) – Но я абсолютно убежден в невиновности осужденного… Да и судьи не могут привести ни одного резона, кроме смехотворного обычая всенепременно соглашаться с решением вновь назначенного собрата.
Напрасно мистер Грей употребил слово «смехотворный»! Оно затмило все благоприятное впечатление, которое миледи вынесла из скромного начала его речи. Я знала, как если бы услышала из ее собственных уст, что для нее это подлинный афронт: такие эпитеты применительно к действиям тех, кто стоит рангом выше тебя, просто недопустимы, не говоря уже о вопиющей бестактности столь резких выражений, учитывая, с кем он сейчас говорил.
Леди Ладлоу ответила ему вкрадчиво и неторопливо – как и всегда в приступе сильного раздражения: для нас, хорошо изучивших ее, то была верная примета.
– Нам лучше оставить этот предмет, мистер Грей. Тут мы едва ли придем к согласию.
Лицо мистера Грея побагровело, потом краска отхлынула от щек, и он сделался страшно бледен. Казалось, они с миледи забыли о нашем присутствии, а мы испытывали такую неловкость, что боялись напомнить о себе. Все это ничуть не мешало нам с превеликим интересом следить за происходящим.
Мистер Грей выпрямил спину и расправил плечи, вмиг преисполнившись достоинства. Несмотря на тщедушную наружность, несмотря на то что еще несколько минут назад он смущался и терялся, теперь в его облике вдруг проступило величие, почти как в облике миледи.
– Да будет известно вашей светлости, что мой долг – говорить с прихожанами на любые темы, в том числе на такие, относительно которых наши мнения расходятся. Я не вправе молчать лишь потому, что другие со мной не согласны.
Большие синие глаза леди Ладлоу расширились от удивления и – о ужас! – от гнева, что кто-то смеет говорить с ней подобным образом. Боюсь, мистер Грей поступил не слишком благоразумно. Он и сам, по-видимому, опасался последствий, но твердо решил не отступать, а там будь что будет. На минуту воцарилась тишина. Затем миледи сказала ему:
– Мистер Грей, при всем уважении к вашей прямоте, я не вполне понимаю, на каком основании молодой человек вашего возраста и положения считает себя лучшим судией, нежели его многоопытный визави. Я сужу с высоты своей долгой жизни и определенного веса в обществе.
– Ежели я, мадам, будучи главой прихода, должен иметь мужество говорить правду – как я ее разумею – простым и бедным людям, я тем более не должен молчать, когда передо мной особа титулованная и богатая.
Лицо мистера Грея свидетельствовало о той крайней степени возбуждения, которая у детей всегда заканчивается слезами. В своем взвинченном состоянии он мог сказать и сделать то, что было противно его натуре и чего он никогда не сказал и не сделал бы, если бы этого не требовал от него священный долг пастора. В такие мгновения любая мелочь обретает преувеличенное значение, усугубляя душевную муку. Внезапно до его сознания дошел факт моего с Мэри присутствия, и он окончательно смешался.
Миледи вспылила:
– Не кажется ли вам, милостивый государь, что вы сильно уклонились от исходного предмета разговора? Но коли вы все твердите о вверенном вам приходе, позвольте еще раз напомнить вам, что Хэрманова пустошь лежит за его пределами и вы вовсе не в ответе за нравы и обычаи безродных пришлых людей, поселившихся на этом несчастном клочке земли!
– Мадам, как видно, я только навредил Грегсону, затеяв с вами разговор о его деле. Прошу меня простить, и на сем позвольте мне откланяться.
Он поклонился, и было видно, что он чрезвычайно расстроен. Леди Ладлоу заметила выражение его лица.
– Прощайте! – громко сказала она. – И помните: Джоб Грегсон – известный браконьер и мошенник, но вы не обязаны отвечать за все, что творится на Хэрмановой пустоши!
Ее слова настигли его уже возле дверей, и он что-то пробормотал: мы с Мэри расслышали (находясь ближе к нему), миледи – нет.
– Что он сказал? – спросила она, едва за ним закрылась дверь. – Я не услышала.
Мы с Мэри переглянулись, и я ответила:
– Он сказал, миледи: «Боже, помоги мне! Ибо я в ответе за все зло, которое не смог предотвратить».
Миледи резко повернулась к нам спиной. Впоследствии Мэри Мейсон говорила, будто бы ее светлость рассердилась на нас обеих за то, что мы присутствовали при ее разговоре с мистером Греем, а на меня еще и за то, что я передала ей его слова. Но я не чувствовала за собой вины.
Через несколько минут миледи позвала нас в экипаж.
Леди Ладлоу всегда сидела одна на сиденье, лицом по ходу движения, а мы, ее молодые компаньонки, – спиной. Таково было негласное правило, которое никому не приходило в голову оспаривать, хотя некоторым нежным барышням от такой езды иногда делалось дурно до обморока. Во избежание подобных казусов миледи в любую погоду держала окна кареты открытыми и потому временами страдала ревматизмом, но от заведенного порядка не отступала. В тот день она не следила за дорогой и кучер сам выбирал путь. В карете было непривычно тихо – миледи сидела молча, с видом серьезным и строгим. Обычно поездки с ней доставляли большое удовольствие (тем, кто не ждал неприятностей от езды спиной вперед): миледи очаровательно беседовала с нами и рассказывала о разных случаях, которые происходили с ней в тех или иных местах – в Париже и Версале во дни ее молодости; в Виндзоре, Кью и Уэймуте27 в бытность ее фрейлиной королевы; и так далее. Но в тот день она точно воды в рот набрала. И вдруг ни с того ни с сего высунула голову в окно:
– Джон Футмен, где это мы? На Хэрмановой пустоши?
– На ней, ваша светлость, – ответил кучер-лакей в ожидании новых вопросов или распоряжений.
Миледи немного подумала и объявила, что хочет здесь сойти.
Она вышла из кареты, а мы молча посмотрели друг на друга и стали глядеть ей вослед. С присущим миледи изяществом она легко переступала маленькими ножками в туфлях на высоких каблуках (по моде времен ее молодости) с одного сухого пятна земли на другое, легко лавируя между лужами желтой застойной воды, которая вечно скапливается на поверхности глинистой почвы. Джон Футмен отправился за ней. Он очень старался сохранить важность поступи и при этом не забрызгать грязью свои безупречно белые чулки. Внезапно миледи обернулась и что-то сказала ему, после чего он возвратился к карете, весьма обрадованный и вместе с тем озадаченный.
Миледи же пошла дальше, к скоплению глинобитных хижин под дерновыми крышами у дальнего края пустоши. Издали, имея возможность видеть, но не слышать, мы с интересом наблюдали за этой пантомимой. Вероятно, леди Ладлоу была достаточно хорошо знакома с внутренним устройством подобных жилищ, чтобы замешкаться у входа и даже обратиться к кому-то из детей, игравших посреди грязных луж. Потом она все-таки скрылась в одной из лачуг. Нам показалось, что прошло немало времени, прежде чем она вышла оттуда; на самом деле, думаю, ее не было видно всего минут восемь-десять. Назад она шла, низко склонив голову, словно бы непрерывно глядя себе под ноги, чтобы не ступить в грязь, однако ее беспокоило вовсе не это, а тяжелые мысли и сомнения.
Она уселась на свое место в карете, еще не решив, куда ехать дальше. Джон Футмен стоял у окошка с непокрытой головой и ждал приказа.
– В Хатауэй! А вы, голубушки, если устали или должны выполнять задание миссис Медликотт, можете вернуться домой. Я довезу вас до поворота на Барфорд, оттуда быстрым шагом всего четверть часа.
К счастью, мы не кривя душой могли сказать ей, что миссис Медликотт в нас не нуждается. Пока мы с Мэри сидели одни и перешептывались, мы обе пришли к выводу, что миледи наверняка отправилась в дом Джоба Грегсона, и теперь сгорали от любопытства узнать, чем все закончится. Какая уж тут усталость! Короче говоря, мы поехали с ней в Хатауэй. Хозяин поместья, мистер Гарри Лейтем, холостяк лет тридцати – тридцати пяти, лучше чувствовал себя на приволье, нежели в светской гостиной и обществу дам предпочитал компанию таких же, как он, любителей охоты.
Миледи, разумеется, не вышла из кареты: мистер Лейтем обязан был выказать свое почтение и предстать перед ней. Она лишь велела его дворецкому (который сильно смахивал на егеря и этим разительно отличался от нашего напудренного, почтенного, безупречного джентльмена-дворецкого в Хэнбери) передать от нее поклон своему господину и сказать, что она желала бы переговорить с ним. Вообразите, как мы обрадовались и навострили уши, дабы ничего не упустить из предстоявшего разговора, хотя очень скоро радость сменилась сожалением – когда мы увидели, насколько смутило наше присутствие бедного сквайра. Ему и без того было бы неприятно отвечать на вопросы миледи, а тут пришлось держать речь перед зрителями в лице двух любопытных барышень!
– Помилуйте, мистер Лейтем, – без предисловий начала миледи, слишком взволнованная своими мыслями, чтобы соблюдать политес, – что это за история с Джобом Грегсоном?
Вопрос рассердил мистера Лейтема, но он не посмел выразить недовольство в словах.
– Я выписал ордер на взятие его под стражу, миледи, – за воровство. Только и всего. Вам, несомненно, известна его гнилая натура. Он без зазрения совести расставляет силки и сети на дичь и ловит рыбу, где ему вздумается. От браконьерства до воровства один шаг!
– Верно, верно, – согласилась леди Ладлоу: именно по этой причине браконьерство наводило на нее ужас. – Но я полагаю, человека сажают в тюрьму не за дурную натуру.
– А как же бродяги и нищие? – напомнил мистер Лейтем. – Человека можно отправить в тюрьму за бродяжничество – не за какой-то особый проступок, заметьте, а за образ жизни28.
Казалось, он сумел взять верх над миледи, но после недолгой паузы она парировала:
– В данном случае вы отправили человека в тюрьму, признав его виновным в воровстве. А жена его уверяет, что в тот день он находился за несколько миль от Хоумвуда, где произошла кража, и может это доказать. Она говорит, что у вас есть доказательство его невиновности…
Мистер Лейтем, насупившись, перебил ее:
– Ничего подобного у меня не было, когда я выписал ордер на арест. А если у моих коллег появились новые доказательства, они могли принять их во внимание и вынести то решение, какое считали нужным. С них и спрашивайте. В конце концов, это они отправили его в тюрьму. Я не обязан за них отвечать.
Миледи редко выказывала нетерпение, но в тот раз мы видели, как в ней нарастает досада: ее туфелька на высоком каблуке беспрестанно постукивала по полу кареты. И тут мы с Мэри со своего сиденья напротив миледи увидели сквозь открытую дверь усадьбы фигуру мистера Грея в полумраке прихожей. Очевидно, приезд леди Ладлоу прервал его разговор с мистером Лейтемом, но он должен был хорошо слышать каждое ее слово. Ни в коей мере не подозревая об этом, миледи возразила мистеру Лейтему, пытавшемуся снять с себя всякую ответственность, почти теми же словами, которые услышала от мистера Грея (в нашей передаче) каких-нибудь два часа назад:
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе