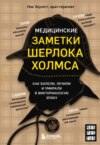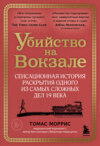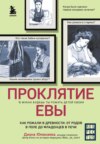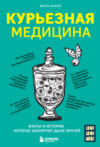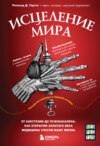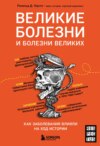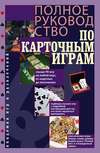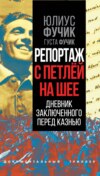Читать книгу: «Болезни империи. Как пытки рабов и зверства во время войн изменили медицину», страница 3
Как он объяснял в своем следующем труде от 1758 года, вентиляторы были специально разработаны для того, чтобы сохранить здоровье и жизни мореплавателей, равно как и предотвратить корабли от разрушения во время стояния на приколе. «И поскольку болезнь, – утверждал он, – в основном возникает из‑за влажного, плохого, зловонного и спертого воздуха тесных помещений, очевидное и единственное лекарство от нее – обеспечить циркуляцию воздуха на кораблях, не давая ему возможности гнить» [87]. Вентиляторы разгоняли воздух, и с их помощью планировалось предотвратить распространение тюремной лихорадки на кораблях, в переполненных больницах и тюрьмах [88].
«Меня проинформировали, – писал Хейлз, – что на корабле “Ливерпуль”, снабженном вентиляторами, не умер ни один из 800 рабов, если не считать одного ребенка, родившегося во время плавания». Он также добавил, что на некоторых других невольничьих судах, не снабженных вентиляторами, умирало по 30, 40, 50, а то и 60 рабов [89]. В свой доклад от 1758 года Хейлз также включил письмо от французского врача, который заявлял, что вентиляторы на корабле снижали уровень смертности от «одной четвертой до одной двадцатой этого ценного груза» [90]. Данное письмо демонстрирует, как медицинское исследование тесных условий содержания на невольничьих судах вышло за пределы Британской империи и распространилось на Французскую империю.
То, как рабам приходилось существовать во время плавания на невольничьих судах, было ключевым пунктом и книги Хейлза, выпущенной в том же 1758 году. Она называлась «Трактат о вентиляторах, где приводятся свидетельства положительных результатов многочисленных испытаний». В этой книге он вновь использовал доказательства из своих предыдущих докладов, которые включали примеры с невольничьих судов. Однако, если читать эту книгу в отрыве от остальных работ, совершенно неясно, какую важную роль в формировании его идей сыграло рабство, поскольку все практические примеры как бы погребены под малопонятными медицинскими рассуждениями. И совершенно неочевидно, что международная работорговля привела к значительному прогрессу в строительстве кораблей военно‑морского флота, хотя это было именно так.
Может показаться, что отсутствие указания на рабство в названии работы Хейлза – всего лишь результат популярной риторики. Мол, нет никакой нужды в том, чтобы выделять невольничьи суда среди других кораблей Королевского флота. Но на фоне трактата Троттера о цинге такое опущение кажется неслучайным. Пока научные идеи развивались из частных наблюдений в медицинские теории, рабство попадало либо под категорию «примеров», как в книге Троттера, либо под категорию «испытаний», как в подзаголовке труда Хейлза. Многие медицинские исследования восемнадцатого и начала девятнадцатого веков опирались на военные доклады британских врачей из колоний в странах Карибского бассейна и в Индии либо же с невольничьих или военных кораблей. Однако когда результаты этих исследований подхватывали другие ученые, они часто оставляли без внимания их контекст.
Так, британский реформатор Эдвин Чедвик в своем нашумевшем докладе о санитарных условиях вполне мог опираться на примеры из рабства и колониализма. Но он даже не упомянул их. Чедвик привел слова врача из Лондонского инфекционного госпиталя: «На борту грязных и запущенных кораблей, в переполненных, влажных и зловонных тюрьмах, в тесных палатах непроветриваемых больниц, где множество людей страдает от опасных хирургических болезней или ужасных форм лихорадки, образуется такая атмосфера, в которой невозможно дышать и в которой даже самый здоровый и крепкий человек свалится с тяжелейшей лихорадкой» [92].
Итак, врачи и реформаторы медицины не только изучали механизмы распространения болезней в стесненных условиях. Они также зародили по всему миру интерес к проверке теорий о заражении и инфекционных болезнях. Однако как мы с вам увидим далее, люди, которые на самом деле помогли врачам визуализировать их идеи, оказались выброшены со страниц истории медицины.
2. Без вести пропавшие. Упадок теории заражения и расцвет эпидемиологии

Мы не знаем имени прачки, которая стирала грязное белье путешественников, находившихся на карантине на средиземноморском острове Мальта в 1830‑х годах. Тех, что прибыли морем из охваченных чумой городов вроде Александрии. Известно лишь, что она жила в Валетте – столице подконтрольной Британии Мальты, важного узла морских коммуникаций в Средиземном море. Возможно, неподалеку от садов, что выходили на гавань. Пассажиры кораблей, следовавших из Северной Африки и Ближнего Востока, должны были проходить карантин, прежде чем отправляться дальше, в Европу. Тем пассажирам, которые перенесли болезнь или могли быть переносчиками вирусов, вручали так называемое «нечистое карантинное свидетельство». Они были вынуждены находиться на карантине еще дольше. В то время как некоторые члены экипажа оставались на корабле, большинство пассажиров сходило на берег и селилось в «Лазаретто» – огромном каменном госпитале, также выполнявшем функции карантинного учреждения. Он находился на маленьком острове в главной бухте Мальты [1].
Грязное белье с корабля доставляли прачке, которая находилась на карантине в «Лазаретто» вместе с пассажирами. Работая в сыром подвале, она наверняка таскала ведра с водой и полные руки дров, чтобы затем кипятить одежду в огромных чанах. Белье она замачивала на ночь, запуская процесс удаления пятен и запаха. Чтобы удалить кровь, она использовала спирт. Мел и белая глина растворяли жир. А для отбеливания шла в ход моча [2]. На следующее утро она приступала к изнурительной стирке. После этого белье вывешивалось сушиться в лучах средиземноморского солнца.
Прачки на Мальте десятилетиями стирали так грязное белье моряков. Джованни Гарчин, работавший в лазарете в 1830‑х годах, писал об их распорядке дня, тяжелом труде и здоровье. Несмотря на прямой контакт с грязным бельем, заявлял он, ни одна из прачек за все его двадцать девять лет работы не заразилась чумой. Это его свидетельство появилось в труде британского врача Артура Т. Холройда, где он оспаривал необходимость соблюдения карантина. Тот факт, что чума не распространялась на прачек посредством грязного белья, был одним из аргументов, выдвигаемых Холройдом в пользу того, что чума не была заразна [3]. Труд Холройда был адресован сэру Джону Кэму Хобхаусу, британскому члену парламента, который инициировал самые разные реформы и был президентом Комитета по управлению Индией. Холройд утверждал, что существующие карантинные меры были бесполезными, дорогими и устаревшими.
Прачки, скорее всего, понятия не имели, что послужили важным примером для понимания механизмов распространения (и нераспространения) болезней.
Кем были эти прачки, о чем они думали, находясь на карантине, и боялись ли стирать белье с зараженных кораблей – все это не имело значения для тех, кто за ними наблюдал. Всего две страницы труда Холройда содержат упоминание этих прачек. Но и этого было достаточно, чтобы опровергнуть распространенное убеждение о том, что чума заразна.
Подобные крупицы информации довольно часто встречались в дискуссиях о карантинных мерах конца восемнадцатого и начала девятнадцатого века. Они появлялись в качестве коротких заявлений, скудных фраз, вводных конструкций и туманных отсылок в докладах врачей и специалистов карантинных служб. Все эти люди – прачки, мусульманские паломники, матросы и бедняки – помогли медицинскому сообществу и правительственным структурам понять, как именно распространяются болезни. Но властей не интересовали имена всех этих угнетенных людей, и никто не спрашивал их мнения о той или иной болезни [4].
* * *
В Европе было множество возможностей для изучения механизмов распространения болезней и эффективности карантинных мер, но колониализм в Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке предоставил еще больше примеров и значительно повлиял на развитие определенных методов сбора информации [5]. Чумы больше не существовало в Англии, но британская экспансия позволила врачам изучать вспышки болезни в других местах. Постоянные перемещения кораблей, людей и грузов обеспечивали жадных до новых данных врачей огромной серией образцов для исследований. В поисках новой информации они общались с местными медиками, целителями и чиновниками. Колониальная бюрократия породила официальную систему документации и сбора информации, которая напрямую поступала в руки местных властей. Некоторые врачи писали работы, надеясь упразднить предусмотренные законом карантинные меры [6]. Изучая механизмы распространения болезней по всему миру, определяя их географию, происхождение и способы развития, врачи вносили свой вклад в эпидемиологию.
Именно в этот период многие усомнились в теории, которая лежала в основе карантинных норм и правил. Очень долго сохранялось мнение, что чума, холера и некоторые другие болезни, носящие эпидемический характер, распространяются путем прямого контакта с больным человеком или с предметами, в контакт с которыми этот больной вступал. Между сторонниками и противниками этой теории заражения шла постоянная борьба. Последних сильно поддерживали торговцы, которым не терпелось избавиться от слишком затратной карантинной системы [7].
Чтобы опровергнуть теорию заражения, врачи нередко обращались к работникам госпиталей, которые, как и прачки, работали в непосредственной близости к больным. Здоровье работников госпиталей превратилось в некий индикатор, определявший заразность болезни.
Одним из врачей, обращавших пристальное внимание на работников больниц, был Уильям Твайнинг, британский военный врач, служивший помощником хирурга в Калькуттском общем госпитале с 1830 и до своей смерти в 1835 году [8]. В 1832 году Твайнинг опубликовал важную, всеобъемлющую книгу о болезнях в Индии. В главе, посвященной холере, рассказывается о течении болезни, ее симптомах, причинах и способах лечения [9]. Чтобы разобраться в вопросе заразности холеры, Твайнинг воспользовался своим опытом работы в госпитале и привел подробные примеры людей, которые вступали в тесный контакт с зараженными пациентами. Первым делом он обратился к санитарам и тем, кто так или иначе имел дело с бельем. «Люди, которые наиболее подвержены риску заразиться холерой в Калькуттском общем госпитале (если эта болезнь вообще заразна), – писал он, – это те, кто ответственен за постельное и нательное белье, а также те, кто напрямую работает с больными пациентами».
Он составил список всех людей, которые занимались сменой постельного белья и его стиркой. В список входили заведующий бельем Шаик Селим; предшественник Селима Доваль, проработавший в этой больнице двадцать три года; главный приемщик белья Гави; а также его предшественники Хассай и Бичак – последний занимался стиркой белья двадцать один год. (Необычной чертой книги Твайнинга является то, что он называл имена почти всех работников, которых упоминал.) «Ни один из работников прачечной или работников, так или иначе связанных с постельным и нательным бельем пациентов, никогда не болел холерой», – отчитался Твайнинг [10].
Затем Твайнинг рассказал о других группах людей, которые вступали в тесный контакт с больными пациентами в госпитале. Местные фельдшеры, включая главного фельдшера Бактури, который проработал в больнице двадцать шесть лет, делали перевязки пациентам с кровотечением или тем, кого лечили пиявками. Уборщики меняли утки, а также чаши для рвоты. Чернорабочие индусы накрывали одеялами пациентов, которые их скидывали, растирали людям конечности и никак не могли избежать их тлетворного дыхания на самых ужасных стадиях болезни. Наконец, когда больница была переполнена, а санитаров не хватало, за пациентами ухаживали индусские студенты‑медики. Никого из представителей этих групп, заявлял Твайнинг, ни разу не поражала холера [11].
Ежедневный труд младшего медицинского персонала больницы предоставил важное доказательство того, что холера не передается путем прямого контакта. Имена сотрудников помогли придать научным постулатам человеческое обличье.
Книга Твайнинга стала одной из работ фракции противников теории заражения [12]. Еще одним ее представителем был Амария Бригам, американский врач, опубликовавший в 1832 году доклад о холере [13]. Он каталогизировал информацию, собранную разными врачами по всему миру, чтобы доказать, что эта болезнь не передается посредством прямого контакта ни с больным, ни с заражающим материалом. Приводя доказательства, собранные врачами в Индии, России, Польше, Пруссии, Англии, Франции, Канаде и Соединенных Штатах, Бригам сосредоточился на тех людях, которые вступали в тесный контакт с больными холерой, особенно – на санитарах больниц. (Здесь необходимо упомянуть тот факт, что санитары были обычными людьми, которые иногда, как и все, болели.)
Так, например, он процитировал доктора Серла, который работал в варшавском госпитале с большим количеством больных холерой и заявил, что ни один из санитаров, равно как ни одна из медсестер и ни один из тех людей, кто работал с мертвецами, не стал жертвой болезни. Аналогичным образом восемь русских врачей отметили, что санитаров, которые ухаживали за больными и непосредственно к ним прикасались, купая их, меняя белье и совершая другие действия, холера никак не затронула. Для статистики стоит обратить внимание на то, что некоторые врачи, которых цитировал Бригам, упоминали и другие группы людей, которые не были инфицированы, несмотря на тесный контакт с больными холерой. К примеру, солдаты, грудные дети, врачи, члены семьи и другие пациенты. Однако чаще всего упоминались именно санитары [14].
* * *
В начале девятнадцатого века, когда у врачей появилась возможность работать по всему миру и писать отчеты о своем опыте, они все чаще стали обращать внимание на этническую и национальную принадлежность заболевших. Амария Бригам собирал доклады из разных колоний, чтобы отследить распространение эпидемии холеры 1817 года из Индии в Юго-Восточную Азию и Африку. Описывая вспышку холеры среди рабов на острове Маврикий, он опирался на статью врача Чарльза Телфэра – британского чиновника и владельца плантации на Маврикии. Тот писал: «Пациенты в основном были чернокожими мозамбикского происхождения. Эти негры с кудрявыми волосами, далекие от цивилизации, слишком невежественные, чтобы научиться торговле, и часто нанимаемые в качестве грузчиков» [15].
Бригам назвал причиной холеры «испорченный воздух, низкие и сырые жилища, скученность и грязь, царящие в домах и городах, плохое питание, пристрастие к спиртному, страх и т. д. и т. п.» [16]. Анализируя эпидемию холеры, которая добралась также до Северной Америки и Европы, он заявлял, что она возникла в результате стесненных и негигиеничных условий, а также влажной среды [17]. Его пример с рабами был аналогичен ситуации с бедняками в Европе и Северной Америке, проживающими в похожих условиях.
Труд Бригама демонстрирует, как рабы служили ключевыми «пациентами» для иллюстрации его теорий о механизмах и причинах распространения болезни.
Так что медики изучали вспышки болезни не только в европейских и североамериканских городах, но и среди порабощенных жителей самых разных частей Британской империи.
В книге представленного выше британского врача Артура Т. Холройда о чуме и карантинных мерах несколько раз упоминаются представители расовых меньшинств в качестве иллюстрации для опровержения теории заражения. В беседе с Томасом Лесли Грегсоном, старшим хирургом военно‑морского госпиталя в Александрии, Холройд спросил, знакомы ли Грегсону примеры того, как люди, имевшие контакт с чумными пациентами, не подхватывали болезнь. Грегсон ответил, что знал многих санитаров, которые не заболели. Он также упомянул, что нескольких больных чумой пациентов навещали друзья. И болезнь их тоже никак не затронула. Затем Холройд спросил Грегсона, было ли ему известно о случаях, когда чумой заражался кто‑то из санитаров, но при этом болезнь не передавалась пациентам. Врач ответил утвердительно. «Болезнь сразила одного из слуг, закрепленных за нашей больницей. Он был чернокожим. Мы были заперты на карантин, всего нас была тысяча. Заболели еще трое наших слуг. У последнего проявились симптомы на седьмой день карантина. Эти четверо парней жили в хижинах по соседству и заразились в одно время». Двое из этих четверых умерли, но ни один из пациентов больницы не заразился [18].
Еще один представитель расовых меньшинств, послуживший доказательством в поддержку идей Холройда, был упомянут в похожем опросе, проведенном Генри Эбботтом, британским врачом и коллегой Томаса Грегсона по Александрии. Эббот привел пример человека, который слег с болезнью без какого‑либо контакта с другими жертвами чумы. В 1835 году, сообщил Эбботт, он был на борту боевого корабля, который простоял на карантине шесть недель без единого случая чумы. Первый человек, которого сразила чума, был «черный» пленник из Наблуса, который поднялся на борт в Яффе [19]. Еще один врач, с которым разговаривал Холройд, доктор Прунер, полагавший, что чума все‑таки может иногда передаваться посредством прямых контактов, объяснил, как, по его мнению, началась эпидемия чумы 1835 года в Каире: «Чума 1835 года в первую очередь была принесена братом Чиглио – мальтийским врачом. Он передал ее другому брату, тот – чернокожей женщине, а она – соседу‑греку. И так далее» [20].
В этот период представители расовых меньшинств регулярно упоминались в медицинских журналах и научных статьях. При этом не было никаких отсылок на расовые различия или на низкосортность таких людей. Их просто использовали в качестве маркеров для отслеживания механизмов распространения болезни. Когда Генри Диксон, американский врач из Южной Каролины, написал пространный трактат о патологии и терапии, он особо выделил случай чернокожего пациента. Тем самым он хотел продемонстрировать, что лихорадка денге, переносчиком которой впоследствии назвали насекомых, была заразна. Он сослался на работу одного выдающегося врача, который заявил, что некий негр был первым пациентом в городе с лихорадкой, подхватив ее от капитана кубинского корабля, вставшего на якорь в Чарлстоне.
Диксон также поднял вопрос того, как лихорадка денге распространилась с острова Сент-Томас до острова Сент-Круа. Здесь он процитировал доктора Стедмана, который сообщил, что первый пациент принес болезнь на остров и заразил всю семью. После этого лихорадка денге распространялась от одной семьи к другой, от одного поместья к другому, полностью соответствуя их соседству и их возможности взаимодействовать друг с другом. Чтобы продемонстрировать эту связь, он отметил, что болезнь передавалась от рабов одного поместья к рабам другого. Поместья могли располагаться на расстоянии километров друг от друга, но имели одного хозяина. Таким образом, можно предположить, что распространение лихорадки денге было связано с перемещениями рабов от одного поместья к другому [21]. Хотя при распространении болезни среди рабов могла возникнуть мысль о расовых различиях, Диксон не делал подобных заявлений [22]. Так, описывая патологию лихорадки денге, он заявил, что у всех пациентов были похожие экзантемы (иными словами, ярко выраженная сыпь): «Этому виду экзантемы оказались подвержены все классы людей в одинаковой степени. Старые и молодые, немощные и крепкие, местные и приезжие, черные и белые – все страдали одинаково» [23].
Медицинская мысль не стояла на месте. В своем исследовании происхождения и законов распространения эпидемий врач из Мэриленда по имени Мозес Л. Кнапп заявил, что разные группы людей более или менее приспособлены к разному климату. «Перевезите негра из Нового Орлеана в Канаду, – писал он, – и уже через год или два он станет жертвой местного климата. То же можно и сказать о канадце, который переселится в Новый Орлеан» [24]. В отличие от многих врачей того времени, Кнапп не основывал свои мысли на расовых отличиях [25]. Негр из Нового Орлеана – скорее иллюстрация медицинской теории о климате, чем аргумент в пользу расистской идеологии. Хотя то, как Кнапп использует этот термин, намекает на его уверенность, что читатели будут воспринимать чернокожих людей как носителей расы. Во время публикации этой книги Новый Орлеан был главным центром работорговли в Соединенных Штатах. Среди населения города был огромный процент порабощенных чернокожих жителей. Приводя в пример негра из Нового Орлеана, а не просто чернокожего или раба, Кнапп опирается на культурологическую символику рабства [26].
* * *
Итак, мы уже выяснили, что врачи начала девятнадцатого века, изучая распространение болезней среди бедняков и жителей колонизированных территорий, подхватили теории своих предшественников об опасности, таящейся в скученных условиях на невольничьих судах, в тюрьмах и больницах. И к своим выводам они приходили с помощью использования как раз зарождающихся эпидемиологических методов. Давайте снова вернемся к Артуру Холройду, который отрицал необходимость карантина, опираясь на убеждение, что чума не была заразной болезнью. Для изучения этой темы Холройд создал опросник для врачей и руководства британских больниц и карантинных учреждений в Египте и Мальте. Вопросы касались всего и сразу – от санитарно‑гигиенических условий до инкубационного периода и заразности.
Среди прочих Холройд cпросил Томаса Грегсона – британского врача из Александрии, – не было ли в его практике фактов, когда чума переносилась путем заражения. Тот заявил, что такое ему лично не встречалось и, более того, в больнице проводилось расследование подобных случаев, и все они были опровергнуты [27]. То, как Грегсон использует здесь термин «расследование», служит индикатором перехода к более научному подходу, который получил распространение в медицине в девятнадцатом веке. Врачи начали считать себя исследователями, которые внимательно изучали физический и окружающий мир в попытке выявить причину возникновения той или иной болезни и понять механизмы ее распространения [28]. Исследовательская жилка Грегсона способствовала даже тому, что он занялся изучением вспышек заболеваний среди животных. Когда его попросили разобраться с болезнью, которая подкосила более сотни волов местного паши, Грегсон обследовал животных, обнаружил свидетельства гангрены, а также бубоны, после чего объявил, что они умерли от чумы, и призвал похоронить их как можно глубже [29].
Собирая информацию о распространении чумы, Холройд также спрашивал колониальных врачей, не было ли им известно о случаях, когда болезнь передавалась половым путем. Прунер, Грегсон и Эбботт единогласно ответили: «Нет». Последние двое даже упомянули о случаях, когда пораженный чумой больной не заражал своего сексуального партнера. Холройд привел в пример еще одну историю, рассказанную им директором лазарета на Мальте, о том, как мужчина не подхватил чуму, хотя у него и была связь с женой незадолго до ее смерти от этой болезни [30].
Формат опросника позволил Грегсону и его коллегам документировать свои соображения, наблюдения и результаты исследований. Врачи при этом продолжали идти устоявшимися тропами и, изучая механизмы распространения болезней, использовали в качестве примеров истории угнетенных людей.
Рассказывая о том случае, когда чернокожий слуга, работавший в госпитале, слег с чумой, Грегсон заявлял, что инфекция возникла не от заражения, а от условий проживания этого мужчины.
Трое других слуг оказались поражены болезнью в то же самое время, а «эти четверо парней жили в хижинах по соседству» [31]. Автор упомянул о том, что их жилища были похожи на арабские хижины – маленькие, тесные, переполненные и слишком близко расположенные друг к другу [32].
Высказываясь насчет наблюдений Грегсона, Холройд заключил: «Египет никогда не будет полностью свободен от чумы. Отчасти это связано с климатическими условиями, отчасти – с локальными обстоятельствами, зависящими от физического состояния людей. <…> Однако главной причиной являются… арабские деревни, которые всегда будут рассадником болезней, носящих как спорадический, так и повальный характер» [33]. Судя по ответам доктора Прунера на вопросы из анкеты Холройда, по окончании эпидемии в Каире местное правительство очистило главные улицы и запретило производить похороны в пределах города. Однако без внимания осталось должное проветривание и тщательная дезинфекция домов бедняков, а также раздача им еды [34]. Колониализм в Египте позволил Грегсону и другим европейским врачам наблюдать за условиями, которые, по их мнению, провоцировали развитие чумы, и описывать их.
В завершении своей работы Холройд, помимо всего прочего, обвинил Управление здравоохранения Александрии в несостоятельности «по той причине, что оно никогда не занималось сбором данных по чуме. А это могло бы помочь снизить темпы распространения болезни или вовсе ее искоренить. Тем самым улучшив условия существования людей» [35]. Примечательно, что Холройд не стал прибегать к аргументам о расовых различиях, обвиняя в распространении болезни арабское население. Он обвинил в происходящем власти. Холройд также не стал приводить доводы о климатической ситуации. Вместо этого он назвал причиной эпидемии неудачную политику правительства и плохую ситуацию с жильем. Ужасные условия существования в хижинах, в которых приходилось ютиться арабам, помогли привлечь внимание к этим заявлениям. Холройд и другие медики выступали против теории заражения, заявляя, что чума возникла в результате скученности и плохих санитарно‑гигиенических условий.
Находясь вдали от дома, некоторые врачи начали сомневаться в медицинских догмах [36]. Ведь они получили больше возможностей для исследования связи между социальными условиями и здоровьем. Труд Холройда о карантинных мерах опирался на огромное число исследований, проведенных в Индии и других колониях Британской империи [37]. Сконцентрировавшись на выкладках, полученных врачами и чиновниками в колониях во время изучения здоровья целых сообществ, Холройд стал настоящим экспертом в области общественного здравоохранения.
Итак, главной целью Холройда было представить убедительные доводы в пользу отмены карантинных ограничений, которые все большее количество врачей считали неэффективными. Выше, на примере мальтийских прачек и египетских санитаров, мы подробно рассмотрели подтверждение его мысли, что чума – болезнь незаразная. Чтобы привести еще больше доказательств этого утверждения, Холройд обратился к мусульманам, возвращавшимся с хаджа – ежегодного паломничества в Мекку. Паломники, плывущие на кораблях в разные порты Средиземноморья, должны были проводить до нескольких недель на карантине в лазарете Мальты. Холройд привел в своем труде слова капитана Бонавиа, главного инспектора лазарета, который описал случай от февраля 1837 года.
Тогда на Мальте остановился корабль с большим количеством паломников на борту. Этот корабль прибыл из Триполи (Ливия), и на его борту находился двадцать один пассажир‑мусульманин, а также одиннадцать членов экипажа. Поскольку в Триполи как раз бушевала чума, корабль стоял в гавани в полной изоляции. Двое паломников заболели чумой уже после прибытия на Мальту. Один умер на борту корабля. Другого сопроводили в лазарет два здоровых пассажира. Но вскоре после этого он тоже умер. Остальные паломники вынуждены были сойти на берег и провести на карантине сорок один день. Экипаж все это время оставался на корабле. Через десять дней после того, как паломники покинули корабль, от чумы умер один из членов корабля. После этого остальные члены экипажа тоже сошли на берег и провели на карантине две недели. Больше никто из паломников и экипажа не заболел [38].
Из этого отчета Холройд заключил, что чума не могла быть заразной, поскольку заболевшие не передали болезнь другим пассажирам корабля. И это несмотря на то, что все находились в непосредственной близости друг от друга. Заболевший член экипажа также не мог подхватить чуму от двух больных паломников, поскольку заболел он только спустя десять дней после последнего контакта с ними. Гораздо более логичным объяснением тому, как именно заболел член экипажа, писал Холройд, был тот факт, что судно не проветривалось должным образом и что вредный воздух все еще сохранялся на борту. Корабль был потоплен, а затем поднят обратно на поверхность. Когда команда вернулась на борт, вся она осталась здоровой. «Наверняка именно устранение зараженного воздуха и очищение судна помогли предотвратить дальнейшее распространение мора» [39].
Холройд заявлял, что как заболевшего человека, так и предмет, зараженный чумой, можно «очистить» проветриванием. Отвечая на вопросы Холройда, капитан Бонавиа заявил, что ни один из людей, работавших с грузами и багажом, не заболел чумой. Сюда также входили те, кто контактировал с хлопком. Однако весь хлопок с пораженных чумой кораблей сначала проветривался на свежем воздухе [40].
Холройд также привел полученные от того же капитана Бонавиа данные о количестве пассажиров, солдат и паломников, которые находились на Мальте на карантине. В период с 1832 по 1837 годы, по заявлениям Бонавиа, в лазарете побывало примерно 10 000 пассажиров, 3000 солдат и 2000 паломников. Служащий лазарета по имени Джованни Гарчин также предоставил сведения о периоде с 1810 по 1832 год, когда ежегодно через лазарет проходило от 800 до 1000 человек. По словам Бонавиа и Гарчина, ни один человек в лазарете не заразился чумой во время нахождения на карантине (если он сам не был с пораженного чумой корабля) [41].
Подробные сведения о количестве побывавших в мальтийском карантинном учреждении представляют собой пример ведения документации, которое впоследствии стало важным элементом эпидемиологической науки.
Простые документы превратились в эмпирические доказательства характера распространения чумы. Так, в частности, подсчеты мусульманских паломников отражают популярную в то время закономерность, когда для решения медицинских загадок врачи опирались на изучение больших групп населения по всей империи.
Ежегодные миграции паломников, задокументированные как британскими, так и русскими учеными, часто вызывали опасения в связи с возможностью распространения болезни [42]. В свою очередь, характер их религиозного путешествия обеспечивал необходимыми сведениями всех, кого интересовала природа эпидемий. И все же Холройд в первую очередь был ученым. Хотя он и описывал примеры из жизни угнетенных слоев населения, делал он это, чтобы предоставить доказательства, опровергающие теорию заражения. Холройд, Твайнинг и другие противники теории пытались разработать более рациональное понимание механизмов распространения болезней, расшатывая доводы в пользу своих убеждений.
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе