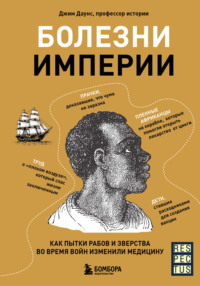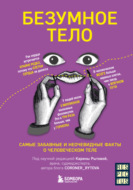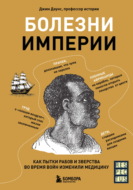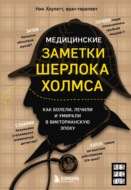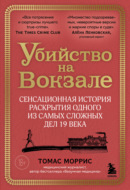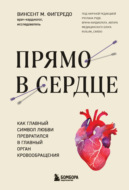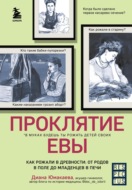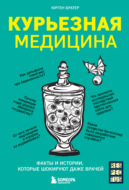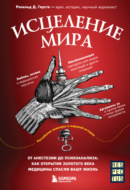Читать книгу: «Болезни империи. Как пытки рабов и зверства во время войн изменили медицину», страница 4
Что-то пошло не так, попробуйте зайти позже
Бесплатно
569 ₽
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программеЖанры и теги
Возрастное ограничение:
16+Дата выхода на Литрес:
26 марта 2025Дата перевода:
2024Дата написания:
2021Объем:
343 стр. 6 иллюстрацийISBN:
978-5-04-220174-5Переводчик:
Издатель:
Правообладатель:
ЭксмоВходит в серию "Respectus. Путешествие к современной медицине"