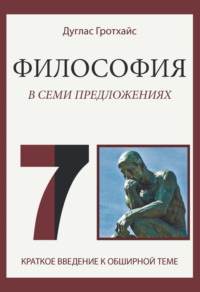Читать книгу: «Философия в семи предложениях», страница 2
Обзор семерки
Протагор – не самое известное имя. Наберите его в поисковике и узнаете кто он. (Первой записью, что неудивительно, будет популярная онлайн энциклопедия.) Вы также не найдете много академических изданий, анализирующих его идеи, хотя его часто объединяют с софистами. Некоторые острословы считают эту философскую группу непорядочной и даже используют оскорбительную присказку: «Ах ты софист!» Софистов обвиняют в корысти, в том, что их заботила не истина, а плата за философствование. Подробнее об этих наемных философах мы поговорим позже. Тем не менее, в этом древнегреческом изречении оформилась мысль некоторых философов и многих простых людей. Вот как звучит это изречение:
Мера всех вещей – человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют .
Протагор создает пространство для идеи, над которой многие задумываются: при всем нашем желании мы не можем освободиться от самих себя: наших чувств, наших взглядов, наших ценностей, даже наших «вещей». Мир – это наше суждение и ничего больше. Он не ожидает нашей оценки, он и есть наша оценка. Не существует объективной истины, есть лишь различные взгляды, высказанные разными людьми в разных местах в разное время. Вещи не являются нашей мерой, но мы являемся мерой вещей. Таким образом, Протагор – это представитель релятивизма, который иногда называют нереализмом или перспективизмом. Дело не только в том, что мы не имеем (или имеем ограниченный) доступ к объективной реальности. Об этом говорит скептицизм. Реальность в значительной степени исчерпывается нашим восприятием и мыслями о ней. Реальный мир – это наш мир, мир, как мы его видим. Бессчетное число людей считали Протагора неправым, по крайней мере, в этом, но никто из тех, кто стремится к знаниям и мудрости, не может его игнорировать. Его злой дух преследует нас до сих пор. Найдется ли для него философ-экзорцист?
Следующее предложение мы часто слышим, но редко усваиваем. Я неизменно цитирую его на первых занятиях по введению в философию: «Жизнь без исследования не стоит и называть жизнью». Я пытаюсь убедить своих студентов жить именно так – ради них самих и ради меня. (Так говорил Сократ, овод (или зануда) древних Афин. Как и Протагор, Сократ известен нам только благодаря тем, кто знал его речи, но в отличие от Протагора у нас есть более основательные источники, в частности Платон.
А Сократ – имя нарицательное. Неслучайно человек, который ничего не писал, в итоге стал вдохновителем плодовитого Платона, который был первым в мире систематическим философом. Как заметил философ Альфред Норт Уайтхед: «Самая безопасная общая характеристика европейской философской традиции состоит в том, что она состоит из ряда ссылок на Платона» . Одни Платона хвалят (Августин), другие порицают (Аристотель), но ссылки на его работы, да и целые работы по его философии можно найти повсюду.
Принять философский вызов Сократа – значит исследовать. Что же означает его знаменитое предложение само по себе и что оно значит для нас. Какой может быть исследованная жизнь, учитывая отвлекающие факторы и чрезмерное раздражение постмодернистского времени? Сократ считает, что успокоить ум и докопаться до истины возможно. Но есть ли место сократовскому диалогу сегодня, вне сократовского метода многих юридических школ? Кроме того, старый Платон, летописец и ученик Сократа, может предложить нам мудрые мысли в отношении наболевших вопросов философии, поскольку он отвергает работу филодоксов (любителей мнений) и поддерживает призыв философов (любителей мудрости). Еще хуже были мизологи (одно из самых удачных слов платоновского корпуса), те, кто сыграл активную роль в раздувании ненависти к применению разума как такового. Сегодня мы можем встретить таких людей даже в образованных анклавах и даже в списках бестселлеров.
Но Аристотеля можно найти и в популярных книжных магазинах, в разделе философии (наряду с менее престижными изданиями, такими как «Led Zeppelin и философия», которые мы оставим без дальнейших комментариев). Когда Аристотель писал: «Все люди по природе своей стремятся к знанию», он имел в виду не только ученых или учителей, но и «людей» вообще – весь род человеческий во всех его обстоятельствах и вариациях. Это означает каждого человека, независимо от его социального положения, профессии или интеллекта. Хотя Аристотель не был эгалитаристом (он считал, что женщины уступают мужчинам и что некоторые рождаются для того, чтобы быть рабами), он, тем не менее, апеллирует к универсальному человеческому состоянию: желанию правильно понять реальность за время, которое у нас есть.
Августин, первый великий христианский философ, как и Сократ до него, подчеркивает важность личного опыта для правильного понимания реальности. Исследовав себя и ведущие философии своего времени (включая Платона и ссылки не него), он с криком сердца, обращенным к Богу, признается: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».
Этот возглас не тривиален, как, например, «Моя духовность наполняет меня смыслом». Напротив, это начало аргумента, представленного им с помощью автобиографии. По сути, это, возможно, первая автобиография в истории. Это, несомненно, первая философская автобиография (если не считать книгу Екклезиаста). Несдержанный Жан-Жак Руссо также известен своей автобиографией, но его короткая книга мало что изменила .
Пропустив большую часть истории философии (сохранив при этом уважение к ее персоналиям, но не роняя лишних слов), мы приходим к Рене Декарту, столь оклеветанному, но редко понимаемому «отцу современной философии». Декарта беспокоили мнения, не имеющие под собой основы, – идеи о конечных вещах, не привязанные к определенности. Скептицизм был его врагом, как и в той или иной мере для любого философа. Потому что возникает вопрос: «Откуда вы знаете то, что утверждаете? Простое социальное положение или историческая традиция не помогут этому философу и ученому решить проблему. Говоря нашим языком (который сам нуждается в исследовании), этот человек «требовал доказательств». Хотя ответ «я не знаю» часто бывает наиболее обоснованным, он не должен быть ответом по умолчанию, считал Декарт. Эти опасения привели его к поиску, который начался с него самого. Подобно Августину, но в более кратком объеме, он изложил это в автобиографической форме в книге «Рассуждение о методе» и, в некоторой степени, в книге «Размышления о первой философии». Но, в отличие от современной литературы по саморазвитию, поиски Декарта не закончились на нем самом. Он знаменит фразой «Я мыслю, следовательно, я существую». Но Сам Бог был никак не связан с этим изречением. Для Декарта в нем также не было прыжка веры. Разум был проводником. Но далеко ли может завести нас разум?
У современника Декарта на этот счет была идея. «У сердца свой рассудок, который рассудку недоступен», – писал Блез Паскаль, который умел выражать свои мысли лучше всех наших философов. Это высказывание – окно в мировоззрение. Человек способен методично вычислять и рассуждать, но некоторые вещи он может познать, опираясь только на природу и ресурсы «сердца» – еще одного органа познания. Философы изучают многих мыслителей, но далеко не всех любят. (Я как-то проводил семинар по «Критике чистого разума» Канта, но наши отношения нельзя назвать любовным романом). Паскаль, напротив, любим многими. Его любят настолько, что даже любят то, чего он на самом деле никогда не говорил, например: «У каждого человека есть пустота в форме Бога, которую может заполнить только Бог». Но этот парафраз не так уж далек от истины, хотя его следует рассматривать в более широкой перспективе философии Паскаля.
Философия французского эрудита гораздо увлекательнее, и ее трудно уложить в краткий пересказ. Паскаль не ставил веру на место разума и не был узколобым философом (пари Паскаля ). Клевета и злословие испортили ему имидж, затушевав его утонченный подход к вопросу о том, насколько выгодно верить или не верить в религию. Однако он не был ни плутом, ни позером. У основателя теории вероятностей и изобретателя первой работающей вычислительной машины были причины верить. Как и Декарт, он спорил со скептицизмом, и, как и Декарт, он обращался к человеческой природе, чтобы начать дискуссию.
Последнее предложение в этой книге не так известно, как предыдущие, но оно открывает перед нами дверь для исследования:
Худшая из опасностей – потеря своего Я – может пройти у нас совершенно незамеченной, как если бы ничего не случилось.
Ее написал уникум – знаменитый меланхоличный датчанин по имени Сёрен Кьеркегор, философ, которого очень интересовала проблема самости по отношению к конечной реальности. Это должно звучать знакомо, поскольку все философы так или иначе проявляли интерес к этому вопросу. Но путь Кьеркегора был в некотором смысле не только психологическим, но и философским. Используя философские категории, он смело описывал внутреннюю работу Я, сознания человека. Как и Паскаль, Кьеркегор хотел с помощью экзистенциального анализа отбросить наслоения и динамику Я, которые удерживают реальность на расстоянии. В отличие от Паскаля и других философов, он был больше заинтересован в анализе самости, чем использовании Я для представления доводов в пользу абстрактной объективной реальности. Такой подход может показаться недостаточно философским, но это не так. Но для того, чтобы разобраться в этом понадобится время, которое, я надеюсь, у вас найдется.
Наши семь предложений можно рассматривать как несколько дверей в ранее неизведанные миры. Или же они могут сыграть роль триггеров, которые заставят нас уйти от поверхностных советов – «Занимайся своим делом», «Следуй за своим счастьем», «Сохраняй спокойствие и двигайся дальше» – к более трезвым размышлениям . Или, возможно, эти предложения суть мосты в отдаленные уголки философской мысли. Эти философские изречения не являются итогом жизненного труда представленных здесь философов, поскольку философия этих мыслителей гораздо глубже. Семь предложений также не ставят своей целью подвести итог истории философии. Заявлять такое было бы напыщенно и смехотворно. Есть вопросы, которые невозможно передать ни в семи, ни в семижды семидесяти изречениях. Но определенно – желание изучить философию эта книга вполне может зажечь – и кто знает, к чему это желание вас приведет?
Глава первая
Протагор
Мера всех вещей – человек.
Протагор, «Теэтет»
Греки любили философствовать! Основные вопросы бытия были всегда интересны человеку, но древние греки преуспели в этом особенно. Их размышления – порой фрагментарно, из вторых рук – дошли до нас в письменных текстах. Как бы ни развивалась философия в исключительно устных культурах, греки ценили письменность в дополнение к устной памяти и преданию. Сократ, как вы помните, ничего не написал, но своими диалогами создал огромный пласт литературы. Менее известный человек, живший после него, кое-что все же написал, и его знаменитое изречение заслуживает нашего внимания.
Протагора (V век до н. э.) не следует путать с Пифагором и Парменидом, древнегреческими философами, которые, в числе многих, жили до Сократа. (То, что жизнь Сократа делит историю философии на две эпохи, говорит о его значимости). Эти мыслители также заслуживают внимания, и я помню, как в свое время с огромным удовольствием изучал их творчество на курсе античной философии. Однако Протагор выделяется среди них благодаря своему изречению об абсолютной оценке:
Мера всех вещей – человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют .
Он утверждает, что люди не просто измеряют или оценивают вещи – такие, как характер, колесницы, лодки и рыбы, – но что каждый человек сам является мерой. Каждый человек сам по себе есть оценка или суждение. Что же это значит? Ни один человек не является линейкой, весами или счетчиком Гейгера, хотя мы и пользуемся такими измерительными приборами.
Что есть мера?
Обычно считается, что люди пользуются некими абсолютными, объективными стандартами для измерения. Даже такие неадекватные и одномерные показатели, как IQ, не определяются нашим субъективным отношением, а Менса очень придирчиво относится к этому вопросу.
С другой стороны, с Протагором согласен шекспировский Гамлет, по крайней мере в том, что касается этики: «Ибо нет ничего ни доброго, ни худого, а только мышление делает его таковым» . То есть этика не имеет объективной основы; разные люди оценивают ситуацию по-разному. Эти слова появляются в разговоре о Дании, которую Гамлет, в отличие от своего собеседника Розенкранца, называет «тюрьмой». Если Гамлет прав, то и он и его собеседник правы в отношении Дании.
Что же тогда хотел сказать Протагор? (Отложим пока серьезные трактовки Шекспира). Чтобы выяснить это, нам нужно окунуться в греческую философскую среду и не спешить с критикой или с похвалой. (Протагор одобрил бы такой подход.)
Протагор считался главным среди софистов – интеллектуалов, которым платили за отстаивание взглядов их спонсоров. Они были искусными ораторами и глубокими мыслителями. Первоначально слово «софист» означало что-то вроде нашего «профессора», но позже софистами стали называть наемных интеллектуальных убийц, философов по найму, не имеющих собственных принципов. Их аргументы, якобы, были лишь орудием воли их спонсоров. Можно много спорить об этической стороне этого занятия, но сама по себе плата за философствование не отменяет качества аргументации. С другой стороны, если мы будем считать софиста кем-то вроде спичрайтера публичного политика, наше отношение к нему изменится в лучшую сторону. Какова бы ни была здесь нравственная составляющая, Протагор был прежде всего лектором, который формулировал и обсуждал вопросы, возникающие на рынке идей, который, кстати, все еще существует. Давайте же присоединимся к этой дискуссии.
Начислим
+21
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе