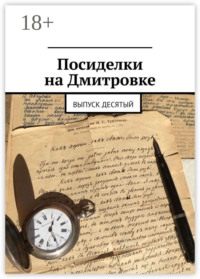Читать книгу: «Посиделки на Дмитровке. Выпуск десятый», страница 6
Кстати, с этой квартирой связано самое яркое воспоминание детства. Мне четыре года с небольшим, это канун 1970-го. Мама забрала меня из детского сада. Уже темно, и я устал, ведь по тогдашнему укладу советской жизни родители детей отводили в сад до своей работы, а забирали после неё. То есть мы проводили в саду девять-десять часов. Мама, чтобы меня подбодрить, рассказала, что, может, папа сегодня привезёт ёлочку. От его работы поехали в лес за ёлками, глядишь, и нам достанется. Вошли в дом, успели зажечь свет только в прихожей и видим: в комнате-зале по диагонали, из угла в угол лежит большущая ёлка. Радости моей не было предела. Это была сказочная ёлка. Достали откуда-то ящик из-под посылки, а в нём старые немецкие игрушки: бусы, домики, фигурки и много чего ещё. Этого не хватило, и мама потом купила ещё игрушек. Красивей и, наверное, желанней ёлки в моей жизни не было, и ещё это воспоминание о папе! Этот праздник нам всем устроил он, почти за год до своей гибели.
Так и жили мы все вместе. Тоня, папина сестра, которая в 17 лет вышла замуж, с мужем и ребёнком в трехметровом отгороженном закутке; бабушка в большой проходной комнате, и мы с мамой в дальней холодной узкой «нашей комнате». Да, следует сказать, что квартира была с печным отоплением. Надо было принести уголь из подвала и протопить печку, что я и делал уже с первого класса.
«Наша комната», почему мы её так называли? Потому что на восемь лет, пока мы не переехали в свою комнату в коммуналке, для нас с мамой это был наш уголок, где мама отходила от своего горя, да и я тоже. Мама была или на работе, или хлопотала по хозяйству, я мало её видел. Только в выходные. В этот день мы ехали на трамвае через весь город к маминой маме – бабушке Антонине, помыться. С этих пор мои игры были только в «нашей комнате», с переодеваниями, где придумывался обязательно сюжет – история. Думаю, это из-за того, что мама мало рассказывала сказки, а больше – литературные произведения (романы, повести, рассказы) или фильмы. Однажды в гостях я увидел перчаточные куклы. Радости моей не было предела, я играл в них с дочкой хозяев дома, весь вечер, а потом о них говорил без умолку по дороге домой. Видя это моё увлечение и умение разыгрывать истории, мама купила мне перчаточную куклу Петрушки, и тут началась игра в Кукольный театр. И так сложилось, что спустя три десятилетия меня назначили директором самого большого и лучшего в мире театра кукол имени Сергея Образцова.
Ширма делалась с помощью покрывала, которое я вешал на швабру. Клал ее одним концом на сервант, другим на кресло, одинаковость высоты регулировалась стопкой книг и роман-газетами, которые выписывала мама. Швабра делила комнату пополам. С одной стороны, был реальный мир, полный горя и тяжёлой жизни, а с другой – вымышленный, радостный, такой, каким я его представляю, с полным ощущением счастья, которое в мою реальную жизнь пришло спустя долгие годы.
Я учился в седьмом классе, когда нам дали, наконец, комнату в коммуналке и мне пришлось переменить школу. Был увлечён фильмами-сказками Александра Роу и других режиссёров, записался в драмкружок и стал играть все характерные роли. Особенной для меня была роль Бабы-яги, её я играл на всех новогодних представлениях лет пять. Для меня открылся мир волшебства и мир талантливых людей.
В старших классах я уже начал читать литературу о театре. В библиотеке Дома культуры железнодорожников, где я занимался в драмкружке, был стеллаж книг о театре. Я прочитал все, что на нём было: мемуаристику, критику, пьесы. Не пропускал ни одного показа по телевидению фильмов-спектаклей, передач об актёрах и режиссёрах. Слушал по радиотеатр у микрофона. Знание редких записей из фондов радио с голосами актёров старого МХАТа и Малого театра, чьё творчество не запечатлено на видеоплёнке, помогали мне как театроведу и во время учёбы ГИТИСе, и после. Ведь только по радио записям можно составить впечатление о творчестве Николая Хмелёва и о легендарном спектакле «Дни Турбиных» МХАТа. Много лет спустя у меня была одна памятная встреча в антракте спектакля нашего театра с известным театроведом, телеведущим передачи «Серебряный шар» Виталием Яковлевичем Вульфом. Разговор зашёл, по его инициативе, о старом Художественном театре, и общая беседа быстро сникла. Единственным, кто мог вступить с ним в диалог, был я, остальные внимательно слушали, но добавить ничего не могли. Виталий Яковлевич был оживлён во время беседы и уходил из театра в приподнятом настроении. Об этом рассказала мне наша заведующая литературной частью, которая его сопровождала. Во время спектакля Вульф все больше подремывал, а вот наш разговор его впечатлил, и он долго расспрашивал обо мне. Объёмные знания истории театра – родом из моего детства, из моей неутолимой жажды знаний о театре.
Я рано стал читать русскую драматургию, что несвойственно школьникам. Подростки обычно читают Стивенсона, Жюль Верна, на худой конец, Артура Конан-Дойля, а я зачитывался пьесами. Выше всех я ставлю комедию Грибоедова «Горе от ума», люблю драматургию Гоголя, Островского, Горького, Арбузова. И образы в них мне интересны не главных положительных героев, а ярко выписанные острохарактерные роли Фамусова, Дикого, Городничего.
В юности появилась и сохраняется до сих пор, моя любовь к русской литературе ХIХ века. Дорогим подарком считаю для себя в свободное от неотложных дел время перечитывать любимые страницы из романов Льва Толстого «Война и мир» (линия мира), «Анна Каренина» (линия Левина и Кити), Гончарова «Обыкновенная история». Очень люблю творчество Лескова, его роман «Соборяне», рассказы и повести. Самое яркое впечатление моей юности – мемуары Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и В. А. Теляковского, последнего директора императорских театров. И, конечно же, мемуары стариков Малого театра, особенно великой актрисы Веры Николаевны Пашенной. Она сочетала в себе безупречную актёрскую технику и щедрую природную одарённость. В пьесе Горького «Васса Железнова» исполнение главной роли стало вершиной актёрского мастерства Веры Николаевны, на мой взгляд, оно гениально. Купец Храпов в исполнении Михаила Жарова восхищённо говорит сестре: «Богатырь ты, Васса!». Вот и Вера Пашенная была богатырь, глыба! Для меня дорого любое упоминание о ней, любое её участие хоть в крошечной роли, как, например, бабушка в старом фильме «Екатерина Воронина», где у неё всего лишь два, но незабываемых эпизода.
В 1982 году по окончании школы я поехал поступать в театральный институт. Провалился, но это меня не расстроило, я был максималистом и имел стойкое убеждение: чтобы чего-то добиться в искусстве, надо хорошо знать жизнь. Поэтому пришло решение остаться в Москве, а потом пойти в армию. Учиться вместо театрального института пришлось в профтехучилище по специальности плотника-паркетчика, цель сделанного шага – смотреть, смотреть, смотреть спектакли московских театров, напитаться живым искусством! Так я увидел лучшие спектакли сезона 1982—1983 годов, перед службой в армии, ходил в театр три-четыре раза в неделю. Успел увидеть на сцене великих «стариков» Малого театра, МХАТа, Вахтанговского театра, театра Моссовета и других. Денег на билеты, конечно, не хватало. Если в кассе были билеты, то покупал самые дешёвые, а садился в партере на свободные места, в последний момент перед тем, как погасят свет. Далеко не всегда были билеты в кассе, тогда идёшь от театра к метро с вопросом к прохожим: «Нет лишнего билета?», и, о счастье «лишний билетик» почти всегда находился! В филиале Художественного театра шёл спектакль «Старый Новый год», где был потрясающий актёрский ансамбль: Евгений Евстигнеев, Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Евгения Ханаева, Валерия Дементьева, Пётр Щербаков и другие. Смотрел этот спектакль всякий раз, как он шёл в репертуаре, раз двадцать четыре в этот сезон. Однажды, когда как заправский театрал спрашивал «лишний билетик», женщина предложила провести меня театр. Оказалось, она медсестра и должна дежурить во время спектакля, и ей полагаются два места в ложе рядом со сценой. И одно из них в этот вечер было моим! То был незабываемый вечер, мои кумиры были почти рядом, правая ложа расположена практически на сцене! Играли они этот спектакль, как всегда, – искромётно, купаясь в своих ролях.
Начинался спектакль со сцены, когда, стоя на спинке дивана спиной к залу, Евстигнеев и Дементьева пытаются повесить на стену ковёр. Герой Евстигнеева – старик Адамыч – был «подшофе» и еле стоял, балансируя в пространстве, а Дементьева, будучи маленького росточка, подпрыгивала, пытаясь дотянуться до того места, куда нужно было вбить гвоздь. Ещё не было произнесено ни одной фразы, а в зале начинали смеяться. А первая реплика подпрыгивающей Дементьевой зятю «Криво али ровно?» вызывала уже дружный хохот и аплодисменты. И когда Евстигнеев поворачивался лицом к залу – его встречали громкими овациями. И так весь спектакль. Невозможно забыть образ учительницы из музыкальной школы, неповторимо трогательно и смешно исполненный Евгенией Ханаевой, каждая реплика её персонажа начиналась с репризы: «Мы, старые работники культуры…» произносилась нелепо гордо, вызывала неизменный хохот в зале! А, как «значительно» звучала её «коронная» реплика: «Мы, старые работники культуры, с младых ногтей заучили, что петь, а что НЕ петь!»…
Однако самое яркое впечатление всей моей жизни было впереди. Летом 1983 года на сцене Малого театра проходили отчётные гастроли легендарного Ленинградского БДТ, во главе с Георгием Товстоноговым, на тот момент это был лучший драматический театр Европы. Событие грандиозное. Билетов не достать. Правда, на «Мещан» мне удалось купить «лишний билетик». Никогда больше в жизни не пришлось видеть на одной сцене столько великих актёров. Помню его до мелочей, а мне на тот момент было всего 18 лет. Впечатление – ошеломляющее! После спектакля я шёл домой пешком по ночной Москве, о чём я тогда размышлял? Что все мы мещане, у всех у нас «кишка тонка», что-то в этом духе… Одно знаю точно: этот спектакль – безупречный шедевр режиссёрского и актёрского мастерства. О чём я и говорил много лет спустя на вступительном коллоквиуме, когда поступал на театроведческий факультет, и был принят. Потому что мой мастер, знаменитый театральный критик Юрий Рыбаков так же, как и я, с любовью относился к творчеству Георгия Товстоногова, БДТ и к спектаклю «Мещане», у него много опубликованных работ на эту тему.
На другой спектакль – «Дядя Ваня» – было просто не попасть, это была премьера, его в Ленинграде-то показали раза три. Я, охрипший от охоты за «лишним билетиком», вернулся в кассовый зал ни с чем, в слабой надежде на остатки от брони. Желающих попасть на спектакль была целая толпа, я стоял, как солдатик, и невозможно пошевелить даже рукой. Мы все с ужасом видим, что окно администратора закрывается, театралы издают негодующие возгласы. И вдруг вся эта толпа стихийным потоком несёт меня в дверь, мимо прижавшихся к стенке пожилых, с вытянувшимися лицами, билетеров Малого театра. Старшая из них успевает схватить меня за хлястик плаща, я, ни секунды не тормозя, вытаскиваю руки из рукавов и бегу вверх на галерку, ни одной мысли о плаще не было. На третьем ярусе я посмотрел спектакль, впечатление было огромное, но не равное «Мещанам».
Уже после спектакля я поплелся вниз «выручать» плащ, выслушивал угрозы «вызвать милицию». Спасла меня ответственный работник Министерства культуры Инна Хамаза, которая отвечала за проведение гастролей. Она распорядилась отдать мне плащ и отпустить с миром. Много лет спустя я буду работать в том же министерстве, и об этом человеке услышу немало добрых слов.
Дальше была служба в армии, долгий путь к профессии режиссёра, годы учёбы, работы, одно оставалось неизменным – любовь к театру. Он изменил мою жизнь, стал её основой. Юношеская фанатичная любовь переросла в профессиональное самосознание. В двадцать лет, уже в Москве, я крестился, христианские ценности многое изменили в моём мироощущении. Было еще событие, изменившее приоритеты – в тридцать шесть лет я женился, в мою жизнь вернулось то, что я утратил в детстве – семейное счастье. Но до сих пор самое сильное чувство – это ощущение творческого вдохновения! Пишу ли я пьесу, ставлю ли спектакль как режиссёр, руковожу ли организационно-творческим процессом Государственного академического театра кукол имени С. Образцова, я счастлив – я проживаю свою жизнь в театре, в состоянии творчества.
© Андрей Лучин, 2019luchin_aa@mail.ru
Лина ТАРХОВА
Белые тюльпаны зимой
В какой-нибудь другой стране Елена Брускова стала бы национальной героиней. Но у моих сограждан нет выраженного интереса к позитивным новостям; видимо, они считают, что добро скучнее зла.
Корова лучше
«У нас корова Люська и мать Люська. Корова лучше, потому что водку не жрет». Так рассказывала маленькая девочка о своем прежнем существовании новой маме, из Детской деревни – SOS. Деревни эти создают для ребят, оставшихся без родителей. Сегодня они есть в 135 странах мира, и четыре единицы из этого числа являются заслугой Елены Сергеевны Брусковой, председателя Российского комитета Детские деревни – SOS.
На средства благотворителей, в основном зарубежных, в нашей стране построены четыре таких деревни (география: Томилино в Подмосковье, Пушкин в Ленинградской, Лаврово в Орловской и Кандалакша в Мурманской областях).
Деревня – это десяток комфортабельных двухэтажных коттеджей, в каждом из которых живут по 6 – 8 мальчиков и девочек. Живут с мамами. Не родными. Те своих детей в холод и ночь выгоняли из дома; одна мамаша в приступе белой горячки хотела выбросить сына с шестого этажа, он чудом остался жив; аналогичный папаша чуть не сжег сыну руку в пламени газовой плиты. В общем, такую жизнь устраивали биологические родители малым детям, что корова казалась душевнее.
Некоторые дети, которым повезло попасть в Детскую деревню – SOS (дальше буду называть ее просто Деревней), учились есть с тарелок, не знали, как пользоваться ложкой. Кого-то привезли в трусиках, другой одежды на них не было. Малышей нельзя было погладить по головке – мама протягивала руку, а ребенок в страхе отшатывался, ожидая удара.
Мама в Деревне, мама – SOS, это должность, так и в ее трудовой книжке записано. Как всякому работнику, закон гарантирует ей различные права – на зарплату, выходные, отпуск, бюллетень по болезни. А обязанность у нее одна, но такая, что редким людям под силу – обогреть чужих исстрадавшихся детей.
Когда мама отсутствует, ее заменяет тетя, это тоже должность. Венчает деревенскую иерархию фигура директора. В общем, понятно: Деревня – учреждение. Со своим уставом, бухгалтерией, обязательным аудитом и т. п. Но учреждение необыкновенное, наверное, единственное в своем роде, здесь вместо отделов – семьи, 11 – 12 семей на киндердорф.
Мама – SOS, принятая после тщательнейшего отбора, обученная опытными психологами (потом она учится все время работы) становится матерью, по сути. Ребята называют ее «мама» и на «ты»; ее любят и терзают так же, как это проделывают все дети со своими законными родителями.
Детей не обманывают – они носят собственные фамилии, знают, что мама не родная. Но это близкий человек, способный сделать для ребят то, на что не способна была иная мать.
«Расскажу тебе, что такое наша деревенская мама», – говорит Брускова. Она – подруга и коллега моей сестры, мы давно знакомы. Я – младше, и потому «ты». Но Елена Сергеевна для меня только «вы», хоть это ее раздражает. Нет, не могу, только «вы». В ней есть какая-то строгость, что ли… Не могу.
«Одна наша мама узнала, что у двух ее дочек, сестер, есть еще сестры, говорили, они какие-то пропащие, чуть ли не на панели собой торгуют. Решила все-таки их разыскать, ведь родные девочкам люди. Искала долго. И не зря. Оказалось, никакие они не пропащие. Одна жила в детдоме, другая училась в институте. Жизнь очень зло обошлась с этими детьми – друг друга они не знали… Младшую взяли в Деревню, к сестрам, старшая теперь приезжает к ним на выходные.
В первый ее приезд, как это делает всякая мама, собрала она студентке «торбочку». Супы пакетные положила и все такое, что легко приготовить в общежитии. Отвернулась на секунду, дверь хлопнула – и девочки уже нет. Ничего себе – ни «до свидания», ни «спасибо»! Открыла мама дверь, а студентка стоит на крылечке и рыдает. «Мне в жизни ничего не дарили…» Дети не знали, где похоронена их родная мать. И это выяснила мама, все вместе съездили на кладбище, поставили ей крестик».
Такая новая профессия появилась в России. Приставка SOS была аббревиатурой слов, указывающих на социальную, защитную функцию детской деревни. Со временем три латинские буквы оторвались от первоосновы и звучат уже самостоятельно, как призыв о помощи, как крик: «Спасите наши души!»
«Ребенок спас мне жизнь»
Модель детской деревни родилась в послевоенной Австрии, откуда ее и «вывезла» Брускова, очеркистка «Комсомольской правды». В 70-е годы ее муж, Владимир Брусков, был назначен директором Международного института Мира с местом пребывания в чарующей Вене. Брускова стала собкорром «Комсомолки» по Австрии; она, кстати, оказалась первой советской журналисткой, аккредитованной за рубежом. Женщинам партия КПСС не доверяла – слишком эмоциональны и легковерны, не сумеют разглядеть за блеском западной жизни троглодитского лица капитализма.
Супруги прожили в Австрии семь лет. Дочь Наташу пришлось оставить в Москве на бабушку. Малышей советским людям еще разрешалось брать с собой «за бугор», а подростков и отроков уже не пускали – по той же причине, по какой фактически запрещали работать за границей нашим журналисткам.
– Сейчас даже самой в это не верится, – смеется Елена Сергеевна. – Неужели же это было? И кому запрещали выезд? Студентке филфака МГУ, будущему преподавателю немецкого языка! (Наталья Брускова сейчас – профессор МГИМО – Л.Т.) Родина так нами дорожила… Боялась, что смоемся всей семьей. А нам встретиться хотелось, скучали безумно. И нервничали. Кто знает, почему дочку действительно не выпускают? Власть научила нас подозревать ее в неискренности. Как в анекдоте: «Говорим Ленин – подозреваем партия. Говорим партия – подозреваем Ленин. И так всю жизнь: говорим одно, подозреваем другое». Но наш венский друг, директор типографии, человек проницательный, успокаивал: «Вот вернетесь домой, я вашу Наташу приглашу, и ее выпустят». Так и получилось».
В Вене Брускова и услышала это имя – Герман Гмайнер. В послевоенной Австрии он был студентом-медиком. Это по официальному статусу. И гениальным педагогом по духу. С фронта Гмайнер вернулся с пятью ранениями, о войне говорил с отвращением. Но был эпизод, о котором Гмайнер вспоминал с благоговением. Какое-то время его часть стояла на советской территории. И там случилось такое, что повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Об этом Елене Сергеевне рассказывали по-разному, но сюжет был общий у всех. Гмайнер устроился поспать у русских на сеновале. В слуховое окошко влетела граната, это увидел мальчик, хозяйский сын. Он оттолкнул спящего в угол, и взрыв только попортил шинель.
Кого защитил, рискуя собой? Вражеского солдата! «Ребенок спас мне жизнь, – не раз повторял Гмайнер. – И я поклялся помогать детям».
Тысячи сирот бродили по разоренной Австрии. Кто скажет о себе, что не любит детей? Детство, святое и беспомощное – лучшее, что есть на свете. Даже сердце злодея замрет при виде кадров из эйзенштейновского «Броненосца «Потемкина»: детская коляска несется вниз по лестнице… Сочувствие к абстрактному детенышу комфортно и безопасно, и все мы любим детство – эта любовь не требует труда, ответственности, жертвы, наконец.
Гмайнер любил каждого ребенка, даже того, которого не знал. И хотел помочь всем. Он знал, что это возможно. Если каждый австриец даст по шиллингу, всего по одному шиллингу, наберется сумма, на которую можно построить дома для ребят. Это так просто – каждый даст один шиллинг. И он пошел от дома к дому…
Про Гмайнера говорили, что он сумасшедший. Сам о себе он сказал, что всю жизнь прожил с протянутой рукой. В жертву своей любви Гмайнер принес гордость (как нужно было смирить самолюбие, чтобы ходить с протянутой рукой!); карьеру (университет пришлось оставить); возможность личного счастья.
Последнее требует особого комментария. Мамы Деревни, заключая с ней контракт, фактически подписывают обет безбрачия. Если мама влюбилась, собирается замуж, работу она должна оставить, Гмайнер настаивал на таком условии. В самом деле, трудно рассчитывать на то, что найдется мужчина, который сумеет полюбить не только женщину, но и шестерых – восьмерых детей, которые называют ее мамой. Мы не смеем рисковать душевным спокойствием ребят. Мог ли сам Гмайнер себе это позволить?
Многим и многим сиротам смог он дать защиту, «душевное излечение» и возможность вернуться в общество. На Земле построено уже больше 450 деревень – SOS. В 1986 году, уже после смерти, Гмайнер был назван «человеком столетия».
То, что Елена Сергеевна слышала о Гмайнере, было необыкновенно интересно. Педагог по образованию, она всю жизнь писала о детях. И немедля собралась в Имст, где возникла и до сих пор существует первая гмайнеровская деревня.
Оказалось, это место неправдоподобной красоты. А уж что она там увидела… Счастливые дети, теплые, заботливые мамы. Двухэтажные дома деревни – SOS ничем не отличаются от соседских, где живут обычные семьи.
Гмайнер этого больше всего и хотел – чтобы жизнь сирот ничем не отличалась от жизни остальных ребят. Когда он только начал строить, многие недоумевали: «Такие виллы – для безотцовщины?» Подразумевалось: не жирно будет для сироток? Всем Гмайнер отвечал: «Люби ближнего, как самого себя». Себя он любил меньше, чем ближнего – не имея собственного жилища, снимал комнату.
В Имсте Брускова познакомилась с фрау Холубар, одной из мам детского городка. Ее семья была на той неделе дежурной. Это значило, что именно ей предстояло принять гостя. Всякого гостя, какого приведет в киндердорф профессиональное или просто обывательское любопытство. Жизнь детской деревни открыта и прозрачна. Не дежурная семья тоже может принять визитеров. Но бывает, посторонний явится некстати, и тогда хозяйка дома, на то она и хозяйка, имеет право не открыть дверь и самому президенту.
Фрау Холубар рассказывала о своей семье, как все обычные мамы. «Мои дети… Мои старшие…» Во время разговора маленький Томас вошел в комнату и забрался к маме на колени.
Елена Сергеевна была потрясена. И одновременно чувствовала себя глубоко несчастной. «Картина была такой милосердной, ясной, рациональной – и совершенно невозможной в СССР».
Невозможным оказалось даже рассказать о Гмайнере в своей газете так, как он того заслуживал. Его педагогическая модель ставит в центр ребенка как самостоятельную личность (пять принципов детской деревни – SOS: я имею право быть собой; я не одинок; моя жизнь имеет смысл; я могу распоряжаться своей жизнью самостоятельно; я могу чего-то добиться). «Я», «я»… Советская педагогика больше любила коллективистское «мы».
Почувствуйте разницу
Только в 1987 году удалось напечатать полосу о детских деревнях в «Известиях», родная «Комсомолка» на это не решилась. Брускова выполнила свой журналистский долг. Люди, чей долг – заботиться об обездоленных детях, берите проверенный десятилетиями опыт, изучайте, применяйте!
Она думала, в редакции оборвут телефоны, к ней в очередь выстроятся за подробностями. Но никто не позвонил. Никто из тех, кто профессионально занимается судьбами сирот. Да в чем здесь дело? «Наверное, – подумала я, – чтобы испытать такое же потрясение, нужно увидеть все собственными глазами».
И, воспользовавшись знакомством с президентом «Киндердорф – SOS – интернациональ» Хельмутом Кутиным, выпускником детской деревни, воспитанником самого Гмайнера, она помогла организовать поездку в Австрию нашей делегации.
«Ничего подобного мы не видели нигде!» Педагоги, чиновники вернулись в полном восторге. Но ни одна детская деревня из этих эмоций не выросла. Идея семейного дома для сирот способна разрушить систему нашего детдомовского воспитания. А куда деваться чиновникам, которые этой системой живы?
А ведь семейный дом куда лучше, человечнее детского дома. У Гмайнера – мать, братья и сестры. В детдоме рядом с ребенком казенный человек, братья и сестры разлучены. Иногда они оказываются даже в разных городах – ведь группы здесь формируются одновозрастные, так легче осуществлять педагогический процесс.
У Гмайнера – безопасное убежище, именно дом, устроенный так, как того захотели мама и дети. Здесь помогают развиться индивидуальности. В детдоме вся жизнь подчинена «режимным моментам»; на чайнике должно быть крупно написано «кипяток», на полке с хлебом и печеньем «готовая продукция». У детей нет ничего личного, зачем им это, если они составляют коллектив?
И главное, решающее отличие. В детской деревне, неслышимые, звучат слова, которые Гмайнер выписал у Иоганна Вихерна, основавшего один из первых сиротских домов в Австрии: «Мое дитя, тебе прощается все!.. Здесь нет загородок, рвов и засовов. Мы приковываем тебя только одной тяжелой цепью – и ту ты можешь разорвать, если захочешь – она называется любовью».
А как насчет любви в детдомах? Вот цифры, которые отвечают на вопрос. Ежегодно эти учреждения выпускают (часто – в никуда, в жизнь без опоры) 15 тысяч подростков. В первый же год десятая часть их, не в силах преодолеть синдром сиротства и отверженности, кончает жизнь самоубийством; треть оказывается в тюрьме, еще треть идет в криминал и проституцию.
Елена Сергеевна, правда, не очень доверяет этим цифрам: кто всерьез изучал судьбы детдомовцев?
Что до гмайнеровских деревень, то это движение опирается на солидные научные исследования. Для этого созданы академия Гмайнера, Социально-педагогический институт, издательство «Киндердорф». В десятки стран периодически уходят подробные анкеты; на основе полученных материалов написаны целые монографии, где в подробностях рассмотрена жизнь и воспитанников, и выпускников. Данные эти тем более убедительны, что приводятся и отдаленные результаты.
Гмайнер мог бы испытывать чувство глубокого удовлетворения. Вот, например, вопрос о том, какое образование удалось дать детям. Результат одного из обследований: 86% успешно закончили школу. Четыре пятых из поступивших в профессиональную школу получили диплом и специальность. Довольны ли молодые люди избранной профессией? «Очень доволен» – ответила половина опрошенных; «доволен до известной степени» – 46%; «совсем не доволен» – 1%.
А удается этим людям создать нормальные семьи, полюбить своих детей? Вопрос не так странен, как может показаться. Из выпускниц наших детдомов получаются чаще всего плохие матери. Казалось бы, должно быть наоборот: тот, кто лишен в детстве родительского тепла – как должен он стремиться обогреть свое собственное дитя… Ничего подобного!
Природа наделяет детское сердце большим запасом любви. Малышу обязательно нужно называть кого-то мамой, в раннем детстве – почти безразлично, кого. Но запас этот не бесконечен. Маленький человек, говорят психологи, в состоянии отдать свою любовь не больше, чем четырем «объектам». А в жизни детдомовца воспитательниц, нянечек бывают десятки. Одну мамой назовет, другую; пятую встретит с озлоблением, а десятую пошлет куда подальше. Утрата надежды – разве такое можно простить миру?
«Мы взяли в одну нашу деревню ребенка, – вспоминает Брускова историю, которая тоже об этом, хоть и никак не связана с детским домом. – Он был в тяжелейшем состоянии – не разговаривал, не играл, не шел ни на какой контакт. В «прежней» жизни его не били, не истязали, а «всего лишь» вернули из приемной семьи. Взяли к себе, сказали: «Ты теперь наш сын», а через месяц отдали. Взяли и отдали. Не сумели полюбить. Это травма ужасная, и много времени прошло, прежде чем мальчик в первый раз улыбнулся.
Душа ребенка, который никому не нужен – это мы уже возвращаемся к разговору о том, какие матери получаются из воспитанниц детдомов, – выгорает. И на своем малыше ожесточенная женщина вымещает всю обиду на жизнь за свое неслучившееся счастье.
А что с личной жизнью у девочек и мальчиков из гмайнеровских деревень? Смотрим статистику: в брак не вступали всего 12% выпускников; разведенных – 1%. Да ведь «домашние» дети, вырастая, разводятся в 30—40 раз чаще!
И самая, наверное, «говорящая» цифра: дети 96% опрошенных (то есть дети сирот, выпускников киндердорфа) живут с родителями. Не в бегах, не с опекунами, а с родными папами и мамами. И эти результаты лучше тех, что могли быть получены даже в нормальных, благополучных семьях, не говоря уже о семьях детдомовцев.
«Если я отступлюсь, дети пропали»
Преимущества деревень – SOS казались очевидными. Но кто должен взяться за это дело – пересадку австрийской модели на русскую землю? Среди тех, кто ездил в Австрию, была Любовь Петровна Кезина, в то время руководитель департамента образования правительства Москвы. Как-то, обсуждая с Брусковой ситуацию: дело надо делать, но некому, Любовь Петровна сказала:
– Придется вам браться за это самой. Я поддержу.
Брускова поняла, что другого выхода, действительно, нет. Решилась. И в каком возрасте… «Земную жизнь пройдя до половины» и даже далеко за нее, за половину, перешагнув.
Герман Гмайнер возглавил мировую реформу в воспитании детей, лишившихся семьи. Брускова начала такую реформу в России.
То, что удалось сделать (да, конечно, не ей одной, и Кезина, пока была жива и у власти, поддерживала, и помощники появились) – это, если вдуматься, сенсация. Четыре Деревни, сотни детей, нашедших маму. Но кто об этом знает? На четырех деревнях дело остановилось. Брускова написала сценарий двенадцатисерийного документального фильма о жизни детских деревень. Я его видела. Сколько в «деревенских» детях чистоты 6и здоровья, и спокойного достоинства! Братья и сестры рассказывают о самом младшем: «Наш Коленька в семь месяцев головку даже не умел держать! Ужас!» А сейчас сидит такой крепыш и большую ложку держит в руках крепко-крепко. Дети облепили улыбающуюся маму, во дворе виден фонтанчик. Захотели фонтан, и устроили его, сами.
Эта многосерийная лента – об осуществимости мечты. Но российский телеканал показал фильм один раз – и довольно. Не рейтинговая тема. Кристина Орбакайте публично подралась с мужем-бизнесменом – это пиплу нужно, и сюжет крутили по всем программам. А картинки из жизни сирот, обретших счастье, говорят, народ не «заводят».
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+2
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе