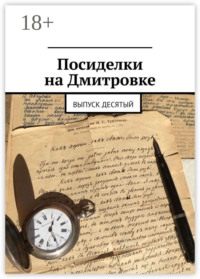Читать книгу: «Посиделки на Дмитровке. Выпуск десятый», страница 4
Ким Филби («Сынок»), Дональд Маклейн («Сирота») и Гай Бёрджесс («Девочка») любили называть себя «тремя мушкетерами» в знак того, что под руководством «товарища из Центра» они были тремя членами-основателями кембриджской aгeнтурной сети. Процесс превращения трех отпрысков привилегированных английских семейств в тайных агентов Москвы – и каких агентов! – до сих пор вызывает удивление, хотя с тех пор минуло около восьмидесяти лет. Каждый из них, как отмечал «Швед», «по складу ума и взглядам очень напоминал молодых русских декабристов прошлого века, они привнесли в советскую разведку пыл новообращенных и веру в идеалы, которую их руководители давно утратили». Все трое восхищались «Большим Биллом»9и, видя в нем некое отцовское воплощение качеств, которых им так не хватало, старались идеально выполнить свои обязанности, чтобы внедриться в британскую разведку. «У меня было ощущение, что это истинный начальник из Москвы, – писал в своих мемуарах легендарный Филби, – и у меня было к нему отношение, как к герою».
То, что сделано этой троицей, хорошо известно по книгам и публикациям, которые выходили почти на всех европейских языках. /К слову сказать, в нелегальную группу Орлова входил радист Фишер, ставший известным под именем Абеля/. Из резервуаров развединформации министерства иностранных дел и Интеллидженс сервис в течение долгих лет шел мощный поток документации, которую обильно поставляли ученики «Шведа». О ценности одного из них, кстати говоря, не самого главного /Маклейна/, говорит тот факт, что только за период 1935—1940 гг. он добыл столько секретных материалов, что они заняли 45 коробок, каждая из которых содержала 300 страниц документации. Позже Дональд Маклейн выдал секреты британского правительства и англо-американские решения относительно ядерной политики, что ускорило получение Советским Союзом атомного оружия и помогло определить стратегию в ходе «холодной войны».
Даже когда «мушкетеры» узнали о бегстве «Большого Билла» за океан, никто из них не испытал ужаса разоблачения, потому что они свято верили своему «крестному отцу». Когда в 1969 году вышла книга Кима Филби «Моя тайная война», он ни словом не обмолвился о том, кто создавал их группу. Да и Орлов до самой смерти хранил в секрете свое пребывание в Англии, не назвав ни одного агента внедрения, которым руководил.
Испанское золото плывет в Одессу
20 июля 1936 года Политбюро в Кремле одобрило кандидатуру Орлова в качестве руководителя аппарата НКВД для отправки в Испанию. В Испании шла гражданская война, и требовался человек, обладающий знанием партизанской войны и отменным опытом контрразведки в зарубежных операциях. Из высших офицеров-чекистов только он один отвечал этим требованиям.
Вопреки установившимся канонам, Орлов был представлен испанскому премьер-министру, военному министру и начальнику штаба армии как бригадный генерал – «атташе по политическим вопросам». На самом деле ему были предоставлены неограниченные полномочия в руководстве контрразведкой и внутренней безопасностью. Как он впоследствии говорил на допросах в ФБР и ЦРУ, все это «делало его самым главным советским официальным лицом, хотя для внешнего мира главным русским официальным лицом считался посол».
Осенью 1936 года республиканское правительство оказалось на грани краха. Войска Франко все теснее сжимали кольцо окружения вокруг Мадрида, государственные департаменты и зарубежные посольства спешно грузили архивы. Паника среди населения, казалось, достигла апогея. В этой связи любопытно свидетельство, которое приводит американский журналист Луис Фишер. Единственным человеком в отделе «Гейлорд», где находились департаменты НКВД, оказался… генерал Орлов. Он сказал репортеру: «Уезжайте как можно скорее. Фронта нет. Мадрид сам является фронтом».
Но шестнадцать советских грузовых судов, которые выгрузили в порту Картахена сотни танков и самолетов, спасли испанскую столицу. Вскоре прибыли бойцы интернациональной бригады, чтобы помочь республиканским силам. Они проходили подготовку и сражались под командованием бойцов Красной Армии. Всё это необычайно повысило авторитет СССР в Испании и давало возможность Сталину диктовать свои условия.
Только что сменивший Ягоду на посту шефа НКВД Ежов поручил Орлову организовать отправку (на хранение) в Советский Союз испанского золота. Это был четвертый по величине золотой запас в мире. Сталин ухватился за представившийся случай заполучить полмиллиарда долларов в счет стоимости оружия и услуг военных советников. В сверхсекретной шифровке, адресованной резиденту, говорилось, что «если испанцы потребуют расписку в получении груза, откажитесь это делать. Скажите, что формальная расписка будет выдана в Москве Государственным банком». Внизу стояла подпись: «Иван Васильевич». Так Сталин подписывал самые секретные приказы.
В вывозке золотого запаса участвовал директор казначейства Мендес-Аспе, третий человек в Испании, после премьера и министра финансов, кто знал об этой операции. Она проходила в обстановке чрезвычайной секретности. Орлов принял решение использовать для этого недавно прибывших красноармейцев-танкистов. Золото хранилось в пещере вблизи военно-морской базы в Картахене, куда уже пришвартовались четыре советских грузовых судна. Из-за постоянных воздушных налетов перевозка драгоценного металла становилась рискованной, поэтому решили действовать по ночам. Двадцати русским водителям-танкистам пришлось переодеться в испанскую военную форму и по горным кручам, рискуя свалиться вниз, с выключенными фарами, почти наощупь двигаться к «Пещере Алладина», полной сокровищ. Но то, что открылось глазам ребят, оправдывало и риск, и опасности… «При тусклом свете я увидел, что пещера забита тысячами аккуратных деревянных ящиков одинакового размера и тысячами мешков, уложенных друг на друга, – вспоминал Орлов. – В ящиках находилось золото, а в мешках были серебряные монеты. Шестьдесят моряков-подводников ждали нас там наготове. Это было сокровище, накопленное испанской нацией за века!»
Если бы испанские подводники поинтересовались, по какому маршруту отправится накопленное за века «злато-серебро», они бы без труда разделались с русскими водителями. Но моряки были слишком утомлены перетаскиванием тяжестей – каждый ящик весил 145 фунтов. К тому же предусмотрительный резидент позаботился, чтобы их регулярно угощали вином, снабдили картами и проигрывателем с набором модных танго и фокстротов. Орлов вспоминал, что, «несмотря на то, что рядом с ними были миллиарды серебряных монет, подводники скромно играли в карты на арахисовые орешки». Но самое удивительное открытие поджидало его к исходу третьей ночи: при окончательном подсчете выяснилось, что «золотых» ящиков оказалось ровно на сто больше, чем числилось в бумагах казначейства.
Когда погрузка на пароходы закончилась, Мендес-Аспе потребовал у Орлова официальную расписку. «Я знал, что это случится, и боялся этого момента, – писал он, – но у меня был личный приказ Сталина, и я обязан был его выполнить». Директор казны был в глубоком шоке, когда Орлов, «испытывая острое чувство стыда», заявил, что это, мол, все пустая формальность и расписку может выдать только Государственный банк в Москве. Чтобы как-то успокоить главного казначея, он предложил ему направить на каждое судно по чиновнику министерства финансов в качестве наблюдателей.
Семь или восемь дней Орлов пребывал в страхе и неизвестности, не имея никаких сведений о том, удалось ли судам пройти неспокойное Средиземное море. И только когда получил известие, что пароходы благополучно разгружаются в Одессе, он почувствовал, что может спать спокойно.
Побег
«Сражаясь с чудовищами, сам берегись сделаться чудовищем, – предупреждал когда-то мудрец. – Если ты долго будешь смотреть в пропасть, то она неизбежно отразится в тебе».
Что тут скрывать: «пропасть» отразилась – и еще как!.. Степень доверия к Орлову в Испании была столь велика, ему предоставили такую самостоятельность в действиях, что он, случалось, просто не докладывал о них в Центр и не посвящал в свои планы правящую элиту. Он по-прежнему пользовался услугами Кима Филби, который подвизался у Франко, будучи корреспондентом «Таймс». Он организовал нелегальную разведывательную школу под условным названием «Строительство», лучшие выпускники которой оседали затем в странах Европы. Их настоящие имена знали лишь единицы, а их последующие дела становились известными всему миру. По всей Испании он проводил шпионаж, контрразведку и партизанские операции10. В его ближайшем окружении находился небезызвестный Рамон Меркадер, будущий убийца Троцкого.
«Как показывают исторические документы, – пишут О. Царев и Д. Костелло, – Орлов был значительно глубже вовлечен в преследование Сталиным Троцкого и его французских и испанских последователей, чем он когда-либо признавался в своих показаниях ФБР или сенату». Достаточно сказать, что непосредственным организатором убийства «личного врага Сталина» был никто иной, как Леонид Эйтингтон /Котов/, первый заместитель «Шведа» в Испании. На совести резидента лежит заведомая компрометация Андреу Нина, руководителя мощной группировки марксистов-троцкистов в Барселоне, а затем и последующая его ликвидация вместе с сотнями его приверженцев. Премьер-министр Негрин жаловался по этому поводу в правительстве, что советские представители ведут себя так, словно Барселона является частью СССР.
Авторы книги подчеркивают, что Орлов выполнял порученные ему задания со «зловещим хладнокровием». «Подобно многим советским офицерам разведки, чьи моральные нормы формировались в бурное время революции и гражданской войны, Орлов был, по-видимому, готов уничтожить политических противников во имя того, что он считал высочайшими идеалами коммунизма». Хотя в свое оправдание мог бы сказать, что, ликвидируя оппозиционеров, он выполнял секретные приказы Центра.
Из этого же Центра в июле 1938 года «Швед» получил шифр-телеграмму за №1743, которая предписывала ему срочно прибыть в Париж, а затем на посольской машине добраться до бельгийского порта Антверпен, где на борту советского судна «Свирь» его ожидает некое лицо. «Длинный и мудреный» смысл телеграммы посеял подозрения в том, что Ежов, заманивая его в «плавучий капкан», хочет разделаться с ним. И не верить этому не было никаких оснований. На Лубянке шла чистка кадров – настоящая кровавая баня, сопровождавшаяся пытками и расстрелами, и Орлов понял, что пришла его очередь. Он сам видел, как тают вокруг него ряды верных соратников, ставших жертвами «летучих эскадронов смерти». Весьма знаменательная фраза, которую он написал спустя годы, скрываясь в Америке: «Высокопоставленные сотрудники и следователи НКВД уподобились гончим псам, слишком увлекшимся преследованием своей дичи, чтобы обратить внимание на самого охотника»… «Гончий пес» Орлов слишком поздно осознал преступную роль «охотника» Сталина и превратился из резидента в добровольного узника страха, много лет хранившего тайны Лубянки.
«Швед» решает с семьей бежать в Америку. Этот побег мог бы послужить сюжетом для острой приключенческой повести. Как матерый волк, обложенный красными флажками, он с изуверским расчетом обходит все западни и ловушки, расставленные на его пути, и с крупной суммой валюты появляется в Канаде, где генералу Орлову оказывают дружеский прием, а затем и в Соединенных Штатах. В Москву, в НКВД, летит письмо, адресованное лично Ежову. Его завуалированный смысл можно передать так – если вы оставите в покое меня и моих близких, я буду молчать. «Это был договор, продуманный с дьявольской изобретательностью, – пишут авторы книги, – и он не оставлял советскому диктатору и его приспешникам никакого иного выбора в сложившихся обстоятельствах, кроме как согласиться на условия Орлова и поверить, что он выполнит свою часть сделки».
Жизнь под прицелом
Как опытный разведчик, Орлов понимал, что по истечении какого-то времени его виза на жительство в США будет аннулирована и придется просить постоянного убежища, чтобы не попасть в списки депортированных. Но это может привлечь к нему внимание властей, а также недреманного уха Лубянки и Федерального бюро расследования, которое, конечно, не упустит случая допросить советского шпиона. Умелое лавирование между Сциллой и Харибдой – НКВД и ФБР – составляло суть жизни орловской семьи в вынужденной эмиграции. Требовалось получить статус постоянного жителя без указания своего адреса. И с помощью бобруйских родственников, обосновавшихся в США и имеющих покровителей в высоких инстанциях, Орлов заимел такой документ, в котором он значился как Александр Л. Берг.
Началась жизнь настоящего подпольщика. Не жизнь, а сплошные переезды с места на место: Филадельфия – Сан-Франциско – Лос-Анджелес – Бостон – Вашингтон – Кливленд. Бесконечная череда квартир и гостиниц. Никакого общения с родственниками и соседями. Смерть любимой дочери. И омерзительное состояние, будто за тобой всё время следят, страх за каждое сказанное слово, за неверно брошенный взгляд, вздрагивание от шорохов за стеной, от скрипа открываемых дверей. Казалось, что во всей огромной стране негде скрыться, спрятаться, вернуть душе утраченный покой. И постоянное, непрекращающееся ожидание неминуемого. Он жил как бы под прицелом.
Конечно, в любой момент Берг-Орлов мог бы предложить свои услуги ЦРУ и ФБР, но это противоречило бы его характеру и убеждениям. Он по-прежнему оставался верным ленинцем и сохранял лояльность по отношению к своим секретным агентам, числом, наверное, более шестидесяти, которых лично вербовал, пестовал и которыми, несомненно, гордился. Ему претила сама мысль раскрыть «тайну за семью лубянскими печатями», как это сделал другой советский экс-резидент Кривицкий, опубликовав в Америке книгу «Я был агентом Сталина», за что и поплатился.
Но деньги кончались, семья уже давно питалась одними кукурузными хлопьями, найти какие-то иные источники дохода было тщетно, и Орлов после долгих лет молчания решает выйти из укрытия. В 1953 году сразу после смерти «вождя», он публикует книгу «Тайная история преступлений Сталина», изображая себя скорее, как жертву, а не соучастника трагедии 1937 года. И, конечно же, без разглашения известных ему агентурных связей.
Эффект от книги был ошеломляющий. Нам, разумеется, не известна реакция высших кругов КГБ, но то, что шеф ФБР Эдгар Гувер рвал и метал молнии, узнав, что у него под носом в течение многих лет проживал видный сталинский шпион, это точно. Реакция Гувера была «смесью недоверия, ужаса и гнева», потому что его «конторе», в сущности, утерли нос. Главный сыщик Америки приказал провести полное расследование по делу Орлова, установить, кто он на самом деле и какими располагает секретами. Основная опасность для него исходила сейчас не от КГБ, а от ФБР.
Супругов Орловых подвергли безжалостным допросам. Следователи Гувера, сменяя друг друга, с солдафонской тупостью шли напролом, желая с ходу получить ответы на тысячи вопросов. Но они не знали, что представлял собой их «клиент», с какой стороны подойти к этому вёрткому на слово «отшельнику», молчавшему долгие годы. В истории ФБР это был самый значительный советский функционер разведки, которого они пытались когда-либо расколоть. Ссылаясь на свою неосведомленность и забывчивость, Орлов почти два года водил за нос подручных Гувера, не выдав ни одной крупной советской агентуры. А если и приходилось открывать какие-то «тайны», то они касались дел давно минувших.
«Отказ властей завершить, обнародовать хотя бы один протокол допроса Орлова, – свидетельствует Джон Костелло, – можно объяснить провалом в методах работы ФБР».
«Коммунист» приводит к коммунисту
Как мы помним, первый контакт КГБ с Орловым состоялся в ноябре 1969 года и, к огорчению Лубянки, не принес ожидаемых результатов. Сотрудник внешней контрразведки Михаил Александрович Феоктистов, который представился Орлову как представитель советской делегации ООН, не учел агрессивного нрава его жены и теперь снова готовился к визиту в Мичиган. Был август 1971 года, со дня первой встречи кануло почти два года.
«В одной из библиотек я обнаружил советский журнал „Коммунист“ №11 за 1969 год, – вспоминал Феоктистов. – Это был тот самый журнал, который я видел в квартире Орлова, потому что на его обложке было то же самое чернильное пятно». Теперь оставалось установить новое место жительства супругов через центральную библиотеку, где должны были хранить адреса абонентов. Самое удивительное, что Орловы значились там под своей собственной фамилией, проживали они на Клифтон-роуд на окраине Кливленда.
«Дверь открыла г-жа Орлова, но она меня не узнала, даже когда я был представлен», – сообщил Феоктистов одному из авторов книги. – Правда, на сей раз она не кричала и не размахивала пистолетом, но с прежним усердием обыскала московского гостя. Александр Михайлович встретил его с широкой улыбкой: «У нас что, везде есть свои люди?»
В общей сложности агент провел у Орловых около пяти часов. О содержании разговора он составил отчет в КГБ на семнадцати страницах – это был последний материал в девятитомном досье «Шведа», подводящий итог его деятельности.
Не вдаваясь в подробности, Орлов рассказал о главных операциях, в которых участвовал, назвал Филби /к этому времени он был уже раскрыт и жил в Москве/ и других кембриджских агентов, которых он завербовал. Свой побег из Барселоны в 1938 году объяснил тем, что был в корне не согласен с методами, которые практиковал Ежов и его клика; вспомнил, как посылал в Москву протесты по поводу действий «летучих отрядов» НКВД в Испании, которые творили самосуд, и это была одна из причин, почему «железный нарком» решил разделаться с ним… Вспомнил и о Сталине. Когда тот стал верховным правителем страны, он, бывало, приглашал Орлова в свой кремлевский кабинет, советуясь с ним, как с профессионалом, о деталях той или иной разведоперации. Как бы вскользь заметил, что именно Сталин «повинен» в том, что он носит нынешнюю фамилию. По его словам, «вождь» якобы сказал перед его отправкой в Испанию, что необходимо сменить старый псевдоним «Никольский» на «Александр Михайлович Орлов».
Феоктистов пишет в отчете что старый «нелегал» несколько раз возвращался к тому, что ни ФБР, ни ЦРУ, ни комитет по внутренней безопасности американского сената не получили от него никаких сведений оперативного характера, хотя при этом Орлов подчеркивал, что готов и дальше сотрудничать с ними. Он ограничивал свою информацию чисто историческими рамками, соединяя факты с вводящим в заблуждение вымыслом, и следователи нередко попадались на этот крючок…
Александр Михайлович Орлов умер 25 марта 1973 года от сердечного приступа на семьдесят восьмом году жизни. Его личные документы, а также неоконченная рукопись воспоминаний, над которыми он работал, были опечатаны федеральным судом и отправлены на хранение в архивы с указанием не предавать их гласности несколько десятилетий.
Хотя Александр Михайлович Орлов и утверждал, что водил за нос американских следователей и сенаторов, многие из них догадывались, сколь подлинна его персона. Один из высших чинов ЦРУ назвал его «единственным в своем роде, самым разносторонним, мощным и результативным офицером за 73 года существования советской разведывательной службы».
А что скажет наша ФСБ?
Публикацию подготовил
Олег Семенов11
© Олег Ларин, 2019
Тамара АЛЕКСАНДРОВА
Из биографической книги «Тэффи: другой такой не найдете»
над которой работает автор

Надежда Александровна Луховицкая – Тэффи (фото предоставлено автором материала)
«Я родилась в Петербурге…»
«Я родилась в Петербурге весной, а, как известно, наша петербургская весна весьма переменчива: то сияет солнце, то идет дождь. Поэтому и у меня, как на фронтоне древнего греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее», – говорила Надежда Александровна о себе Владимиру Верещагину, своему доброму приятелю, племяннику известного русского художника. А когда случилась та весна? В 1872 году, в 1875-м или в 1876-м?
Разночтения и в энциклопедических изданиях, и в предисловиях к многочисленным сборникам Тэффи, не говоря уже о лихих статьях «знатоков» в Интернете. Чего только не начитаешься!
Встречаются и разные варианты места рождения. По одним сведениям – Петербург. По другим – Волынская губерния.
Такая неопределенность (будто речь о человеке, жившем до новой эры) во многом объясняется тем, что 1919 году Надежда Александровна покинула Родину, а эмиграция расценивалась как предательство. Книги не издавалась и не переиздавалась, литературоведы не занимались ее творчеством. Запрет на интерес?
В Большой Советской Энциклопедии едва ли не самая популярная писательница России не сразу заняла полагающееся ей место в словнике. В первом издании есть «тэфф» – однолетний знак, дальше – «тюбинг». Во втором – тоже не найти Тэффи. Она появится в третьем, в томе 26, подписанном в печать в 1976 году. Дата рождения здесь близка к истине, в отличие от статьи с идеологическими передержками.
Надо заметить, что и сама Надежда Александровна вовсе не заботилась о точности биографических дат. «Я годы различаю не по номерам (год номер тысяча девятьсот такой-то), а по событиям».
В коллекции известного собирателя автографов Платона Львовича Вакселя, хранящейся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки, есть анкета Н.А., вернее, основные автобиографические сведения, написанные в форме анкеты ее рукой 18 февраля 1906 года.
«Имя отчество фамилия – Надежда Александровна Бучинская. Рожденная Лохвицкая.
Псевдоним – Тэффи
Число Месяц Год Место рождения – 26 апреля 1875. С-Петербург
Начало литературной деятельности – в журнале «Север» в 1901 году
Главные станции на жизненном пути – Окончила Литейную гимназию. Вышла замуж 17 лет». (На самом деле почти на три года позже – Т.А.)
Уменьшив свой возраст, Тэффи соответственно уменьшает и время прибытия на «главные станции».
Такую мистификацию вряд ли можно объяснить лишь женским кокетством, желанием и выглядеть, и считаться моложе. Надежда Александровна поздно пришла в литературу – почти в тридцать лет. Сестре Марии, Мирре Лохвицкой, было 27 лет, когда вышел первый сборник ее стихотворений, вызвавший очень разные отклики – от восторгов до неприятия. Она решила для себя: «… если я к тридцати годам не оправдаю надежд, возлагаемых на меня в мою счастливую пору, – то лишь тогда сложу оружие и признаю себя ничтожеством». На следующий год она получила Пушкинскую премию Императорской Академию наук, самую престижную литературную награду в дореволюционной России.
Завоевывать признание вообще нелегко, если, конечно, первый выход «на люди» не принесет бешеного успеха, а женщине, да еще далеко не юной, куда труднее, чем мужчине. На групповых фотографиях писателей того времени редко мелькнет женский лик, кружевной воротничок. К женщинам, берущимся за перо, в литературных кругах относились с большим скептицизмом, так что им приходилось преодолевать и мужской шовинизм, и сексизм.
На сей счет у Власа Дорошевича есть рассказ «Писательница (Из воспоминаний редактора)».
Редактору доложили, что его желает видеть госпожа Маурина. Он разволновался. («Ах, черт возьми, сама Маурина!») Сменил визитку, поправил перед зеркалом галстук, прическу и «вылетел» в приемную.
Перед ним стояла пожилая женщина, «низенькая, толстая, бедно одетая». Он смутился от неожиданности, но тотчас решил, что это, должно быть, матушка Анны Николаевны.
А женщина заявила, что она и есть сама Анна Николаевна Маурина, автор помещенных в журнале рассказов, а та молоденькая брюнетка, которую он знает, никогда ею не была. И, прося прощения, призналась в вынужденном обмане.
Она давно писала рассказы, но ничего не могла опубликовать. Подолгу ждала ответа из редакций, а получая рассказ назад с пометкой «нет», обнаруживала, что его не читали. И тогда она наняла одну девушку, «гувернантку без места, очень красивую», чтобы та носила ее произведения по редакциям, выдавая себя за автора, то есть за Маурину. И все пошло замечательно, гонорар делили пополам. Но девушка вдруг поступила в кафешантан – там денег больше и веселее, и настоящая Анна Николаевна вот… сама отправилась в редакцию, где ее охотно печатали и хвалили.
Правда, она не обольщается и готова к тому, что все будет, как до обмана. Редактор страстно заверил ее, что такого не произойдет, и пусть она позвонит через три дня. Писательница позвонила через неделю, услышала извинения, ссылки на занятость и обещания: вот сейчас, немедленно… Она еще раз позвонила, и еще. Бедный редактор, как он занят – то «осложнения на Дальнем Востоке», то «недород во внутренних губерниях»!
А через какое-то время он увидел в одном новом журнале подпись под рассказом: «Маурина». Вечером встретился с коллегой.
«– Кстати, а у вас Маурина пишет?
– А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенок?.. И премило пишет, премило. Конечно, немножечко по-дамски. <…> Приходится переделывать, перерабатывать. Но для такого талантливого ребенка прямо не жаль… Прелестная такая. Детское личико. Чудная блондинка.
– Ах, она блондинка?
– Блондинка. А что?»
Судя по содержанию, приведенная выше анкета, заполненная Н.А. в которой назван псевдоним, предназначалась для редакции какого-нибудь журнала или газеты, так что ложь – во имя успеха и справедливости.
Творческому человеку, замечено, почему-то нелегко дается точность или голая правда, не окрашенная собственным отношением к фактам, а в неожиданно вспыхнувшей фантазии или невинной лжи появляются интересные нюансы, в ней всегда присутствует игра. А Надежда Александровна любила повторять: «Надо жить играя. Игра скрашивает любые невзгоды».
Еще больше «игрового» начала в эмигрантских документах.
В удостоверениях личности – Prefecture le Polic Certificat ’d Identite – 1928-го и 1935 года, в графе «дата рождения» – стоит 1885 г. Ее отца в это время уже не было в живых. Сведения, несомненно, со слов самой Тэффи, помолодевшей на 13 лет, как и девичья фамилия матери – де Гойер. Французская приставка «де» показалась писательнице-эмигрантке, уместней, чем подлинная, немецкая «фон» – фон Гойер: у французов жива была память о первой мировой войне, о кровопролитной битве с немцами у Вердена, сражении на Сомме… «Французы немцев терпеть не могут. Органически», – написала Тэффи в очерке «Германия», вошедшем в коллективный труд сатириконцев «Теплая компания (Те, с кем мы воюем»), изданный в 1915 году.
Миф Надежды Александровны о французских корнях был подхвачен литературоведами. Хотя нетрудно установить по опубликованным письмам, воспоминаниям, что Варвара Александровна Лохвицкая происходила из рода фон Гойеров, о ней, случается, и сегодня пишут как об обрусевшей француженке. И даже некоторые черты Тэффи объясняют этим фактом: мать передала девочке «французскую игривость и непосредственность».
Сопоставление разных событий и дат убеждало, что Наденька Лохвицкая встретила свою первую весну все-таки в 1872 году. Но в какой из весенних дней появилась на свет «самая остроумная женщина своего времени»? Как найти метрическое свидетельство, метрическую книгу с записью о рождении, крещении?
Сестру Марию, которая родилась в Петербурге в 1869 году, крестили в Сергиевском всей Артиллерии Соборе – ее биограф Т. Л. Александрова, в книге «Истаять обреченная в полете» ссылается на сохранившуюся копию метрического свидетельства.
Нарядный белоснежный храм – большой купол, двухъярусная колокольня, портик с колоннами – был украшением Литейной части города. Он стоял на углу Литейного проспекта и Сергиевской улицы, нынешней Чайковского. (В тридцатые годы снесен, место «убила» серая казенная громада, одно из зданий ОГПУ-НКВД, унаследованное ГУВД Санкт-Петербурга). Когда родилась Мария, Лохвицкие жили неподалеку – в доме 3 по Сергиевской. Здесь же проживают, судя по адресной книге, и в 1872 году. Значит, Надю должны были крестить в Сергиевском соборе.
Соборная метрическая книга значится в путеводителе Центрального государственного исторического архива СПб. К сожалению, мне ее не выдали для просмотра – из-за ветхости, так поняла. Но здесь же, в архиве, в фонде Литейной женской гимназии, где училась Надежда, нашлась «Именная книга ученицам (так в документе – Т.А), поступившим с 1882 года» с записью: «Лохвицкая Надежда, дочь действительного статского советника. Поступила 11 сентября 1885 г. Родилась 1872 г. апреля 26. То есть 8 мая по новому стилю – в 19 веке, в отличие от 20-го, разница между датами Юлианского и Григорианского календаря составляла 12 дней, а не тринадцать. Надежда Александровна, видимо, не учла этой малости и отмечала свой день рождения 9 мая.
Нельзя не сказать, что ЦГИА СПб в 2014 году, объявленном Годом литературы, сделал подарок исследователям творчества Тэффи и всем, кто интересуется семьей Лохвицких, – выставку ценных документов, среди которых страницы метрических книг с записями о рождении и крещении детей. Документы выявлены архивистом Андреем Румянцевым.
Надежду Лохвицкую крестили в Сергиевском всей артиллерии соборе 11 мая. Родители: действительный статский советник Александр Владимирович Лохвицкий и законная жена его Варвара Александровна, оба православного исповедания. Восприемники: Генерального штаба полковник Владимир Александрович Гойер и жена статского советника Елизавета Васильевна Бестужева-Рюмина.
В. А. Гойер – брат матери. Елизавета Васильевна – близкий семье человек: два с половиной года назад она стала восприемницей Марии. Ее супруг К. Н. Бестужев-Рюмин, будущий основатель Высших женских курсов (Бестужевских) – университетский друг Лохвицкого.
Первый дом в жизни Тэффи сохранил свой номер – 3, только вот Сергиевская с 1923 года именуется улицей Чайковского. Ну и дом, построенный в конце 18 века и имевший два этажа, изменился. В начале двадцатого столетия его соединили со служебными постройками, образовавшийся треугольник надстроили до пяти этажей, на самом остром углу возвели башенку. Фасады получившегося «утюга» выходят на три улицы: Чайковского, Оружейника Федорова и в Соляной переулок, и занимает это здание Высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной.
А когда тут жили Лохвицкие, дом был трехэтажным, доходным, не бедным, надо заметить. Да и место прекрасное: рядом Фонтанка, на углу набережной и Сергиевской – Императорское училище правоведения, монументальное классическое здание, придающее значительность округе. На другом берегу реки – Летний сад… Наверняка Надя гуляла бы здесь с няней, но, когда ей исполнилось всего два года, семья переехала в Москву.
Начислим
+2
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе