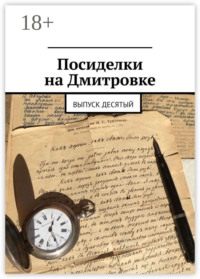Читать книгу: «Посиделки на Дмитровке. Выпуск десятый», страница 5
В ее воспоминаниях о детстве нет ни Москвы златоглавой, ни могучего древнего Кремля, ни площадей, отданных бурлящим, кипящим рынкам со страшными осетрами, куропатками, грибами, морошкой, с баранками, нарядными пряниками… Есть ощущение уюта большого города, хранящего патриархальный лад. В отличие от Петербурга с регулярными улицами, высокими домами с пышными фасадами и мрачными дворами-колодцами, хаотичная Москва тонула в буйстве зелени – сады, дворики с деревьями выше домов, палисадники, по принципу кто во что горазд, бульвары. Какой гимн пропела она «милому» Новинскому бульвару!
«И как все чудесно было на этом бульваре. Всегда почему-то ранняя весна. Булькают подтаявшие канавки, точно льют воду из узкого флакончика, и вода пахнет так пьяно, что хочется смеяться и топать ногами, и мокрый песок блестит кристалликами, как мелкий сахар, так что хочется взять его потихоньку в рот и пожевать, и мои вязаные рукавички напитались воздухом».
Жизнь под благовест
Мало сказать, что дом Лохвицких стоял на Новинском бульваре, в приходе церкви Рождества Христова в Кудрине, он был в ближайшем соседстве с храмом. Жизнь под благовест. Раздастся первый удар колокола-благовестника, истает звук – прозвучит второй удар, после третьего пойдут, пойдут, пойдут мерные удары, сольются в знакомый звон, извещающий о начале богослужения. В великий пост благовест тише, чем в обычные дни.
В рассказах Тэффи, которые без сомнения можно отнести к автобиографическим, не забывая, конечно, что писатель волен преобразовывать факты, менять имена, немало строк о глубоких эмоциональных переживаниях героини (Нади – Кати – Лизы – девочки по прозвищу Кишмиш), связанных с церковью, богом. Близость храма лишь обостряла их, а причиной было воспитание.
Учили, что каждое дело надо начинать молитвой.
(«-А разбойники, – спросила Кишмиш, – когда идут разбойничать, тоже должны молиться?»)
Регламент всей жизни определялся церковью: праздники, посты… Великий пост перед Великим Праздником…
«Гудит далеким глухим гулом церковный колокол. Ровные удары сливаются в сплошной тяжкий стон.
Через дверь, открытую в мутную предутренней мглой комнату, видно, как, под тихие, осторожные шорохи, движется неясная фигура. <…> Все стихло. Это няня ушла в церковь, к утрене.
Она говеет.
Вот тут делается страшно.
Девочка свертывается комочком в своей постели, чуть дышит. И все слушает и смотрит, слушает и смотрит.
Гул становится зловещим. Чувствуется беззащитность и одиночество. Если позвать – никто не придет. А что может случиться? Ночь кончается, наверное, петухи уже пропели зарю, и все привидения убрались восвояси.
А «свояси» у них – на кладбищах, в болотах, в одиноких могилах под крестом, на перекрестке глухих дорог у лесной опушки. Теперь никто из них человека тронуть не посмеет, теперь уже раннюю обедню служат и молятся за всех православных христиан. Так чего же тут страшного?
Но восьмилетняя душа доводам разума не верит. Душа сжалась, дрожит и тихонько хнычет. Восьмилетняя душа не верит, что это гудит колокол. Потом, днем, она будет верить, но сейчас, в тоске, в беззащитном одиночестве, она «не знает», что это просто благовест. Для нее этот гул – неизвестно что. Что-то зловещее. Если тоску и страх перевести на звук, то будет этот гул. Если тоску и страх перевести на цвет, то будет эта зыбкая серая мгла.
И впечатление этой предрассветной тоски останется у этого существа на долгие годы, на всю жизнь. Существо это будет просыпаться на рассвете от непонятной тоски и страха. Доктора станут прописывать ей успокаивающие средства, будут советовать вечерние прогулки, открывать на ночь окно, бросить курить, спать с грелкой на печени, спать в нетопленой комнате и многое, многое еще посоветуют ей. Но ничто не сотрет с души давно наложенную на нее печать предрассветного отчаяния».
(«Чувствую себя лучше, но проснулась с приступом лютой тоски. Не заболеть бы душевно», – пишет «Существо» другу почти через семьдесят лет после детства. – Три часа утра, а ночь моя уже закончилась». )
Первая неделя поста очень строгая, нельзя ни петь, ни прыгать, все куклы спрятаны в шкаф.
Нянька увещевает Надю, чтоб на стульях верхом не скакала, чулки не рвала и вообще бросила «разнузданный образ жизни» (» Вот ужо пойдешь к исповеди; запряжет тебя поп в телегу, да заставит вокруг церкви возить»). Но это все мелочи в сравнении с тем ее грехом, который даже в заповедях запрещен, – с кражей. Она украла нянину ватрушку. Ватрушка лежала на окне, и Надя решила посмотреть, много ли в ней варенья. К концу «осмотра» остался такой маленький, некрасивый огрызочек, что пришлось его насильно доесть, а няньку, удивлявшуюся, куда же ватрушка подевалась, направить по ложному следу: «Я думаю, нянюшка, что это ее домовой съел».
Надя успела забыть про это преступление, а вот теперь, перед исповедью, вспомнила и ужаснулась: она ведь не только украла, но еще и свалила грех на другого, на ни в чем не повинного домового. Стало очень тревожно…
Батюшка, может быть, и простит, но ведь Сам Бог решает, освободить ли тебя от греха, а он все видит…
«В церкви было пусто. <…>
Стою у самой ширмочки. Чей-то тихий и мирный голос доносится оттуда. Не то батюшка говорит, не то высокий бородач, стоявший передо мной в очереди.
– Сейчас мне идти! Ах, хоть бы тот подольше поисповедывался. Пусть бы у него было много грехов. Ведь бывают люди, например разбойники, у которых так много грехов, что за целую жизнь не расскажешь. Он все будет каяться, каяться, а я за это время и умру.
Но тут мне приходит в голову, что умереть без покаяния тоже нехорошо, и как быть – не знаю. За ширмой слышится шорох, потом шаги. Выходит высокий бородач. Я едва успеваю удивиться на его спокойный вид, как меня подталкивают к ширме, и вот я уже стою перед священником. <…>
Пахнет ладаном, торжественным и ласковым. Батюшка говорит тихо, не бранит, не попрекает. Как быть насчет нянькиной ватрушки? Неужели не скажу? А если сказать, то как сказать? Какими словами?
Нет, не скажу.
На высоком столике выше моего носа блестит что-то. Это, верно, крест.
Как стану я при кресте рассказывать про ватрушку? Так стыдно, так просто и некрасиво.
Вот еще спросил что-то священник. Я уже и не слышу, что. Вот он пригнул мне голову, покрывает ее чем-то.
– Батюшка! Батюшка! Я нянину ватрушку съела. Это я съела. Сама съела, а на другого свалила.
Дрожу вся и уж не боюсь, что заплачу, уж ничего не боюсь.
Со мной все теперь кончено. Был человек, и нет его! Щекочет что-то щеку, задело уголок рта. Соленое. А что же батюшка молчит?
– Нехорошо так поступать. Не следует! – Еще говорит, не слышу, что. Выхожу из-за ширмы.
Встать бы теперь перед иконой на колени, плакать, плакать и умереть. Теперь хорошо умереть, когда во всем покаялась».
Наде в эту минуту совсем не хочется видеть приближающуюся к ней няньку: «Еще расскажет дома, что я плакала, а потом сестры дразнить станут». Она понимает, никто не ждет от нее таких переживаний, не поверят в них. Да и рассказать она о них не смогла бы.
До писательницы Тэффи девочке еще расти и расти.
Наступила Страстная суббота. Взрослые, наверное, объясняли детям, что это за день. В страстную пятницу распяли Христа, и всю субботу близкие люди оплакивали его в гробнице, не зная, что он воскреснет. Такой скорбный день…
И надо вести себя тихо, не веселиться, не шуметь.
А как ведут себя благочестивые взрослые? Все заняты, спешат, сердятся. Гувернантка с красными пятнами на щеках строчит себе блузку на машинке. («Ужасно важно! Все равно нос-то щербатый». ) Надя заглянула в столовую, где старшие сестры красят яйца и наткнулась на оскорбление: «Только тебя тут не хватало!»
Она хотела «отстоять» себя, но тут же локтем задела чашку с краской… И во время «всей этой катастрофы» выяснилось, что младших к заутрене не берут.
«Я со злости даже не заплакала, а просто ядовито сказала:
– К исповеди-то небось таскали. Что похуже – то нам, а что получше – то для себя.
Несмотря на эту блестящую реплику, сила осталась на стороне врага, и пришлось засесть в детской».
Обидно. Девочки всю неделю только и толковали о том, как будет в церкви ночью, у заутрени, и какие платья им наденут – неужто не голубые…
Пасхальная ночь. Надя с Леной одни в полутемном зале. «Нам немножко жутко оттого, что мы одни, и оттого еще, что сегодня так необычно и торжественно ночью гудят колокола и что воскреснет Христос».
В благословенной стране
На Новинском бульваре всегда весна, а всегда лето – в «чудесной благословенной стране» – в Волынской губернии, в имении матери.
«Радостно начиналось утро каждого долгого дня: тысячи маленьких радуг в мыльной пене умывальника, новое, легкое, светлое платьице, молитва перед образом, за которым еще не засохли новые вербочки, чай на террасе, уставленной вынесенными из оранжереи кадками с лимонными деревьями, старшие сестры, чернобровые, с длинными косами, еще непривычные, только что приехавшие на каникулы из своего института, и хлопанье вальков на пруду за цветником, где звонкими голосами перекликаются полощущие белье бабы, и томное кудахтанье кур за купой молодой, еще мелколистной сирени; все само по себе было ново, радостно и, кроме того, обещало что-то еще более новое и радостное».
В имении всегда – интересно: кто-то уезжает, кто-нибудь приезжает, «кто-нибудь обварился, кого-нибудь наказали».
Одно лето, когда в соседнем городке стоял гусарский полк, было особенно шумное и веселое. Офицеры постоянно бывали в доме. Их привлекали молоденькие барышни – старшие сестры, кузины, их гостящие подруги. Конные прогулки, пикники, игры, танцы.
Правда, маленькие, во всем этом не участвовали, и на самом интересном месте их отсылали прочь.
Надю это так возмущало! Но удавалось что-то увидеть, услышать.
«Я помню, как высокий рябой адъютант переводил кузине какое-то английское стихотворение:
Облака, склонясь, целуют горы…
Отчего же мне не поцеловать тебя.
– Что вы скажете о последней строчке этого стихотворения? – спрашивал адъютант, склоняясь к кузине не хуже облаков.
Кузина обернулась, увидела меня и сказала:
– Надя, иди в детскую.
Хотя мне, может быть, тоже было интересно узнать ее мнение.
Загадочные диалоги других пар тоже интриговали меня немало…
Она (обрывая лепестки маргаритки): – Любит, не любит, любит, не любит, любит! Не любит… Не любит!
Он: – Не верьте цветам! Цветы лгут.
Она (скорбно): – Мне кажется, что не цветы лгут еще искуснее.
И тут же, заметив меня, живо переделала поэтично-печальное лицо на сердитое, будничное и прибавила:
– Надежда Александровна, пожалуйте в детскую, вас давно там ждут.
Но ничего, с меня было и того довольно. И вечером, когда младшая сестра расхвасталась, что может три дня простоять на одной ноге, я ловко срезала ее:
– Неправда! Ты всегда врешь, как не цветок».
Настораживали и тревожили загадочные шушуканья вокруг горничной Корнели, с насмешливым прозвищем «Панночка» – за манерное поведение. У нее были странные, рыбьи глаза, желтые с черным ободком, и удивительные косы – ниже колен. По утрам она приходила в детскую расчесывать девочкам волосы. («Драла гребенкой отчаянно. – Ой, больно! Больно! Корнелька, пусти! – визжала жертва. Корнеля все так же медленно и спокойно водила гребенкой и тихо, раздувая ноздри, сжав губы, напевала». )
Однажды девочки увидели, как она купалась в пруду. Распустила волосы, и они плыли за ней плащом, а когда она поднимала голову, облегали ей плечи, плотные и блестящие, как моржовая кожа. И вдруг с другого берега закричали: «Го-го-го! Го! Русалка!»
«…Корнеля, быстро повернувшись всем телом в ту сторону, откуда звенел зов, вытянула руки, заколотилась прерывистым истерическим смешком. И вдруг стала прыгать, высоко, по пояс, выскакивая из воды. <…> Нянька сердито схватила нас за руки и увела».
И однажды сурово встретила Корнелю на пороге детской: «Иди, иди! Тебе в детской делать нечего. Иди водяному бороду завивать».
Надя чувствовала, что от детей хранят великие темные тайны до какого-то неведомого ей срока.
«То, что у больших, у взрослых, проскальзывало быстро, то у нас в детской изживалось бурно, сложно, входило в игры и в сны, вплеталось цветной нитью в узор жизни, в ее первую прочную основу, которую теперь с таким искусством и прилежанием разыскивают психоаналитики, считая важнейшей первопричиной многих безумий человеческой души…
Помню потрясающую новость: в деревне, верст за шестьдесят от нас, бешеная собака искусала детей.
Как изживали мы эту бешеную собаку!..
Ходили с палками по столовой, выгоняли страшного зверя из-под буфета, запирали его в мышеловку. Это была игра долгих дней и страх многих ночей.
– Чего вы, глупые, боитесь? – говорила нянька. – Ведь Лычевка далеко.
– Ах, нянюшка, бешеные-то они ведь бегают скоро!
И вошла эта собака в мой сон и много раз на продолжении многих годов возвращалась. И всегда во сне этом бежала я по длинному коридору, а она гналась по пятам. Я знала, что у нее мутные глаза и изо рта бьет ядовитая пена… И вот последняя дверь. Я изнемогаю, из последних сил захлопываю ее, но зверь успел просунуть морду. Я нажимаю на дверь еще, еще немножко и он будет раздавлен. Но тут всегда самое ужасное: я опускаю голову и вдруг вижу его глаза – тусклые, голубые, человеческие, с таким отчаяньем, с таким состраданием смотрящие на меня, а из страшной раскрытой пасти бьет ядовитая желтая пена. Смотрят на меня глаза издыхающего зверя, и понимаю я, что не своей волей мерзок он и страшен, что в отчаянии и муке исходит он ядовитой пеной, и чувствую, как уходят от меня сила, и страх, и злоба; нечеловеческая боль и жалость сжимают сердце.
«Не могу раздавить тебя. Иди!» И отпускаю дверь.
Я всегда просыпаюсь в эту минуту. И как знать – может быть, пробуждение и было дверью, открываемой перед звериной пастью…»
И еще было невероятное событие – объявившийся разбойник пан Лозинский. Он разъезжал по всей губернии на подводах, грабил богатых и награждал бедных, – настоящий разбойник! Ловкий, смелый, его никак не могли поймать. О нем разговаривали и в гостиной, и в девичьей, и, конечно, в детской, где дети с криком и визгом грабили друг друга, скача верхом на стульях.
Однажды слух прошел, пан Лозинский дал большое придание «бедной благородной сироте». История всех растрогала, а гувернантку Катерину Петровну «тихенькую, тоненькую», по тогдашнему времени старую деву, хотя ей было не больше двадцати пяти, «привела в какой-то болезненный экстаз».
«– Как вы думаете, нянюшка, – говорила она, – ведь он может к нам приехать? <…> Ведь здесь есть и деньги, и бриллианты. Он ведь все это знает – отчего же ему не приехать?»
Настала осень.
Мать уехала в Москву со старшими детьми. Им надо было учиться, а двух старших сестер «вывозить в свет».
Остались в имении зимовать младшие – Надя и Лена, с ними нянюшка, Катерина Петровна для наук и Эльвира Карловна, «давно жившая в доме, безбровая, курносая, заведовавшая «общей администрацией».
К Эльвире Карловне переходили дети лет пяти прямо от нянюшки для обучения. Обучала она чистописанию и начаткам Закона Божия. («Учила бодро, когда нужно подшлепывала»). Сама же в науках не очень была тверда. На лукавые вопросы отвечала: «Много будешь знать, скоро состаришься».
«Вот эту самую бонну, Эльвиру, ненавидела нянюшка всеми силами души. Я думаю, что в ненависти этой немалую роль играла ревность. „Рабенка“ уводили из детской под начало курносой бабищи, <…> а нянюшкина власть кончалась». Бонна была врагом «внешним».
Другой нянюшкин враг, «внутренний», – домовой. За глаза он назывался «хозяином».
Не злой был домовой, только «дурил». Сдвинет нянюшке очки на лоб, и та их ищет, тычется по всем углам. Не любил, чтобы печку топили в сырую погоду или в оттепель – экономный был, дрова жалел. Если мороз – топи сколько угодно, а в оттепель – залезет в трубу и ну дуть, дым гнать в комнату.
Еще не любил, когда детей осенью в город отправляли: скучно одному зиму зимовать. «Как только начиналась укладка вещей и дорожные сборы – принимался домовой по ночам вздыхать. Все мы эти вздохи слышали и очень его жалели».
Отношения с таким добрым домовым, наверное, давали детям несколько больше, чем «подшлепывания» Эльвиры Карловны.
В рассказах Тэффи о детстве немало примет типичных барских усадеб:
закрыли холодную гостиную, перенесли из оранжереи лимонные деревья и кактусы и расставили в передней и столовой. Летом в усадьбе гости, шум, веселье, зимой необычная тишина. «По вечерам на черном окне классной комнаты отражались огонек висячей лампы и две стриженые детские головы и, блестя, шевелились спицы в темных скрюченных пальцах.
А вдруг это и не мы? А вдруг это другие дети, там за стеклом, только днем мы их видеть не можем».
В сумерки нежданный гость объявился. «Какой-то барин, не то человек, разобрать не могу, но вернее, что не человек», – доложил старый лакей.
«Нечеловек» был румяный, плотный, с мокрыми усами и блестящими веселыми глазами. Всем поклонился и попросился переночевать, сказав, что утром за ним лошадей пришлют. Ему отужинать предложили, на ночлег устроили во флигеле. И тут началось…
«Вошла ключница, приложила палец к губам, заглянула за все двери и сказала свистящим шепотом:
– Это он!
– Кто?
– Шшшш… Он. Пан Лозинский.
Немая картина, которой так тщетно добивался когда-то Гоголь в последнем акте своего «Ревизора». Все замерли. Сколько времени продержались бы мы так, я не знаю, если бы не громкий рев сестры Лены, которую нянька схватила на руки. <…>
– Господи! Что же нам делать? Няня, уведите детей!
Няня встала, держа Лену и ловя другой рукой мою руку, но я крепко уцепилась за Катерину Петровну, решив дорого продать свою свободу.
Катерина Петровна обняла меня и прижала к себе. Носик у нее покраснел, и в широко открытых глазах слезинки. Слезинки, а глаза испуганные и счастливые».
Слуги бурно обсуждали, как охранять разбойника, чтоб ночью не встал, да не свистнул своим молодцам. Те вмиг из корчмы прибегут… Призвали в охрану сторожа, кучера, садовника, пастуха, повара… Вооружили всех колотушками, трещотками, сковородой, чтоб в нее «бахать»…
«Катерина Петровна вскочила и, все прижимая меня к себе, бросилась в свою комнату. Там выдвинула она сундучок и достала с самого дна мятый, слежавшийся кисейный капотик с голубыми лентами. Знаменитый капотик, о котором я много раз слышала, но никогда не видала. А слышала я, что когда выходила она из института, как раз умерла ее бабушка и оставила ей в приданое дутую браслетку и этот капотик, к выпуску сшитый.
– Лежал, лежал, – шептала Катерина Петровна, расправляя руками зажелкшие оборочки, – и долежался…
Я скоро уснула. Но помню ночью свечу <…> на подоконнике. И тонкая белая фигура прильнула к стеклу.
Рано утром за чаем я вижу ее, Катерину Петровну, в этом удивительном кисейном наряде, и волосы у нее завиты локонами и стянуты голубой лентой.
– А он… этот человек, придет к чаю? – прерываясь, словно плача, спрашивает она, входя».
Все смеются, вспоминая, как удивился разбойник, узнав, что его стерегли всю ночь. Чувствительно, говорит, благодарен. Он боялся в корчме ночевать. При нем были большие деньги… Ух, до чего же он хохотал! Лошадей за ним прислали, так и их кучер хохотал.
«Я так заслушалась <…>, что только после чая заметила пустой стул Катерины Петровны.
Я нашла ее в комнате. Она забилась в угол дивана, закуталась в большой серый платок, такая худенькая, точно больная.
Я подошла к ней, но она не приласкала меня.
– Иди, девочка, иди.
И я ушла…
И ничего больше не помню о ней, Катерине Петровне.
Зыбкой, воздушной тенью колыхнулась в воздухе моей жизни и сникла.
Нежная рука с темной родинкой около пульса… кисейные оборочки, ленты… голубая книжечка «Кернер», вы, поэтической меланхолией объявшая далекие мгновения моих дней, может быть, потом, много лет спустя, в бурном и сумбурном потоке зазвенела и ваша тихая струя?
Бессмысленная, голубая, серебряная печаль…»
Та девочка Надя, наблюдательная («круглые глаза») и впечатлительная, которую Тэффи хорошо знала – и она ей нравилась! – не сникла, не исчезла, и, когда настал «неведомый срок», «зазвенела ее струя» в потоке рассказов, вынесла тайны, тревожившие когда-то детскую душу, и взрослые озарения.
© Тамара Александрова, 2019alektamar@yandex.ru
Андрей ЛУЧИН
Моя встреча с театром
Театр для меня – это всё, смысл моей жизни. Работать в театре – моя юношеская мечта. Сначала был увлечен актёрской профессией. В тридцать лет, когда открылось понимание глубин театрального процесса и своего места в нём, я пришёл в режиссуру. После сорока волею судьбы случился новый поворот в моей жизни, пришлось погрузиться в менеджмент театрального дела. Так в разных ипостасях проживаю свою жизнь в театре. Сегодня это постижение тайн театра кукол, рождение пьес и спектаклей в куклах, то, чем профессионально живу сейчас.
Родился и вырос я в Прибалтике, в Калининграде, в городе, связанном с историей немецкой древней цитадели – Кёнигсберг. Город сильно пострадал от бомбёжек англичан накануне его штурма советскими войсками. И мои детские воспоминания о нем – это развалины старых домов и постоянно строящиеся новые. Увы, искусству в нём отводилось весьма скромное внимание. Так почему же у меня, мальчика из рабочей семьи, вдруг возникла непреодолимая тяга к театру? Что пробудило к нему интерес? Источником этого стало горе. Тяжёлое, непоправимое горе.
Сначала было простое семейное счастье. Папа, мама, я, мой маленький двухмесячный братик, бабушка, папина мама, Тоня, папина сестра жили все вместе большой семьёй в маленькой трёхкомнатной квартире, в старом немецком доме, каких много в Калининграде и сейчас. Вообще-то у немцев это была двухкомнатная квартира, но наши коммунальщики сразу же разгородили кухню, и образовалась ещё одна маленькая комнатушка. И стала она трёхкомнатной! Жили мы дружно.
Мне было пять лет, когда погиб отец. Водитель легковой машины «Волга», он возил начальника сельхозтехники Калининградской области. Они возвращались глубокой ночью из другого города по узким двухполосным, ещё немецким дорогам предместья Кёнигсберга, обсаженными старыми липами с двух сторон. Навстречу им, посередине, нёсся на большой скорости рейсовый автобус «Икарус», а у обочины стояла легковушка с выключенными фарами, которой ни отец, ни водитель автобуса не видели и поэтому полагали, что могут разойтись. Когда же изменить что-либо было уже невозможно, машина вылетела на обочину и несколько раз перевернулась. Отец погиб, а его начальник остался инвалидом.
Сейчас у меня трое детей, младшему сыну Илье шесть лет. Я смотрю на него: как он играет, как ходит по квартире, пытается привлечь к себе внимание и вовлечь кого-нибудь в игру на планшете… и не верю, что мне тогда было всего пять. Так мало лет, а я всё помню…. Меня привела из садика домой почему-то соседка, это было совершенно неожиданно. Думаю – «Где мама? А-а! – догадываюсь, мама, наверное, с маленьким грудным братиком» – его назвали, как папу, Алексей, но звали Алёшей, а папу все звали Лёшей или Лёшкой. Мои мысли: «Где Тоня? Где, наконец, бабушка?!». Пришли домой, а там все плачут, и все в чёрной одежде, и зеркало большое немецкое завешено простынёй, ничего не понимаю. Меня отвели в дальнюю «нашу комнату» и сказали: «Папа разбился». Не помню, чтобы я плакал. Это был ступор. Всё с того времени стало, как в кино. Что-то происходило вокруг, в чем-то я участвовал, но оно меня не касалось. Внутри стояла преграда, которая не позволяла пустить это событие в себя и задеть за живое…
Потом похороны, на которых было очень много народу. 1970-й год. Люди полностью советские. Классово мы относились к пролетариату, согласно той идеологии – основе общества. Отец погиб на работе, ему было всего двадцать четыре года. Хоронила его вся автобаза, люди из Управления сельхозтехники, все родственники, а у мамы четыре сестры и брат. Какие-то родственники приехали срочно, тогда это было этически обязательно.
Когда привезли длинный гроб с телом отца, возникло непривычное ощущение. Отец был высокий, а тут он лежал. Половина лица сохранилась, а другая часть стала неузнаваемой, вокруг головы вата, много ваты, позже мне объяснили, что у него в результате аварии снесено полголовы. Мама худенькая еле стояла, едва удерживаясь в сознании; возле неё была её мама, моя другая бабушка Антонина, с пузырьком нашатыря в руках. Тогда полагалось оставлять покойника в доме на ночь, вот гроб привезли и поставили в большой комнате на табуретки, и все родственники находились рядом.
Готовились к поминкам у соседей: туда-сюда носили продукты, варили холодец, резали салаты. Запомнилась атмосфера тишины и полушёпота про то, как ставить столы, откуда и кто их принесёт, сколько будет народу, что придётся принимать народ по переменам, помянув, одни люди уступят место другим. Накрывать столы будут те, кто не поедет на кладбище, решалось, кто это будет.
Поздно вечером меня уложили спать… Наступило утро. Во всей квартире – люди, кроме дальней «нашей комнаты». Много венков. С тех пор для меня запах хвои это не запах Нового года, а запах похорон. Я существовал в этом событии автономно, все меня жалели и гладили по голове, но без причитаний. Я бесцельно ходил по квартире, выходил во двор, где собралось много людей. Улица была небольшая – всего два параллельных немецких дома, в каждом четыре подъезда по шесть квартир. Все друг друга знали. Мужчины, в основном шофёры с автобазы, курили в стороне и тихо разговаривали. Женщины, все, помогали с поминками. Приехал военный оркестр. Это организовал дядя Паша, муж старшей маминой сестры, он был старшиной в оркестре, играл на валторне. Музыканты расчехляли инструменты, спрашивали: «Когда будут выносить?».
Я не понимал, про что они говорят, и подумал, что это про две табуретки, которые зачем-то вынесли из подъезда. Но это были не наши, крепкие самодельные деревянные, а соседские, с откручивающимися ножками. Из подъезда стали выходить люди: мамины сёстры, тётя Валя и тётя Люба с мужем. Бабушка Прасковья Васильна (как её почему-то звали в тот день, а обычно все звали её Паша либо тётя Паша) и Тоня, которая взяла меня за руку. Тут вывели под руки маму. Заиграл оркестр, громко и пронзительно. Этот похоронный марш, как я узнал во взрослой жизни, Фредерика Шопена, его я также запомнил навсегда. Не могу слушать и по сию пору, готов заткнуть уши, потому что пережитое в тот день ощущение панического страха сразу поднимается в душе. Плакали все – и женщины, и мужчины. Громко всхлипывала бабушка Паша, но не причитала по-деревенскому обычаю, её просили об этом, иначе с мамой бы что-то произошло.
Забегая вперед, скажу, что моя бабушка Прасковья, в квартире которой мы жили, была деревенская, из Пензенской области, и она любила ходить на похороны, даже если и не знала покойного. Возвращаясь домой, она всегда это событие обсуждала с мамой и, конечно, сравнивала с похоронами Лёши, её сына. Когда горе поутихло, она ими как-то даже гордилась.
Беда не приходит одна. Вскоре умер Малыш, братик Алёша. Возвращаюсь из детского сада, а в большой комнате стоит маленький гробик, как игрушечный, не как папин. Мне говорят, что Алёши больше нет. Его простудили во время похорон отца, и он умер от воспаления легких. Для мамы и меня это был уже не ступор, а что-то другое, когда всё внутри закаменело. И это состояние растянулось на долгие годы. Я не заикался, не замыкался в себе, но когда в зрелом возрасте узнал, что такое аутизм, то, как сейчас думаю, какие-то проявления у меня точно были. Особенно, если меня ругали, дома или в школе. И позже, когда случались неприятности, сразу наступало состояние абстрагированной отстранённости. С годами в этом состоянии я научился переключать мозг не на размышления, а на действие. Тогда же сложилось понимание, что такое горе, а что просто неприятности. Горе победить нельзя, а всё остальное преодолеть можно.
Почему я так отчётливо все эти события помню, наверное, объяснять не нужно, с них начался мой сознательный период детства. Это были годы ощущения нескончаемого, гнетущего горя и очень скромного материального достатка. Мама всегда была тиха и молчалива. Ей пришлось перейти работать на тяжёлую работу станочницы в деревообрабатывающий цех. Там, как она говорила, надо было «на пузе» таскать доски к станку на распиловку, из них потом делали бочки на её БТЗ (Бондарно-тарный завод) для рыбаков – в них солили рыбу прямо в море во время путины. Сейчас и бочек таких не увидишь, а раньше они стояли возле каждого овощного и продуктового магазина.
Квартиру, обещанную отцу, мы так и не получили. При отце нам должны были дать на четверых, а теперь нас осталось только двое. Да еще начальник папин по инвалидности ушёл с работы, а новое руководство этот вопрос отклонило. Остались мы жить у бабушки. Это было непросто, очень уж разные они с мамой были. Бабушка была деревенская и простая, мама – совершенно другая и по воспитанию, и по манере поведения. Бабушка была маленького роста и полная, с громким голосом, когда она появлялась в начале улицы и начинала с кем-то разговаривать, мы уже знали, что бабушка скоро будет дома. Её было издалека слышно, она говорила хорошо поставленным от природы голосом, отчетливо и с паузами. Хорошо пела. Даже в молодости, когда приходилось рыть окопы по ночам, так как днём все работали на полях, подруги просили её петь, чтобы не уснуть, и делали сообща за неё норму.
Бабушка хорошо вязала. Сколько я её помню, у неё всегда в руках были спицы, вязала она постоянно и всем: варежки, носки, кофты, пинетки и делала это вслепую, не глядя, при этом вела беседу или смотрела телевизор, когда он появился. Иногда остановится, скажет: «Тише, товарыщи», пересчитает петли и продолжает вязать и разговаривать дальше. Уживались они с мамой потому, что бабушка была очень добрая, она тоже хорошо знала, что такое горе. В конце войны баба Паша работала на спиртзаводе кочегаром. Её отправили в командировку в освобождённый Кёнигсберг тоже кочегаром на местный спиртзавод, система этих заводов по стране во время войны была объёмная, так как их продукция имела оборонное значение. В городе, ещё до 1949 года, жили немцы, а потом в оставленные ими квартиры, с посудой и мебелью, селили командированных.
Конечно, женщине, приехавшей из деревни, такое и не снилось, она просто не видела таких фарфоровых тарелок, или мебели, поэтому немецкую бытовую утварь сменили на половики, самодельные табуретки и железные миски. Одна история о взаимоотношениях с немцами, живущими по соседству, сохранилась в нашей семье. Бабушка за еду наняла к маленькому моему папе в няни молодую немку, а та украла у бабушки резиновые сапоги. Бабушка даже не успела об этом узнать. Вернулась с работы, а её встречают немки, отдают сапоги. Они рассказали о случившемся, извинились и предложили нанять другую женщину. Даже не могу себе представить, как могли сосуществовать эти два народа сразу после той страшной войны. По окончании командировки, ни в какую деревню бабушка Прасковья не вернулась, так как здесь уже и вышла замуж, и родила детей. Вскоре муж умер, и она одна поднимала троих. Так что бабушка маму уважала и понимала, как ей тяжело. Да и старшего сына Лёшу, моего папу, она любила больше всех и не скрывала этого, и меня тоже, потому что считается, я очень похож на папу – и внешне, и волевым характером.
Начислим
+2
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе