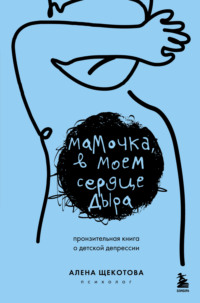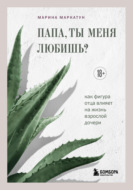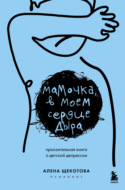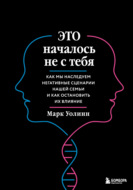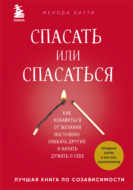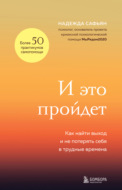Читать книгу: «Мамочка, в моем сердце дыра. Пронзительная книга о детской депрессии», страница 3
Глава 2. Позвольте представиться: мадам Депрессия
Депрессию в нашем обществе принято ругать, отрицать или изгонять, словно она злой дух. Например, вот так: «Нет, это у меня не депрессия, просто осень наступила».
Или так: «На стрижечку мне пора – после нее все по-другому будет».
Или еще: «Сейчас елочку украшу, и вся моя депрессия пройдет».
Отчасти да. Ухаживать за собой и баловать себя – важно. Но депрессия от этого не проходит. На какое-то время действительно может стать полегче, однако коренных изменений не случится.
Почему?
Вот, к примеру, ситуация: у человека воспаление легких. Он обожает сок. Он его купил, попил, посмаковал. Удовольствие получил, да. Но воспаление легких, как вы догадываетесь, не прошло. Несмотря на то что депрессия не болезнь, механизм здесь такой же. Работать нужно с причинами.
Возможно, вы сейчас удивлены, что в книге про детскую депрессию я привожу примеры, свойственные взрослым. Но уникальность депрессии в том, что механизм ее действия примерно одинаков для людей любого возраста. Разнятся проявления, но суть остается неизменной. А так как помочь ребенку выбраться на солнце – чаще всего задача взрослого, то и понимание нюансов этого состояния я решила объяснить через примеры, понятные взрослым.
Да, депрессия в большинстве случаев – это не патология медицинского характера. Не то, от чего нужно избавиться, исправить, скорректировать или отменить. Она – голос души, которая почему-то сильно болит. И это скорее хорошо, что душа кричит, еще может кричать. Лучшее, что в этой ситуации может сделать для себя человек, – это ее… услышать. И признать: я тут, в этой точке, в депрессии.
Это уже требует мужества. А после нужно разобраться, почему душа болит? В чем она так ощутимо нуждается? И, в конце концов, дать себе то, чего так отчаянно хочется.
Конечно, можно и по-другому: игнорировать, отрицать, подавлять внутренний голос, бесконечно переключаться с него на другую волну. И совершать тем самым предательство по отношению к себе.
Неуслышанная, она – душа – начинает нам мстить.
Мстит по-разному. Часто накопленная душевная боль переходит в тело – и начинаются бесконечные болячки, тяжелые и/или хронические. А может не выдержать психика, и это грозит необратимыми ее нарушениями.
Но что будет, если откликнуться на этот зов? Принять решение и честно прожить депрессию? Стать внимательным к тому, о чем душа хочет поведать?
Тогда случится удивительное путешествие: человек восстановит свою целостность.
Познает себя.
Обретет мощь и силу.
Оценит и полюбит свою уникальность.
Перестанет тянуть лямку.
И начнет наконец жить.
Причины детской депрессии
Причина № 1. Запрет на выражение чувств
Когда в семье не приветствуют проявление чувств, когда живость и экспрессия осуждаются, ребенок начинает прятать свои переживания. Он привыкает их подавлять и замораживать.
Запреты бывают разными. Иногда в семейной системе блокируются отдельные чувства. К примеру, мама пугается, когда сын-подросток психует, хлопая дверями. Растерянные и возмущенные взрослые запрещают ему «истерить», ворчат на него. Но это – единственное, с чем они не готовы мириться. В остальном тут вполне можно быть живым: например, проявлять раздражение по-другому, фыркать, не соглашаться, возмущаться, бояться, радоваться.
Такое ограничение едва ли приведет к разрушительным последствиям. Скорее всего, подросток сможет с этим справиться: закроется в комнате, включит сетевую игру и, бегая с нарисованным автоматом, между делом посетует другу «на занудных предков». Приятель посочувствует: «Держись, дружище, скоро вырастем и свалим от них в питерскую путягу!» – и парню полегчает: он выгрузил свое негодование, доверенный товарищ его понял и принял. Внутренняя целостность восстановлена, и, скорее всего, подросток уже не чувствует себя ущербным.
Но давайте попробуем усугубить ситуацию: в семье царят суровые правила, интернет и компьютерные игры запрещены по причине их сомнительности, а живого общения со сверстниками ребенок не имеет тотально – может, сам не сумел подружиться, а может, родители поспособствовали: «Зачем тебе такие друзья? Не пойми чем занимаются целыми днями!»
Помимо этого, если регулярно приходится слышать что-то вроде:
Радоваться опасно, потом плакать сильно будешь!
Что ты плачешь? Сопливая девчонка, что ли?
Что?.. Страшно?.. Фу, боятся только трусы!
Чего ты психуешь? Нечего мне тут свой характер показывать! —
то ребенок оказывается в западне, где быть собой, чувствовать – нельзя, это порицается. Ему остается лишь накапливать переживания и отрешаться от аспектов своей личности, пряча их на той стороне Луны – в Тени.
Скорее всего, юный бедолага выживет, вырастет и более-менее адаптируется в социуме. Но во взрослой жизни он обязательно столкнется с серьезными трудностями при построении близких отношений. «Замороженный» человек не считается со своими желаниями, взаимодействуя с родителями, детьми или партнером. Он не умеет дифференцировать (понимать и называть) чувства, которые испытывает. Не понимая себя, он не поймет Другого. В реальной жизни его способность к сопереживанию обычно оказывается неразвитой или даже атрофированной.
«Замороженный» человек не вызывает интереса, теплоты. С ним тяжело общаться, его хочется избегать. Такие личности обречены на одиночество. Напряженные, формальные отношения сопровождают их всю жизнь.
Причина № 2. Дефицит присутствия
Вторая традиционная причина детской депрессии – дефицит живого присутствия Другого.
(Важно! Другой, конечно, может быть разным, но в этой книге я хочу рассказать именно о дефиците присутствия Значимого Взрослого.)
Знаю, звучит загадочно. Казалось бы, чего уж проще! Надо просто уделять ребенку достаточно внимания, и дело с концом: сидеть рядом, смотреть, разговаривать и т. д. Однако под живым присутствием, которое иногда еще называют экзистенциальным, я понимаю особый вид вовлеченности.
Давайте на примерах разберем, что это такое.
Залитая июньским солнцем, пахнущая деревом кроватка. Внутри малыш в цветастых ползунках и плюшевой кофточке. Похоже, он сильно голоден: бедняга разрывается от крика, маленькие ручки дрожат, глаза-пуговки блестят от горечи и слез.
К нему подходит мама. Он видит ее, еще активнее начинает сучить ножками, протягивает к ней кукольные ладошки.
Но так случилось, что мама сегодня очень устала. Быть может, она много ночей не спала. Выгорела. Закончилась. Она никак не откликается на плач и распахнутые объятья малыша. Молча стиснув зубы, впихивает ему в рот тугую розовую грудь.
Ребенок перестает плакать, он просто физически не смог бы это продолжить. Но внутри ему муторно и непонятно: что происходит? Что случилось с мамой? Она его больше не любит? Что ждет его впереди? Он тревожится. Заявить об этом словами он, конечно же, не сможет, но, возможно, весь последующий вечер будет донимать утомленного родителя своими необъяснимыми капризами.
Другая история. Тот же плачущий малыш. И мама та же, но отдохнувшая (быть может, у нее сегодня получилось выспаться или она сходила в парикмахерскую, пообщалась с психологом, поболтала с подругами).
Мама внимательно смотрит в глаза сына. Она прижимает малыша к груди, говорит, что любит его, что он, бедняжка, наверное, хочет кушать и сейчас получит вкусного молочка.
Ребенок жадно сосет грудь. Чуть насытившись, он хитро смотрит на маму и опять увлеченно, с упоением принимается за трапезу. Потом он расслабленно отстраняется от груди, безмятежно улыбаясь во сне беззубым ротиком, на котором жирными капельками искрит молоко.
Малыш уже явно способен оценить разницу в мамином настроении.
Итак, в первом примере родитель был эмоционально заморожен. В психологии есть такой термин – диссоциация. Говоря простым языком, взрослый эмоционально отключился и от себя, и от мира.
При этом вовсе не обязательно иметь нейтральное лицо. Находясь в такой отключке, взрослый может улыбаться, изображать сочувствие либо что-то другое, соответствующее ситуации. Но все дети – безошибочные сканеры. Их не проведешь. Несоответствие того, что ребенок видит, тому, что он чувствует, испугает его и вызовет психическое напряжение.
И потому гораздо спокойнее, целостнее и устойчивее оказываются дети тех родителей, которые не скрывают своих истинных чувств, даже если они непростые.
Однако важно, чтобы эта открытость не превратилась в неконтролируемый слив негативных чувств ребенку – это тоже может ранить маленького человека, перегрузить его психику.
Научиться не впадать в крайности – не сливать потоком эмоции, но и не замораживаться на каждом шагу – задача вполне реальная. Сделать это намного проще, если есть поддержка и опыт других людей. Например, психолога и психотерапевта. Наставника. Иногда им становится батюшка в храме или мудрая свекровь (да, и такое бывает). Потому как самостоятельно расти можно, но это долго и тяжело. Возможность вызревать «об Другого» упрощает и ускоряет этот процесс4.
Причина № 3. Нарушенная привязанность
Как правило, эта причина особенно ярко проявляется в семьях, где были или есть проблемы, связанные с зависимостью одного из родственников.
Оглушительный стук в дверь. Малыш натягивает одеяло: физиономия Гонщика из «Щенячьего патруля» полностью заслонила его лицо. Лишь бы не вошли, лишь бы не вошли! От ужаса он забывает дышать.
– Пусти меня, ведьма-а-а!
Снова стук. Бесконечно долгий и беспорядочный скрежет в замочной скважине. И вдруг – глухой удар об пол чего-то мягкого и большого. Еще минута – и оханье соседей. Стыдливое бормотание матери. Суетливые звуки: шагов, шума возни и скольжения – плавно, но неумолимо перемещаются в коридор. Он не хочет ничего слышать, но и не может оторваться от этих звуков, оглушенный и захваченный ими.
По нежным щекам маленького человека текут обжигающие слезы отчаяния:
«Я ненавижу его!»
Ребенок, в жизни которого родители присутствуют нерегулярно, считает окружающую действительность шаткой и нестабильной. С большой долей вероятности у него не сформируется здоровая привязанность к значимым взрослым.
Возьмем, к примеру, случай, когда один или оба родителя страдают алкоголизмом. (Кстати, статистика подтверждает, что в большинстве случаев ВДА – взрослые дети алкоголиков – имеют регулярные депрессивные эпизоды.) Тут получается совсем больная история: один родитель увлечен погоней за веществом, а второй находится в постоянном напряжении от действий первого: придет домой или нет? пьяный или трезвый? с деньгами или без? Получается, что ребенок в этой ситуации остается в одиночестве. Даже находясь близко физически, на практике родители оказываются эмоционально недоступны для него, так как затоплены как в прямом, так и в переносном смысле – алкоголем, иными психотропными веществами и/или своими переживаниями. Могут случаться и моменты счастья: родитель вдруг оказался в ресурсном состоянии, взял дитя на прогулку в парк или просто поговорил-услышал-понял-обнял. Но потом без предупреждения опять может пропасть, закрыться, обозлиться. И так – несчетное количество раз.
Если такая нестабильность регулярна, если родителю сильно не хватает зрелости, осознанности и устойчивости, то у взрослеющего в такой турбулентности человека формируется нарушенная привязанность.
Чаще всего в психологической литературе выделяют три типа привязанности5:
1. Стабильный тип.
2. Тревожный тип.
3. Избегающий тип.
Человек со стабильным типом привязанности в детстве точно знал, что родитель любит его и обязательно вернется вечером домой. Обычно он более или менее понимал, какие эмоции испытывают его родители, а также мог рассчитывать на понимание и сочувствие. В данном случае родитель – простая и понятная картинка.
Но если такая простота в жизни ребенка отсутствует, с привязанностью тоже начинает происходить причудливая история. Второй и третий тип привязанности формируются вследствие нестабильных и непонятных отношений между ребенком и родителем:
• Если не знаешь, чего ожидать от взрослого.
• Если не знаешь, когда ждать возвращения родителя и не уверен, что родитель в принципе сегодня вернется домой.
• Если не уверен, что рядом со взрослыми безопасно.
Предсказуемость мира для маленького человека архиважна – в противном случае он перманентно ощущает себя в кратере вулкана. Ведь тогда становится очень страшно открывать свое сердце этим нестабильным персонажам, маме и папе. Ребенок вынужденно адаптируется к сложной действительности: защищает себя от очередной порции душевной боли и разочарования, учится избегать близости, эмоционально закрываясь, либо постоянно тревожится.
Конечно, и то и другое – и перманентная тревога, и закрытость от мира – негативно влияют на его контакты не только с близкими, но и с другими людьми. Говоря простым языком, ребенку становится очень сложно доверять другим, расслабляться и быть спокойным и довольным, находясь в отношениях. Быть одному становится проще. Так формируется избегающий тип привязанности.
К тому же такой ребенок тратит немыслимое количество энергии на тревогу, беспокоясь за свои отношения, чтобы не дай бог не потерять Другого. Это уже тревожный тип привязанности: а вдруг сейчас опять все рухнет?
В зависимости от состояния и актуального контекста, проявления избегания и тревожности у одного и того же человека могут чередоваться.
Если нарушение, связанное с привязанностью, становится сильно выраженным, у ребенка появляются ощутимые сложности с близостью, сильный дефицит теплых и наполняющих отношений и как следствие – угнетенное и подавленное состояние. Ведь в отношениях, в качественном, искреннем контакте, рождается энергия! А если человечек в этом смысле регулярно голоден, не доедает любви самых близких людей – он становится вялым и потухшим. Словно фонарик, у которого села батарейка.
Причина № 4. Социальная изоляция
Бывает так, что семья живет очень замкнуто. Не принимают гостей и сами ни к кому не ходят. В таких домах не принято спрашивать «Мама, можно Сережа придет к нам в гости?» и составлять список приглашенных на день рождения. Кажется, словно между семьей и миром стоит глухая железобетонная стена. Снаружи не видно, что на самом деле происходит в таких семьях. Наверняка, если поразбираться, почему там все так устроено, можно отыскать много занимательного, но мы сейчас поговорим о том, каково ребенку расти в такой обстановке.
Ощущая эту невидимую Берлинскую стену между собой и миром, он остро чувствует свою инаковость. И тревогу – ведь не зря же стена существует. Видимо, есть серьезная опасность, раз нужно так сильно отгораживаться. Он не знает, как преодолеть эту преграду. Для него выход в мир – каждый раз подвиг.
Другие дети для такого ребенка настолько далеки и непонятны, что ему кажется, будто они с других планет. И легче остаться одному дома, чем пытаться найти общий язык с инопланетянами. Как следствие – отсутствие навыка завязать диалог, быть в безопасном контакте, строить отношения. Все это, конечно, затрудняет ребенку из семьи, склонной к изоляции, устанавливать стабильные дружеские связи.
И ребенок оказывается один. В своей комнате. В своей жизни. Хроническое одиночество провоцирует и подпитывает депрессию.
Причина № 5. Выученная беспомощность и обесценивание
– Да куда же ты пихаешь эту коробку?! Не видишь, из нее уже карандаши высыпаются, да и места для нее в этом кармане нет!
Она почти срывается крик, в гневе швыряет на пол что-то из просыпанной канцелярщины.
– Ну что за ребенок! Руки из одного места растут, ничего нормально сложить не способен!
Разворошенный школьный рюкзак посреди детской, разворошенная и всклокоченная мать. Тонкая мальчишеская рука с зажатыми в ней карандашами робко зависает над рюкзаком в страхе и нерешительности.
– Иди уже куда-нибудь! Не буди во мне лиха, мне проще самой сделать, чем нервы тут с тобой мотать! Только и можешь глазами хлопать, другого толку от тебя нет. Что опять встал? Поторапливайся, опаздываешь!
Глаза в пол, бледная физиономия первоклассника ничего не выражает. Он застыл. Оброс коркой из стекла и оцепенения.
– О-о-о-о! Я так больше не могу! – От бессилия мать закрывает глаза ладонью.
И потому не видит, а скорее ощущает, как маленькие войлочные тапки медленно шаркают восвояси – вероятно, в направлении кухни и вазочки с утешительными конфетами. Это проще, ведь больше ничего не получается.
– За что мне это наказание! – успевает последней стрелой долететь до уныло сгорбленной спины, прежде чем вялая ладошка опускается на рукоятку кухонной двери.
В этой истории мама шлет сыну сразу два разрушительных послания:
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе