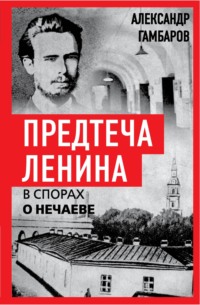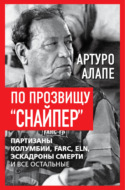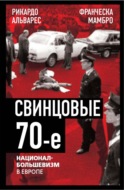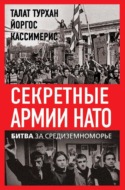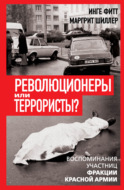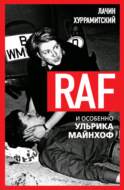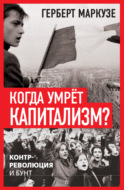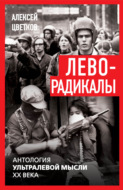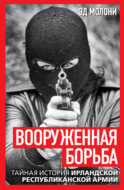Читать книгу: «Предтеча Ленина. В спорах о Нечаеве», страница 3
Дальше этой гипотезы уже некуда идти. Возводить на Нечаева подобную клевету – это значит не только не учитывать никаких социально-политических условий тогдашней России, породивших нечаевское движение, но и обнаруживать историческую беспринципность. Но в подобных выводах Богучарский не одинок.
Вслед за Богучарским, Е. Колосов, который требует пересмотра отношений к Нечаеву, неожиданно заявляет, что «Нечаевская тактика не умерла, а воплотилась в Стефановиче. Но она не застыла и на нем. Нечаев родил Стефановича, после же Стефановича, хотя, как говорит Тун, его деятельность «не вызвала подражания», что совершенно верно, – явилось, тем не менее, еще худшее воплощение, нечаевщины» – Дегаев. Цель оправдывает средства, так охарактеризовал Достоевский Нечаева, и так же оправдывал себя Дегаев.
За Дегаевым много лет спустя пришел Азеф. Как это ни печально, но надо признать, что во всех этих вполне «случайных», в известном смысле, эпизодах проглядывает одна и та же нить развития.
Сделав огромнейшую натяжку от Стефановича к Нечаеву, E. Колосов в дальнейшем завершении своего положения мало, чем отличается от Богучарского.
Делать же переход от Стефановича к Дегаеву, к этому предателю партии «Народной Воли», – это значит не видеть логической ошибки в построении своего силлогизма (ссылка на авторитет Достоевского). А от Дегаева бросаться прямо к Азефу – это уже просто «от лукавого». В таком «пересмотре» ни Нечаев, ни историческая наука не нуждаются, и можно было не призывать современников к «ликвидации» исторических заблуждений о Нечаеве. Но в арсенале легенд о Нечаеве остается еще одна гипотеза, которая неожиданно вдруг всплывает у Л.Г. Деча.
Льву Григорьевичу Дейчу почему-то не нравится, что И. Успенская, родная сестра Веры Засулич, в своих «Воспоминаниях» отображает Нечаева не с общепринятой оценкой, как «мистификатора, лжеца, обманщика и кровожадного вампира».
В своей статье. Г. Дейч пытается опровергнуть положение А.И. Успенской, что Нечаев является выдающейся личностью на общем фоне общественно-революционной жизни того времени. A. И. Успенская нигде не говорит о «гениальности» Нечаева, она дает его таким, каким он был на самом деле, опровергая только ряд возводимых вокруг его имени «легенд». Но статья Г. Дейча представляет и другой интерес.
В ней он выдвигает свою собственную гипотезу о возможных отношениях Нечаева к народовольцам. Полемизируя с народовольцами на страницах повременной печати, Л.Г. Дейч не может успокоиться, что народовольцы после установления сношений с томящимся в Алексеевском равелине более 8 лет Нечаевым решили освободить его и устроить ему побег из равелина.
Отбросивши свои ранние заблуждения о Нечаеве, народовольцы подвергли личность его тщательному пересмотру и пришли к заключению, что в оценке Нечаева слишком много было исторического субъективизма, что при изменившейся тактике политической борьбы Нечаев, с его пламенной преданностью революционному делу, может явиться достойным сотоварищем в их борьбе с правительством.
«Когда Перовская попросила меня, – воспоминает А.И. Успенская, – высказать мое мнение о Нечаеве, я сказала, что, по моему, он слишком рано выступил на сцену, что теперь (1881 г.) он мог бы быть бесценным работником, идя рука об руку с такими же энергичными и беззаветно преданными революционному делу людьми, какими являлись тогда народовольцы. – Мы тоже так думаем, – сказала Перовская. И народовольцы решили освободить Нечаева. Когда на собрании Комитета было прочтено обращение Нечаева, – говорит народоволка В.Н. Фигнер, – с необычайным душевным подъемом все мы сказали: «надо освободить».
Но с этим решением Исполнительного Комитета партии Народной Воли» Лев Дейч никак не может примириться.
Задним числом, спустя 43 года после решения Комитета, он как бы пытается предостеречь Комитет от ложного шага, который он предпринял в связи с освобождением Нечаева. «Естественно поэтому поставить вопрос, говорит Дейч, – была ли бы роль Нечаева плодотворна, если бы удался задуманный им заговор и он присоединился бы к террористам? Я полагаю, что нет, так как для применения его приемов не было соответствующей почвы…
Очутившись на воле, Нечаев ничего не изменил бы в усвоенной им системе… Можно с уверенностью сказать, что, как бы народовольцы ни ставили высоко энергию Нечаева и фанатическую его преданность делу, все же им вскоре стало бы невмоготу мириться с ним: он так же компрометировал бы их, как Бакунина, Огарева, дочь Герцена и др. за границей.
«Возможно, конечно, не ограничиваясь одной компрометацией, Нечаев, чтобы отделаться от тех или других признанных им вредными членов организации, расправлялся бы с ними, как с несчастным студентом Ивановым»5.
Говоря другими словами, Лев Дейч глубоко убежден, что Нечаев так же убивал бы народовольцев, как убил он Иванова, все равно, оказался бы то Желябов, Перовская, Суханов, Фроленко или кто другой, которого Нечаев «признал бы вредным членом организации». Но для этого нужно, чтобы перечисленные члены Исполнительного Комитета оказались «вредными членами организации» и такими же предателями, как Иванов.
Самому Л.Г. Дейчу прекрасно известно, как относятся революционеры к предателям, все равно, будет ли то Иванов или Горинович, на которого покушался некогда и сам Дейч6.
Перед этим Л. Дейч приводил ссылку на не совсем объективное письмо Бакунина к Талвитие, после своего разрыва с Нечаевым в июле 1870 г.
Если в чем действительно прав Л.Г. Дейч, так это в своем прогнозе возможной реабилитации Нечаева. «Пересмотр и переоценка деятельности Нечаева, – говорит он, – его «реабилитация» должны были бы состоять или в доказательствах, что к приписываемым всеми, за исключением одной А.И. Успенской, возмутительным приемам он, Нечаев, совсем не прибегал, или же, наоборот, необходимо было бы прямо заявить, что примененные Нечаевым, по сообщению Бакунина и других, средства не только не были вредны, но являлись вполне целесообразными, а потому содействовали скорейшему торжеству революции».
С такой постановкой вопроса реабилитации Нечаева, которую предложил неожиданно сам Л.Г. Дейч, мы вполне согласны и думаем руководствоваться ею на протяжении всей нашей работы о Нечаеве в плоскости его исторической реабилитации. Ниже, касаясь политического мировоззрения Нечаева, нам придется более подробно остановиться на основных приемах тактики политической борьбы Нечаева и вскрыть классово-революционную сущность ее.
Являясь далеким провозвестником классовой борьбы, Нечаев в истории нашего движения один из первых применил именно те приемы тактической борьбы, которые нашли более широкое и глубокое воплощение в движении русского большевизма, боровшегося одинаково как со своими классовыми врагами, так и со своими политическими противниками – меньшевиками и эсерами. То, что Дейчу больше всего не нравится в Нечаеве, это именно и можно поставить в заслугу Нечаеву. Поэтому вполне определенно можно сказать, что тактические приемы Нечаева не только не были «вредными», но, наоборот, «вполне целесообразными», а потому содействовали «скорейшему торжеству революции».
Что же касается первого положения Л. Дейча, что реабилитация Нечаева заключается «в доказательствах, что к приписываемым всеми, за исключением одной А.И. Успенской, возмутительным приемам, он, Нечаев, совсем ни прибегал», то и это положение поможет нам реабилитировать7.
Из изложенного выше не трудно заключить, что почти все возводимые на Нечаева обвинения были ложью со стороны их авторов, являвшихся политическими, а, следовательно, и классовыми противниками Нечаева. Обвинения классовых врагов всегда служат гарантией революционеру, что взятая им тактика политической борьбы является наиболее целесообразной для данного времени. А что его политические противники были в то же время и классовыми врагами, так это нетрудно установить из анализа предшествующего периода общественной борьбы в России, из которого и вырастало враждебное Нечаеву народническое движение.
Глава вторая Исторические корни нечаевского движения
Выше указывалось, что с понятием о нечаевском движении обычно связывалось представление, как о каком-то незначительном «эпизоде» в истории русской революционной мысли, – эпизоде» вполне изолированном, корни которого не прослеживаются ни в предшествующих моментах освободительного движения, ни в последующих этапах революционной борьбы.
С легкой руки таких буржуазных историков, как Тун, Богучарский и другие, это представление постепенно начало укореняться в нашей исторической литературе, пока не заняло довольно прочного места. Что это так – стоит заглянуть в любой учебник или в очерк по истории революционного движения, чтобы обнаружить, насколько ошибочное представление о Нечаеве и нечаевском движении является общим местом для целого ряда авторов.
Самостоятельно не прорабатывая исторического материала, подобного рода авторы зачастую довольствуются готовыми выводами, не замечая, что этим самым они повторяют выводы своих идеологических противников. Подобный взгляд на «эпизодичность» нечаевского движения по существу является чистейшим измышлением буржуазных историков, классовая позиция которых выпирает из каждой их строчки. Бессильны проникнуть в социально-экономическую зависимость исторических событий, буржуазные историки также бессильны по части определения подлинной исторической сущности того или иного события.
Отсюда вполне понятно, что в нечаевском движении они могли увидеть не что иное, как, эпизод», и притом эпизод, «кошмарной страницей» вошедший в историю русского революционного движения. Нечаевское движение представляет тот исключительный интерес, что в его содержании можно легко проследить зародыши той классовой борьбы за социальную революцию, которая спустя несколько десятилетий так ярко развернулась в период выступления на историческую сцену русского рабочего класса, руководимого социал-демократами большевиками.
В классовой сущности нечаевского движения и заключается его интерес и политический смысл в истории революционной борьбы.
Понятно, не в интересах же буржуазных идеологов раскрывать было историческое содержание нечаевского движения и определять действительное место его в истории. Буржуазная мысль историков так же отшатывалась от этой страницы классовой борьбы, как отшатывались в свое время первые представители зарождавшегося буржуазно-революционного движения.
Возникшее на рубеже 60-х и 70-х годов, в то время, когда рабочий класс не успел еще выступить на историческую сцену, нечаевское движение в своей борьбе с российским самодержавием должно было столкнуться с началом политического движения буржуазии. Ведя борьбу с самодержавием, оно в то же время должно было начать борьбу и с движением революционно-буржуазной мысли.
Поэтому, чтобы понять нечаевское движение, необходимо прежде всего вскрыть эту сложную и в то же время крайне противоречивую общественно-политическую ситуацию, которой определялся характер движения 60-х г.
с общественно-политическим содержанием которого приходилось сталкиваться нечаевскому движению.
Шестидесятые годы прошлого столетия характеризуются активным выступлением различных по своему экономическому и политическому положению общественных группировок. Все, что дремало в период мрачного тридцатилетнего царствования Николая I, к моменту 60-х годов, после самоубийства коронованного жандарма, начало активно выявлять свои скрытые Силы. По меткому выражению М.Н. Покровского, вся николаевская система «могла держаться, как консерва, только в герметически закупоренной коробке. Стоило снять крышку – и разложение началось бы с молниеносной быстротой: эра буржуазных реформ 60-х годов доказала это на опыте». Но эту аналогию можно расширить значительно дальше. С «герметически закупоренной коробкой», какой представлялась николаевская система, давно уже было неблагополучно. Процесс разложения внутри этой «коробки» происходил в течение всего периода царствования Николая I.
К концу царствования эти процессы достигли такой силы, что «коробка» лопнула прежде, чем снята была «крышка». Севастопольская катастрофа 1854–1855 года была следствием взрыва давно уже назревших процессов разложения.
Чем же были вызваны эти процессы? А тем, что внутри этой «системы коробки» давно уже развивался микроб, имя которому русская буржуазия. Поэтому, чтобы понять во всей полноте результаты этого процесса, необходимо вскрыть экономические корни самого микроба, то есть выявить экономический и политический рост зарождавшейся молодой русской буржуазии. Начало XIX века характеризуется для России усиленным ростом промышленности, а, следовательно, крупным этапом развития русского капитализма.
Вокруг крестьянской реформы к этому времени столкнулись различные общественные группировки и течения, успевшие образоваться в обстановке проникновения в крепостное хозяйство буржуазных форм производства. Несмотря на решающее значение экономического фактора, дворянство всеми силами пыталась сохранить за собою и те права и привилегии. которыми оно располагало в качестве собственника на землю. В связи с этим, вокруг крестьянского вопроса столкнулись два наиболее открытых течения. Одно течение прежде всего пыталось всеми силами отстоять и сохранить за помещиками его исконное и абсолютное право на владение всей землей. Крестьян можно было освободить за известный выкуп, но освободить без земли. Земля целиком должна была оставаться в руках помещика, как единственного собственника ее, – крестьянин мог арендовать ее у помещика, но только не владеть ею.
Это течение в дворянской среде, которое по существу ничего не меняло в прежних формах крепостного рабства, можно охарактеризовать, как течение феодальное.
Другая группировка, отстаивавшая не менее рьяно свои права, во главу угла своих домогательств ставила условие возможно полного обеспечения себя необходимым капиталом и наличием свободной рабочей силы.
Эта группировка считала возможным поступиться своими «священными» правами на землю, но зато требовала, чтобы это право было продано крестьянам по возможности дороже.
Нетрудно разгадать, что эта группировка отражала интересы той части русского дворянства, которая успела уже в достаточной мере проникнуться буржуазной идеологией, для которой вопрос накопления капитала являлся самым существенным фактором ее благосостояния. Это течение отражало интересы буржуазного русского дворянства. Наконец, было еще третье – компромиссное течение, которое пыталось примирить оба предыдущие. Оно отстаивало право сохранить за помещиком возможно большее количество земли, и в то же время – домогалось по возможности больше содрать с крестьян за их «волю» и те ничтожные клочки земли, которые все же приходилось оставить за ними.
В сущности эта компромиссная точка зрения и одержала верх над всеми течениями в возвышенном вопросе «освобождения крестьян от крепостной зависимости». Она одинаково удовлетворяла эксплуататорским наклонностям как тех, так и других, и сулила достаточно крупные выгоды в будущем. Таким образом, намеченные в период «николаевской системы» буржуазно-капиталистические тенденции к началу 60-х годов начали охватывать и наиболее широкие слои русского дворянства. Экономический рост торгово-промышленной буржуазии, развитие денежного хозяйства в результате выхода русского хлеба на европейский рынок – толкали русское помещичье дворянство на путь буржуазно-капиталистических взаимоотношений.
Перенося свои капиталистические тенденции в деревню, дворянство этим самым затрагивало и развитие основ крестьянского хозяйства, которое в свою очередь втягивалось в русло буржуазных взаимоотношений, сохраняя в то же время старые формы натурального хозяйства. При таком разнообразном и притом крайне противоречивом сочетании различных форм хозяйства, с одной стороны – барщинного, а с другой капиталистического, с одной натурального, а с другой денежного, – в деревне неизбежно должен был обозначиться ряд сложных конфликтов и глубоких противоречий, под влиянием которых наиболее неприспособленные к изменившимся экономическим взаимоотношениям хозяйства должны были разрушиться или претерпеть глубокий экономический кризис.
Предпринятая реформа всей своей тяжестью прежде всего обрушилась на крестьянское хозяйство. Юридически крестьяне как будто были освобождены от крепостной зависимости, но экономически они были подчинены помещику значительно больше, чем при крепостном строе. Необходимого количества земли для ведения хозяйства крестьянин не получил. Большая и притом самая лучшая часть земель была оставлена за помещиками. Достаточно указать, что из 79 миллионов десятин, считавшихся за помещиком перед началом реформ, только 12, 5 млн десятин переходило в руки крестьян, т. е. только одна шестая часть.
Если же брать по губерниям, то в таких черноземных губерниях, как Херсонская, где на одну душу населения приходилось 24,4 десятины, помещики считали возможным уступить крестьянам только от 1,3 до 3 десятин надушу, а в Таврической, – где на душу приходилось 56 десятин, могли уступить не меньше 3 и не больше 5 десятин. Такое урезывание наблюдалось и в других губерниях как черноземных, так и нечерноземных. Но этого было еще мало, – за свою землю крестьянин должен был заплатить не столько, сколько она стоила на самом деле, а в два, три, а то и в четыре раза дороже ее действительной стоимости.
Понятно, что таких денег крестьянин не мог сразу выплатить помещику – он не располагал еще такой суммой. Стоимость надела он должен был выплачивать в течение ряда десятков лет. Этот «выкуп», под видом всякого рода налогов и податей, тяжелым бременем ложился на крестьянское хозяйство, которое долгое время не могло выкарабкаться из тех тенет, в какие вовлекло его дворянство. Общий баланс крестьянского хозяйства неизменно был отрицательным, расход значительно превышал приход.
Чтобы иметь возможность ежегодно выплачивать подати, крестьянин должен был распродавать часть своего инвентаря или выбрасывать на рынок большую часть хлеба, урывая этим до минимума свои собственные потребности.
В результате, благодаря реформам, бюджет крестьянского хозяйства с каждым годом падал все ниже и ниже.
Полуголодная жизнь и вечный страх перед помещиком или царским чиновничеством, собиравшим подати, – вот та плата, в которую обошлась крестьянину его мнимая «земля» и «воля». Но наряду с экономической зависимостью – крестьянин должен был почувствовать на себе весь гнет и своего политического бесправия. «Освобождение» не принесло крестьянину никаких политических прав.
После «освобождения» он также подвергался неограниченному произволу со стороны помещика и всякого рода чиновников, как и при крепостном строе.
Вся законодательная и исполнительная власть оставалась в руках тех же помещиков, как и до проведения реформ. Даже пресловутое «мирское самоуправление», которое не без тенденции было сохранено под видом «крестьянской общины», и то явилось одним из факторов политического и экономического закабаления крестьян. «Круговая порука всего мира» обеспечивала правительству и помещикам регулярность выплаты налогов и податей.
Таким образом, в результате предпринятых реформ благосостояние крестьянского хозяйства нанесен был существенный удар, толкавший его на путь неизбежного развала. Те сотни миллионов рублей, которые вкладывались помещиками в железнодорожные компании и всякого рода акционерные общества, выколачивались из крестьянства и доставались ему ценой мучительного голода.
В свою очередь, охватившая верхние дворянские круги промышленная горячка обостряла дороговизну и способствовала поднятию цен на предметы первой необходимости.
Платя за все двойные, а то и тройные цены, крестьянин должен был напрягать свои последние силы, производя распашку земли до полного ее истощения. Малейший неурожай мог в корне потрясти его скудное хозяйство. Безгласный, экономически и политически придавленный, он не мог даже надеяться на более или менее благоприятное улучшение своего положения. Под бременем лежащих на нем изнурительных налогов он принужден был бросать иногда свое хозяйство и поступать в батраки или, распродав остатки имущества, уходить в город на заработки, где, попадая на фабрики, увеличивал собою кадры городского пролетариата.
Но если предпринятые реформы ничего не принесли крестьянству, кроме сугубого разорения, то в связи с реформами не совсем гладко обстояло дело и в среде самого дворянства. Крестьянская реформа внесла резкое расслоение и в помещичью среду. Что это так, достаточно указать на распределение земель среди самого дворянства. Значительная часть земель перешла в руки крупнопоместных дворян. Только 0,07 всей дворянской земли оставалась в руках мелкопоместных дворян, имевших каждый не более 100 десятин земли. Остальные 0, 93 находились в руках крупнопоместных дворян, которые составляли всего лишь 0,1 общей дворянской массы. Но из этой сравнительно незначительной части крупнопоместного дворянства выделялась небольшая кучка земельных магнатов, владевших каждый более 5000 десятинами. Это была самая могущественная часть русского дворянства, и самая влиятельная, так как в ее распоряжении находилось 0,6 дворянской земли. Неравномерное распределение земель в среде самого дворянства расслаивало дворянскую среду на мелкопоместных и крупнопоместных дворян. Насколько мелкопоместное дворянство было экономически менее могущественным, настолько крупнопоместное дворянство концентрировало в своих руках огромные капиталы. Располагая экономическим двигателем, дворянская «знать» держала в своих руках и политическое могущество. Концентрируя огромнейшие капиталы, дворянская «верхушка» фактически заправляла страной не только в области экономики, но и в области политики. Служа первой опорой самодержавию, она заодно с правительством участвовала в крупнейших промышленных предприятиях государства. В свою очередь и самодержавное правительство в лице этой части дворянства видело свою надежную опору.
Итак, в результате предпринятых реформ самодержавие вышло более окрепшим, чем было оно до 1861 года.
Разъедаемое внутренними противоречиями в период «николаевской системы», в связи с реформой, оно не только не пошатнулось, как опасались того «на верхах», а, наоборот, значительно упорядочилось и вышло на широкую арену экономической эксплуатации масс, принарядившись теперь в новые буржуазно-европейские одежды. В связи с реформами произошла и политическая перегруппировка общественных сил, что в свою очередь не могло не отразиться на умонастроении общественных кругов тогдашней России.
Прежняя феодально-крепостническая Россия определенно вступала на путь буржуазно-капиталистических взаимоотношений. Не говоря о крестьянстве, которое претерпело тяжелое потрясение хозяйственных основ, проведенная реформа подвергала разорению и значительную долю мелкопоместных дворян. Выкупные ссуды, которыми оно располагало в первые годы после падения крепостного права, не могли обеспечить его на более продолжительный срок. Реформа оказалась выгодной только правительству да той кучке крупнопоместного дворянства, которая владела огромными угодьями. Что же касается мелкопоместного дворянства, то с потерей права на крепостной труд оно принуждено было жить теперь только на ренту.
Но этой ренты далеко не хватало для жизни мелкопоместному дворянину с его широким помещичьим размахом. Поставленное в такие условия, мелкопоместное дворянство естественно переживало упадочническое состояние. Постепенно разоряясь, оно принуждено было в конце концов пойти на службу к правительству в качестве чиновников или к тому же самому крупнопоместному фактор своего развития.
Численно преобладающая, эта группировка сама хотела участвовать в аппарате государственного правления, Форма широкого представительства различных общественных группировок служила для нее наиболее приемлемой формой правления. Идея Всероссийского Земского Собора являлась конечным идеалом ее политических устремлений. Не трудно определить, что данное течение представляло собою либерально-демократическое течение в русском обществе.
И, наконец, та часть разночинной интеллигенции, для которой существующие политические формы являлись величайшим фактором, задерживающим рост общественных сил, представляла собою радикально-социалистическую группировку в русском обществе. Правда, «социализм» этой группировки не обуславливался классовым характером строения общества, а представлял собою расплывчатый социализм западно-европейских утопистов, воспринятый разночинной интеллигенцией из социалистической литературы.
Тем не менее, конечным идеалом этой группировки являлась ниспровержение существующего политического и экономического строя во имя торжества революции. Это была молодая, количественно незначительная, но достаточно радикально настроенная часть русского общества, сумевшая порвать с существующим строем и взвалить на свои плечи начало непримиримой борьбы за социалистические основы будущего. Но сама по себе разночинная интеллигенция не представляла однородной массы.
Это была крайне сложная и пестрая по-своему классовому составу общественно-политическая группировка; здесь сталкивались и переплетались обломки различных общественных классов – от выходцев из крестьянской среды, детей чиновников и духовенства до представителей разорившегося мелкопоместного дворянства, вносившие с собою и элементы идеологии своей среды. Благодаря такой классовой пестроте, политические устремления данной социалистической группировки не были свободны от неизбежной двойственности; с одной стороны – буржуазно-демократического течения, а с другой – революционно-социалистического. Сергей Нечаев был одним из самых ярких и крайних представителей этого социально-революционного течения в среде разночинной интеллигенции. Благодаря своему полупролетарскому происхождению, он смутно, но все же улавливал неизбежность классового характера предстоящей борьбы за социализм, восприняв из западно-европейских учений не утопический радикализм, а элементы коммунистического учения Гракха Бабефа, перенесенного им в русские условия. Поэтому, чтобы понять Нечаева, необходимо прежде всего вскрыть не только политическую программу каждой из указанной выше политических группировок в среде русского дворянства, но также и социальный генезис самой разночинной интеллигенции, в среде которой протекала революционная деятельность Нечаева.
Основные кадры разночинной интеллигенции начали складываться еще в 50-х годах. Но при крепостном строе интеллигенция не могла играть сколько-нибудь заметной общественной роли. Экономически слабая, она представляла тонкую прослойку в общественной среде. Ряды ее начинают пополняться лишь с момента, когда наметившийся распад крепостного строя начал принимать прогрессивный характер.
Разорение мелкопоместного дворянства началось далеко еще до освобождения крестьян. Детям разорившихся дворян невольно приходилось искать себе заработок, чтобы снискать средства существования.
Утратив свои имущественные привилегии, они уходили в университеты, где сталкивались с представителями других сословий. Тут были дети купеческого или духовного звания, дети чиновников, а иногда и дети выкупившихся из крепостной зависимости крестьян. Из этой разной по своему чиновному положению учащейся молодежи медленно отслаивалась своеобразная общественная группировка, получившая название разночинной интеллигенции.
Органически не связанная с формами крепостного быта, она смотрела на свои родовые и имущественные привилегии, как на известного рода тормоз в своем развитии.
Материально не обеспеченная, разночинная интеллигенция принуждена была добывать средства к существованию своим собственным трудом. Наличие образования являлось единственным средством в этой борьбе. Только лишь с помощью университетского образования разночинец и мог достичь известного положения в общественной среде.
Но в условиях старого патриархально-крепостного строя для разночинца все же не было достаточных точек приложения своих сил. Лишь в связи с обострением общественных противоречий, во второй половине 50-х годов, когда на очереди встал вопрос о крестьянской реформе, разночинец почувствовал, что для него наступила благоприятная пора. В обществе открыто заговорили о необходимости реформ. Не связанная с условиями крепостного труда, разночинная интеллигенция меньше всего была заинтересована в сохранении крепостного строя. Наоборот, крепостной строй только задерживал развитие ее собственных сил. Заняв резкую позицию в отношении к намечаемым реформам, разночинная интеллигенция посвящала значительную часть своих сил общественной деятельности, стремясь по возможности ускорить процесс падения крепостного строя. Из ее среды выходили видные писатели, публицисты и общественные деятели, которые своим пером и словом немало способствовали организации общественного мнения в области возможно скорейшего и полного падения крепостного строя. Университетские аудитории в то время служили своеобразными лабораториями политического оформления общественной мысли. С отменой ограничительных норм приема в высшие учебные заведения ряды разночинной интеллигенции начали быстро расти. Жажда образования и стремление найти выход из создавшихся социальных противоречий толкали прежде всего разночинную молодежь в стены высших учебных заведений.
Здесь запасалась она положительным знанием и приобретала ту общественную восприимчивость, которая так необходима была в предстоящей борьбе.
Но особенно быстро начали пополняться ряды разночинной интеллигенции с отменой крепостного права.
Развивающиеся буржуазно-капиталистические отношения, рост торговли и промышленности требовали прежде всего довольно значительный штат специалистов по различным отраслям знания и техники. Такие кадры могли формироваться лишь из разночинной молодежи, и молодежь массами шла в высшие учебные заведения. Выше указывалось, что падение крепостного строя усилило процесс распада мелкопоместного дворянства.
Детям разорившихся дворян ничего другого не оставалось, как идти на служение растущим требованиям капитала. Чтобы снискать необходимые средства к жизни, прежде всего приходилось запастись тем или иным знанием. Поступая в высшие учебные заведения, дети разорившихся дворян естественно попадали под влияние окружающей среды и наряду с запасом положительных знаний – впитывали и «яд» социальных противоречий. Обострению социальных противоречий в среде учащейся молодежи способствовало в значительной мере и то обстоятельство, что наряду с детьми разорившихся дворян в стены высших учебных заведений начала постепенно просачиваться и волна детей низших непривилегированных сословий. Тут были дети городских ремесленников, дети чиновников и мещан, а то просто и дети крестьян. Под влиянием мощного притока разночинной интеллигенции снизу была внесена свежая социальная струя в затхлую академическую жизнь.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе