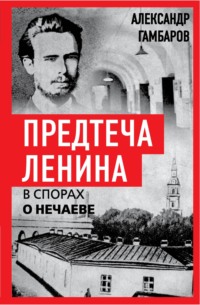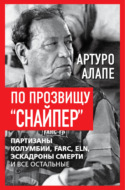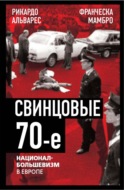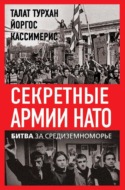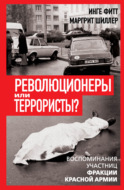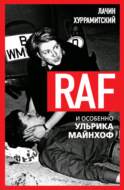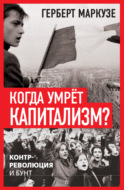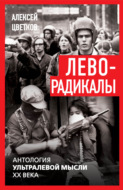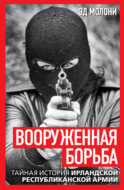Читать книгу: «Предтеча Ленина. В спорах о Нечаеве», страница 6
Прежде всего необходимо было вовлечь в организацию наиболее подходящих для этой цели людей. Успенский указал Нечаеву на студентов Петровской сельскохозяйственной академии и в частности на студента Долгова, пользовавшегося доверием среди студентов. Познакомившись с Долговым, Нечаев развернул перед ним план организации революционного общества, и когда тот согласился с этим планом, Нечаев предложил ему войти в число членов этого общества. Долгов согласился и вступил в организацию. Через Долгова Нечаев познакомился и с другими студентами Петровско-Разумовской академии: Кузнецовым, Романом и Ивановым. Лично переговорив с каждым из них в отдельности и получив согласие каждого на вступление в число членов революционного общества, Нечаев составил первый революционный кружок из студентов Петровской сельскохозяйственной академии. Этот кружок получил название «основного» кружка, в состав которого вошло пять человек: Долгов, Кузнецов, Рипман, Иванов и сам Нечаев.
Организационный план Нечаева состоял в следующем. Для создания намеченного революционного общества, долженствующего иметь всероссийское значение, необходимо было в ряде крупнонаселенных пунктов и промышленных местечек развернуть целую сеть кружков различных степеней. Москва же должна была стать начальным пунктом всей организации. Созданный в Москве «основной» кружок в свою очередь должен был развернуть вокруг себя сеть новых кружков нисходящих степеней. В первую очередь каждый из членов, основного» кружка должен был образовать по кружку из 56 человек, из которых каждый получал название кружка, І степени». В свою очередь, каждый из членов этого кружка, I степени» должен был составить по кружку «II степени», а каждый из членов кружка «II степени» образовать по новому кружку «III степени» и т. д. Словом, из таких кружков, по мере их роста, для данного населенного пункта, каким намечена была в первую очередь Москва, должна постепенно образоваться стройная сеть кружков. В свою очередь, из состава этих кружков должны были быть выделены наиболее активные члены, которые составили бы «отделение». «Отделение» являлось высшим органом, оно руководило и направляло деятельность организации в данном населенном пункте. Аналогичная сеть кружков должна быть развернута и в других крупных городах, а также выделены соответствующие «отделения».
В свою очередь, развернутая сеть «отделений» в ряде крупных городов, выделяя наиболее выдающихся членов, должна была составить «Центральный Комитет» организации, непосредственно связанный с заграничным центром Интернационала. Согласно выработанному уставу, в организации должна была существовать строжайшая дисциплина. Все члены низших кружков обязаны были подчиняться и сноситься не иначе, как только через своего руководителя из высшего кружка. Этим достигалась, с одной стороны, необходимая централизация, без которой невозможна была никакая революционная деятельность, а с другой – наличие необходимой конспирации, при которой раскрытый полицией какой-нибудь один из кружков не мог повлечь за собою провала всей организации. В качестве одной из конспиративных мер было признано удобным называть друг друга не по имени или фамилии, а по номерам. В первую очередь Нечаев предполагал развернуть сеть кружков в Москве, а потом уже в ряде других городов: в Петербурге, Харькове, Киеве, Одессе В Москве ему удалось втянуть в организацию несколько десятков человек и образовать, помимо «основного» кружка – кружки I, II, III степени, выделить московское «отделение» и приступить к началу организации в Петербурге.
Основной задачей своей деятельности революционное общество «Народная Расправа» ставило широкую агитацию с целью произвести государственный переворот и уничтожить существующий экономический и политический строй путем захвата власти силами организованной партии при активной поддержке всего народа.
На обязанности каждого члена организации лежало ведение революционной агитации среди городского и сельского населения. С этой целью одна часть членов предназначена была для ведения агитации среди студенчества, другая – среди рабочих и третья – среди крестьян. Но революционная деятельность общества не ограничивалась одной только агитацией. В программу общества входила и непосредственная политическая борьба с самим царским правительством. До наступления всенародного восстания деятельность общества могла натолкнуться на непреодолимые препятствие со стороны самого правительства.
Чтобы ослабить его, предполагалось ввести систему политического террора. Для этого намечен был список наиболее видных царских генералов, успевших зарекомендовать себя в качестве наиболее ревностных гонителей революционной мысли, на которых предполагалось совершить ряд покушений. В состав этого списка попали такие генералы III отделения, как Мезенцев, Трепов, Шувалов, Тимашев, Потапов, а также и наиболее отъявленные реакционные публицисты, как Катков, Градовский и Погодин.
Но намеченным планам Нечаева не удалось осуществиться.
Выше отмечалось, что среди учащейся молодежи во II половине 60х гг. господствовало по преимуществу общественно-этическое движение, ставившее перед собой не задачи революционной борьбы, а свое личное нравственно-этическое развитие. С этим течением Нечаеву приходилось сталкиваться во время студенческих волнений зимой 1868 и весной 1869 г., с этим течением воочию ему снова пришлось столкнуться и внутри своей организации.
Нечаев попросту ошибся в выборе своих товарищей. Большинство членов общества хотя и были достаточно честные люди, но совершенно непригодные к революционной деятельности.
Отсутствие дисциплины и ребяческая болтливость грозили взорвать изнутри всю организацию. Лично Нечаеву приходилось почти разрываться на части и самому выполнять значительную долю всей работы по организации, но это было еще не все.
Среди членов общества оказались люди, которые заведомо вносили дезорганизацию и не желали подчиняться основным правилам устава. Доходило до того, что некоторые возымели желание сами распоряжаться, хотя для этого у них не было ни опыта, ни умения, ни тем более той горячей преданности революционному делу, которыми обладал сам Нечаев. Особенно такое неподчинение обнаружил студент Иванов. Являясь членом «основного» кружка, он не только не понимал своих прямых обязанностей, но умышленно подрывал дисциплину в организации. Не стесняясь, он часто разбалтывал посторонним лицам о существовании в Москве тайного революционного общества, что неминуемо грозило провалом всей организации.
Понятно, что подобное поведение Иванова было совершенно недопустимым фактом в революционной организации.
В связи с поведением Иванова между ним и Нечаевым неоднократно происходили крупные объяснения. В своем тупом ослеплении Иванов дошел до того, что задумал даже расколоть организацию и образовать свою, отдельно от Нечаева.
В связи с этим, среди членов Московского отделения поднят был вопрос о поведении Иванова и о дальнейшем пребывании его в организации. Но Иванов не хотел считаться с решением отделения. Это был самолюбивый и крайне ограниченный человек.
Желая отомстить Нечаеву, Иванов решил донести на него полиции. Выходило, что свой же член организации становился опаснее всякого врага. А так как на Иванова нельзя было подействовать никакими советами, никакими увещеваниями, то решено было помешать ему привести в исполнение задуманный им план доноса на организацию. Чтобы спасти организацию, в которой насчитывалось уже до 80 членов, решено было отделаться от такого предателя, как Иванов. Революционная борьба всегда требовала и требует применения самых решительных мер во имя спасения самого дела. Когда в семью революционеров проникает предатель, с ним поступают достаточно круто – его убивают. Точно так же поступили и с Ивановым. 21 ноября 1869 г. по постановлению «отделения» Иванов был убит, и труп его был брошен в прорубь пруда. На другой день Нечаев вместе с Кузнецовым уехали в Петербург для продолжения прерванной работы по организации петербургского «отделения». Но организации уже не суждено было продолжить начатую в России работу. 25 ноября был обнаружен труп убитого Иванова, которого кстати не сразу опознала полиция.
Этому факту полиция быть может и не придала бы особого значения, если бы, независимо от начатого следствия по поводу убийства Иванова, III Отделение не имело бы давно в своих руках сведений о существовании в Москве революционного общества, и что общество это какими-то путями связано с книжным магазином Черкесова, в котором служил Успенский. Во время обыска в книжном магазине Черкесова, а также и на квартире Успенского обнаружены были важные бумаги, среди которых найден был список всех членов организации. По этому списку начались массовые аресты, так что через несколько дней из всех членов организации редко кто находился на свободе. Большинство членов было арестовано, а вместе с этим целиком раскрыто было и само общество. Видя это и сознавая, что раскрытие организации произошло не иначе как путем предательства, Нечаев волей-неволей принужден был спасаться от преследований полиции. Ему ничего не оставалось, как снова бежать за границу. После долгих мытарств, в связи с приобретением заграничного паспорта, 17 декабря 1869 г. Нечаев снова перебрался за границу и через некоторое время был в Швейцарии, где снова встретился с Бакуниным.
Неожиданный провал организации не мог сломить революционной воли Нечаева.
Наоборот, он твердо продолжал верить, что в России только начинает закипать революционная борьба. Явившись в Швейцарию, он решил, не теряя ни одной минуты, сейчас же приступить к восстановлению разрушенного «дела». В это время Бакунин был занят переводом I тома «Капитала» Маркса. Считая, что при сложившихся обстоятельствах какая бы то ни была литературная работа могла только отвлечь внимание Бакунина от непосредственной практической деятельности, Нечаев настоял, чтобы Бакунин на время оставил эту работу и целиком сосредоточил свое внимание на интересах русской революции. Бакунин согласился и оставил эту работу, тем более что перевод «Капитала» подвигался у него с большим трудом. Предвидя возможное уныние среди оставшейся в России учащейся молодежи, Нечаев не считал возможным оставить ее без печатного революционного слова. С этой целью он приступил к изданию за границей № 2 своего журнала «Народная Расправа».
В ряде статей Нечаев попытался обосновать намеченную организацией революционную тактику. Выбросив лозунг – «кто не с нами, тот против нас», Нечаев категорически отмежевался от какой бы то ни было половинчатости в революционной деятельности, отшвырнув возможность какого бы то ни было сотрудничества революционной молодежи с умеренным либерализмом других группировок. Для достижения намеченной цели и сохранения наличия революционно-боевых сил, прежде всего нужна была организация революционной партии, спаянной дисциплиной и единством коллективной мысли.
Далее, набрасывая «Главные основы будущего общественного строя», Нечаев вплотную подошел к обоснованию своей политической программы.
Для определения политических взглядов Нечаева эта статья представляет исключительный интерес. В ней Нечаев впервые подходит к вопросу о будущем коммунистическом строе. Ссылаясь на «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, в котором, по мнению Нечаева, уже дано подробное теоретическое развитие его главных положений», Нечаев пытается сосредоточить внимание молодежи на практических выводах, рисуя структуру будущего коммунистического общества. Ошибочно было бы думать, что в своей практической революционной деятельности Нечаев был последовательным учеником Бакунина. Прежде всего Нечаев был коммунистом. Коммунистические взгляды Нечаева сложились задолго до знакомства его с Бакуниным. Влияние идеи Гракха Бабефа определило политическое мировоззрение Нечаева далеко еще до момента вступления его на революционный путь и сохранено было им до самого конца его жизни. Анархический налет, допущенный им в некоторых теоретических настроениях, обусловливался исключительно обаянием личности самого Бакунина, дружба с которым не прошла бесследно для Нечаева.
Начиная с первых дней вторичного своего пребывания за границей, Нечаев быстро отходит от какого бы то ни было влияния Бакунина. Встретившись с ним, Нечаев обнаружил, насколько сам Бакунин был малопригоден в качестве практического деятеля русской революции. Двойственность личности Бакунина, его пристрастие к революционной фразе и неумение целиком подчинить себя основным требованиям революционера-борца вскрывали перед Нечаевым различие путей их политических устремлений. Несмотря на существующую еще близость с Бакуниным, Нечаев постепенно начинает отходить от него, а вместе с тем постепенно начинает гаснуть и та дружба, которая связывала их в течение последнего года. Особенно резко сказалось это расхождение в период, когда заглохший с 1867 года Герценовский «Колокол» перешел в редакционные руки Нечаева. Различие политических воззрений между Нечаевым и Бакуниным привело к тому, что последний добровольно отстранился от участия в редакции Нечаевского «Колокола» и только по временам, в ряде обращений «в редакцию», заявлял о своем расхождении с ним.
Таким образом, неизбежно назревал тот неминуемый конфликт, который, приводил к разрыву между Нечаевым и Бакуниным, закончившемуся личной ссорой между ними, после того как Нечаев отказал Бакунину в выплате ему ежемесячного содержания из средств так называемого «общего фонда» и не подчинился намеченным экпроприационным замыслам Бакунина. В Женеве Нечаев успел издать только шесть номеров Колокола». В июле 1870 года произошел формальный разрыв между Бакуниным и Нечаевым.
В августе Нечаев переезжает в Лондон и приступает здесь к изданию нового журнала, La Commune («Общинный»), теперь уже определенно коммунистического направления. В первом номере этого журнала Нечаев публикует свое письмо к Бакунину и Огареву, в котором вскрывает социальные корни их политических разногласий. Это письмо Нечаева заканчивает словами: «я глубоко уверен, что вы (т. е. Бакунин и Огарев) никогда не выступите более, как практические деятели русской революции. Порвав с Бакуниным, Нечаев пытается заложить основы нового революционного объединения.
С этой целью он заводит связи с рядом русских революционеров. Но тут ему пришлось натолкнуться на серьезные препятствия. За Нечаевым в Западной Европе к этому времени установлена была настоящая погоня. Разуверившись в возможности поймать его своими собственными силами, царское правительство попыталось прибегнуть к самой гнусной клевете, какую можно было обрушить на революционера. Русское правительство домогалось выдачи Нечаева. Но так как политического преступника ни одно западно-европейское государство не имело права выдать, то царское правительство начало усиленно распространять клевету, что Нечаев не политический, а уголовный преступник, убивший студента Иванова и занимающийся распространением фальшивых кредиток.
Установленная погоня не давала Нечаеву возможности долго оставаться на каком-нибудь определенном месте. Не желая попасть в лапы царскому правительству, Нечаев принужден был перекочевывать из города в город, из одного государства в другое, меняя каждый раз свою фамилию. Начиная с этого времени, трудно проследить за деятельностью Нечаева в Западной Европе. Он настолько часто менял свое местожительство, что даже друзья и те надолго теряли его из виду.
Целых два с половиной года длилась эта погоня. За это время царские шпионы наводнили почти все западно-европейские государства. Но недаром Нечаев был хорошим конспиратором, он все время благополучно увёртывался от царских шпионов. Чтобы поймать Нечаева, русскому правительству пришлось подкупить полицию различных стран и назначить награду за его обнаружение огромную сумму. Можно определенно сказать, что никого, даже самого опасного революционера не разыскивала так царская полиция, как разыскивала она Нечаева. Из шпионов никто не мог напасть на настоящий след Нечаева. Оставалось одно – нужно было подкупить не только иностранную полицию, но и кого-нибудь из лично знавших Нечаева в лицо, т. е. прибегнуть к форме предательства со стороны какого-нибудь эмигранта.
Таким предателем, находившимся уже давно на службе II Отделения, и был польский эмигрант Адольф Стемпковский, который должен был указать Нечаева русским агентам. За это Стемпковскому обещано было царским правительством помилование в связи с его участием в польском восстании 1863 года. Последние месяцы своей жизни за границей Нечаев жил в Швейцарии, в городе Цюрихе. Жил он в то время у одного польского революционера по фамилии Тюркский и вел довольно замкнутый образ жизни, так как собирался перед этим переехать во Францию. Здесь, на квартире у Турского с ним познакомился Стемпковский, который сам вызвался достать Нечаеву необходимый паспорт для поездки в Париж. Не подозревая ничего о предательских замыслах Стемпковского, Нечаев согласился на его предложение. 14 августа 1872 года Стемпковский назначил свидание Нечаеву в одном из отдаленных ресторанов города Цюриха. В это время в ресторане вместе со Стемпковским поджидали Нечаева двое переодетых русских шпионов и несколько швейцарских полицейских. Войдя в ресторан, Нечаев сейчас же приступил к своей беседе со Стемпковским.
Но не успел он обменяться и несколькими словами, как на него набросились переодетые полицейские и сейчас же заковали в ручные кандалы. Арестованного Нечаева немедленно отвезли в швейцарскую тюрьму, где и продержали два месяца, вплоть до его выдачи русскому правительству. Известие об аресте Нечаева русской полицией встревожило эмигрантскую колонию. Начались усиленные протесты, которые, впрочем, кроме платонического возмущения, не вылились в реальную форму. Так же неудачно закончилась и попытка отбить Нечаева из рук полиции во время перевоза его из тюрьмы на станцию железной дороги. В октябре месяце 1872 г. Нечаев был выдан русскому правительству. Закованного в ручные и ножные кандалы, его увезли в Россию и 19 октября 1872 г. заключили в одиночную камеру Петропавловской крепости.
Судьба Нечаева была заранее решена. Царское правительство охотно повесило бы Нечаева, если бы не было связано известными обязанностями перед Швейцарией судить его не как политического, а как уголовного преступника. Поэтому для проформы оно должно было проделать над ним всю процедуру уголовного суда. О революционной деятельности Нечаева на суде ни слова не было сказано.
Судили его, как обыкновенного убийцу студента Иванова. Но если правительство старалось скрыть от общественного мнения политический характер деятельности Нечаева, то сам Нечаев не мог примириться с этим и во всеуслышание гордо заявлял о своих революционных убеждениях. С момента своего ареста со всеми властями Нечаев держался гордо и независимо. Так же гордо и независимо, заложив в руки в карманы, вошел он и в зал Окружного суда. На обычный вопрос председателя об имени и фамилии подсудимого – Нечаев вместо ответа заявил: «Не признаю этого суда, я – эмигрант и, как эмигрант, не признаю русского императора и здешних законов».
Такое смелое заявление о своих политических убеждениях никогда еще не раздавалось в зале царского суда. После этих слов Нечаева сейчас же вывели и в коридоре жестоко избили. Но когда его снова ввели в залу суда, он с не меньшей силой крикнул на весь зал: «Да здравствуют римские законы», т. е. не законы царя, а законы народа. За время процесса Нечаева неоднократно выводили из зала суда, но всякий раз он заявлял свое презрение к судьям ко всему царскому порядку. Ненавидя царское правительство, Нечаев и в последнюю минуту не побоялся заявить об этом. Суд приговорил Нечаева к самой высшей мере наказания, какая могла быть применена к уголовному преступнику – к 20 годам каторжных работ в Сибири.
Но и этой меры наказания правительству было все же мало: в момент суда Нечаеву было всего лишь 25 лет, а через какие-нибудь 20 лет он получил бы право выйти на поселение или, вырвавшись из Сибири, снова бежал бы за границу. Правительству необходимо было замуровать его на всю жизнь в какой-нибудь тайной тюрьме. Из боязни, что Нечаев мог бежать из Сибири, Александр II самолично распорядился – под видом отправки его в Сибирь осторожно заключить навсегда в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Алексеевский равелин представлял тайную и самую страшную тюрьму, какая только была в царской России.
Тюрьма эта расположена на острове и окружена со всех сторон водою. В нее редко кого сажали. К моменту заключения Нечаева в ней сидел уже около двадцати лет только один «таинственный узник – Бейдеман. От долгого одиночного заключения Бейдеман давно сошел с ума, и с тех пор его дикие крики беспрерывно оглашали своды Алексеевского равелина.
Алексеевский равелин представлял собою вечную тюрьму: сюда вводили людей, а обратно выносили только мертвыми. В такую вот тюрьму по приказанию царя и был пожизненно заключен Нечаев. Очутившись в равелине, Нечаев должен был забыть свои имя и фамилию. Страже было отдано приказание не разговаривать с ним, не называть его ни по имени, ни по фамилии, а обозначать только номером камеры, в которой он был заключен. № 5 – так стал обозначаться Сергей Нечаев на языке тюремщиков.
* * *
Царское правительство хотело сохранить в тайне, что оно отправило его не в Сибирь, а в одиночную камеру Алексеевского равелина. В Алексеевском равелине никогда не сменялась стража. Из опасения, чтобы стража равелина не могла вынести за ворота равелина его тайн, стражу не выпускали из равелина. Мало того, за стражей в свою очередь следили специально приставленные жандармы.
Словом, Нечаев всецело был предоставлен власти тюремщиков, которые, не разговаривая с ним, могли ежечасно отравлять ему жизнь. Но Нечаев не сдавался. Не так легко можно было сломить его революционную волю и непримиримую стойкость. Правительство хотело довести его до раскаяния, чтобы этим убить в нем всякую революционную энергию.
Предвидя это, Нечаев повёл самую непримиримую борьбу с царским правительством в стенах самого равелина.
Сознавая, что эта борьба будет долгая, упорная и притом неравная, Нечаев должен был тщательно обдумать все детали плана своей борьбы. В первые дни Нечаев как бы берёг свои силы, он держал себя спокойно и был даже вежлив с тюремщиками. Прежде всего Нечаеву необходимо было добиться разрешения заниматься умственным трудом, т. е. иметь книги, бумагу и держать при себе письменные принадлежности. После долгих и упорных напоминаний о своей просьбе, Нечаев наконец добился своего. Отныне при нем находились и книги, и письменные принадлежности, и он мог целиком заняться литературной работой, а попутно мог зафиксировать на бумаге и свою короткую, но слишком бурную жизнь. Из-за книг Нечаев все время вел борьбу с тюремным начальством. Он требовал книги не только на русском, но и на французском и немецком языках, но III Отделение никогда не присылало того, что просил Нечаев.
В равелине Нечаев написал несколько романов и повестей, ряд политических статей по истории студенческих волнений, свои политические думы, мысли и воспоминания из своей жизни и из жизни Парижской Коммуны, свидетелем которой он был, а также воспоминания о русских и западно-европейских революционерах, с которыми приходилось ему встречаться.
Два с половиной года пользовался Нечаев книгами, бумагой, чернилами и пером.
Правда, все, что написано было Нечаевым в Алексеевском равелине, не дошло до нас. Правительство пожелало в конце концов узнать, о чем пишет Нечаев, и предложило ему в виде письма изложить образ своих мыслей. Нечаев мог, конечно, отказаться от этого предложения, но он решил воспользоваться этим случаем и написал письмо к царю, котором бросил ему свой вызов.
В своем письме к царю прежде всего Нечаев вскрыл все язвы русской жизни, а в заключение сделал вывод, что весь царский строй давным-давно прогнил и отживает свое время, что единственным спасением России может быть только одна революция. Видя такую революционную стойкость Нечаева, царь распорядился послать к Нечаеву шефа жандармов, генерала Потапова, чтобы тот по возможности выпытал от него необходимые сведения о состоянии революционной партии в России, о числе членов, о средствах и целях ее.
Приехав в равелин, Потапов начал было расспрашивать Нечаева. Но Нечаев так был возмущен наглыми домогательствами Потапова, что заехал ему по физиономии, да так, что у генерала из носа и изо рта потекла кровь. Нечаева тотчас же схватили, но бить – пока не били. Потапов решил отомстить Нечаеву более жестоко, чем побои и розги.
У Нечаева решено было отобрать книги, бумагу и чернильные принадлежности, а также и все написанное им в равелине, которое приказано было рассмотреть и сжечь в случае, если там окажется что-либо предосудительное. Однажды, во время прогулки все бумаги Нечаева были унесены из камеры. Узнав об этом, Нечаев страшно побледнел, но сдержался. А ночью, когда спала вся стража, Нечаев схватил оловянную кружку и начал выбивать стекла в своей камере. На шум прибежала стража.
Она схватила его, надела на него смирительную рубашку и привязала к кровати. После этого на Нечаева были надеты ручные и ножные кандалы, и сам он был прикован цепью к стене. В таком положении Нечаев пробыл несколько месяцев. От ржавых кандалов у Нечаева на руках и на ногах начали образовываться гнойные язвы, которые с трудом поддавались лечению. Покрытый язвами, причинявшими ему мучительную боль, целых два года промучился Нечаев, закованный в кандалы. Но и закованный он не хотел сдаваться. Наоборот, в голове у него роился новый, теперь самый дерзкий план, который только можно было осуществить в условиях одиночного заключения в Алексеевском равелине. Несмотря на то, что жандармские солдаты не имели права разговаривать с Нечаевым, за долгие годы одиночного заключения Нечаев успел присмотреться к каждому солдату и выделить наиболее умных из них.
Прикованный цепью к стене, через маленькое окошечко в дверях своей камеры Нечаев неоднократно порывался заговорить с тем или иным солдатом. И если солдат не отвечал на его пламенные речи, Нечаев не печалился: он знал, что, рано или поздно, а он все же развяжет солдатские языки и заставит заговорить с ним по душе. А пока Нечаев продолжал обращаться к солдатам, стараясь по возможности задеть за самое больное место солдатской души.
Слушает, слушает, бывало, солдат, да и не удержится слово, что, мол, начальство приказало ему вставить свое «молчать», что он, мол, присягу дал царю.
A Нечаев только этого и ждал. Для него необходим был только повод вступить в беседу с солдатом, и он начинает рассказывать солдату про царя, про народ, про то, что присяга нужна не ему, солдату, а царю. Слушает его солдат, а самого так и подмывает поговорить с Нечаевым, но молчит, отходит пока от окошка, теперь уже смущенный, втайне сочувствующий узнику.
А когда случится второй раз стоять на часах у камеры Нечаева, теперь он встречается с ним не как с врагом, а как с таким человеком, которого и пожалеть надо. Обладая огромной наблюдательностью, Нечаев умел найти в сердце каждого солдата такое место, прикоснувшись к которому, человек становится добрее… Часто расспрашивал Нечаев солдат про их жизнь, про семью, про отца, сколько земли имеют и как живут. И так это подойдет к солдату, что тот расскажет ему, как другу, про все затаенные думы свои. Так постепенно Нечаев сошелся с каждым солдатом из своей стражи, потихоньку и солдаты начали заводить разговоры с ним. Особенно удобно было разговаривать по ночам, когда не было в коридоре никого из начальства, ни одного постороннего глаза, который мог бы донести. Постепенно привязались и солдаты к Нечаеву; заскорузлыми сердцами полюбили своего умного и пламенного узника, сделались настоящими друзьями его в неволе.
Эта привязанность доходила до того, что солдаты тайком от начальства носили ему бумагу, карандаш и даже газеты с воли. Из газет узнал Нечаев, что делалось тогда в России. Это был 1879 год, когда непримиримая борьба революционеров с правительством только начинала разворачиваться. 2 апреля 1879 г. Соловьев стрелял в Александра II. Нужно только представить, как обрадовался Нечаев газетам, газеты как бы приобщали его к революционной борьбе на свободе.
* * *
Тайком принесенные газеты Нечаев читал и солдатам, объясняя непонятные для них вопросы политической жизни. От Нечаева солдаты узнали многое; узнали, как царь притесняет народ, как взимаются подати и куда идут они, и как заодно с народом против царя борются революционеры, такие же люди, как и сам он, Нечаев. И потянулись солдаты к Нечаеву, полюбили его, прозвали даже своим «орлом».
«Наш орел» вот как стал называться на языке жандармских солдат узник камеры № 5.
Вскоре из тюремных стражников солдаты превратились в преданных товарищей Нечаева.
Во время своих бесед Нечаев много рассказывал о революционной борьбе, о ее смысле. А иногда разворачивал перед ними будущую картину, когда революционеры одержат победу, прогонят царя, отберут землю от помещиков и поделят ее поровну между всеми крестьянами, фабрики и заводы отдадут рабочим.
Рассказывал Нечаев о себе, как и он сам когда-то боролся с царем, пока царь не засадил его в тюрьму. Начатая Нечаевым пропаганда среди солдат способствовала их политическому просветлению. В результате – солдаты в равелине были так распропагандированы, что становились сами почти что революционерами, во всяком случае готовыми пойти за Нечаевым и сделать все, что только прикажет он.
Так постепенно осуществлялся задуманный план Нечаева бежать из равелина. Но прежде, чем бежать, ему необходимо было связаться с революционерами на воле.
Но как? Нечаев никого не знал.
С тех пор, как попал он в равелин, прошло восемь лет. За это время, несомненно, появились новые кадры революционеров – необходимо было узнать хотя бы одного, через которого можно было бы отправить письмо из равелина. Во всяком случае необходимо было узнать адрес какого-нибудь революционера на воле.
Вскоре в Алексеевский равелин был заключен Леон Мирский, покушавшийся на шефа жандармов – генерала Дрентельна. Это был первый человек, попавший в равелин с воли. Нечаев попробовал было связаться с Мирским, но от его внимательного глаза не ускользнуло, что Мирский далеко не надежный революционер, поэтому Нечаев и не открыл Мирскому своего плана.
Но вот 10 ноября 1880 г. в равелин посадили Степана Ширяева, участника покушения на царский поезд под Москвой. Ширяев кое-что слышал о Нечаеве и доверился ему: сообщил адрес своего знакомого, который мог снести письмо революционерам. Со своей стороны Нечаев увидел в Ширяеве настоящего революционера, которому можно было полностью раскрыть свой план. И Нечаев начал действовать. Из преданных ему солдат Нечаев выбрал одного, наиболее надежного и расторопного, через которого и послал письма революционерам. По данному адресу солдат нашел знакомого Ширяева, а знакомый в свою очередь передал по назначению 101 письмо Нечаева. В это время на воле действовала партия «Народной Воли». Народовольцы были младшим поколением революционеров, для которых имя Нечаева давно уже отошло в область истории.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе