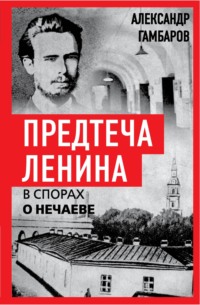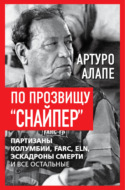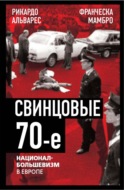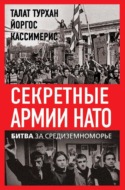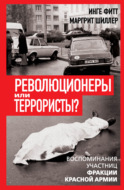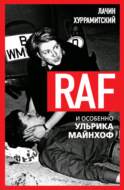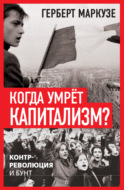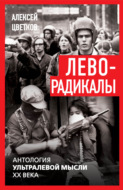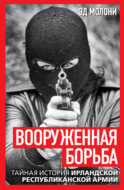Читать книгу: «Предтеча Ленина. В спорах о Нечаеве», страница 4
Вчерашний «барин» сегодня в одной и той же аудитории сталкивался со своим бывшим крепостным. Таким образом, с отменой крепостного права классовый состав разночинной интеллигенции радикально изменился. Теперь это была не однородная, как при крепостном строе, сложная и крайне пестрая социальная среда учащейся молодежи. Гибкая и повышенно восприимчивая, она быстро реагировала на каждое общественное явление, на каждый факт русской жизни.
А так как окружающая жизнь, в связи с реформами, давала обильный материал для общественно-политического анализа, то вполне естественно, что оценка проводимых реформ находила должную критику прежде всего в среде разночинной интеллигенции. Прежде всего ясно бросалось в глаза, что предпринятые реформы далеко не удовлетворяли назревшим требованиям жизни. Проведенная в интересах высших имущих классов правительственная реформа не принесла ничего существенного для промежуточных общественных группировок. В области крестьянского вопроса реформы только ухудшали положение страны. Те политические упования, которые возлагались различными общественными группировками, наглядно разбивались о неприступную твердыню правительственной реакции. Надежды учащейся молодежи на условия свободной жизни наталкивались на суровые препятствия в виде сохранившегося политического гнета.
Таким образом, само правительство толкало различные общественные группировки и в частности разночинную интеллигенцию на неминуемый конфликт с собой и создавало то обострение, на почве которого начало развиваться революционное движение 60-х годов.
Политическая сторона реформ 1861 г. настолько была ничтожна, что не могла остановить начавшегося еще в 50-х годах революционного движения, теперь целиком выраставшего на почве крестьянских реформ. А так как разночинная интеллигенция представляла крайне сложную по своему классовому составу общественную группировку, то в ее среде с самого начала 60-х годов начало обнаруживаться резкое политическое расслоение, сообразно тем классовым группировкам, из которых она слагалась сама, что определяло и самый характер начатого движения. Освободительное движение в России своими корнями уходит далеко за пределы начала реформ 1861 года. Главным вопросом, волновавшим тогдашних представителей движения, был вопрос освобождения крестьян. Вокруг этого вопроса сталкивались интересы самых разнообразных общественных группировок и политических течений еще в 50-х годах. Наиболее ярким представителем движения 50-х годов приходится считать, конечно, А.И. Герцена. Воспитанный на системе утопического социализма Сен-Симона, Герцен оставался все же верным идеологом того класса, из которого сам вышел, т. е. среднепоместного дворянства. Его либерализм определялся либерализмом своей группировки, для которой освобождение крестьян являлось необходимой предпосылкой завоевания известных политических прав, без нарушения основ существующей монархии. С 1857 года Герцен начал издавать свой «Колокол». Влияние «Колокола», как первого «вольного русского слова» было огромно.
Им зачитывались абсолютно все круги русского дворянства, и то обстоятельство, что «Колокол» пользовался популярностью даже при императорском дворе, яснее ясного указывало – на какой круг читателей рассчитано было это первое «вольное слово». Смелая обличительная речь, с какой «Колокол» вскрывал основное зло русской жизни – крепостное право и бичевал всякого рода взяточников, насильников и чиновников, злоупотреблявших своим положением, больше всего располагала к нему круг либерального дворянства.
Но падение крепостного права Герцен мыслил не иначе как по воле монарха. Если со страниц «Колокола» иногда звучали смелые и дерзкие выпады против самого Николая I, то это не обозначало еще, что сам Герцен был против «монархии», как существующей системы правления. Если Николай не способен был совершить намечаемую реформу, то зато все надежды и чаяния можно было возложить на его преемника Александра II. И действительно, стоило только Александру II подписать в 1857 году первый рескрипт об освобождении крестьян, как «смелый революционер» Герцен из далекого Лондона со страниц своего «Колокола» приветствовал его словами: «Ты победил, Галлилеянин». Свою мысль о возможности приобщиться России к прогрессу одним усилием и волей самодержца – Герцен развивал неоднократно вплоть до того момента, когда стало очевидно, что император круто повернул в сторону реакции. С этого момента наступил глубокий кризис в самом мировоззрении Герцена.
Если прежде он считал возможным непосредственно обращаться к самодержавному монарху, то теперь он пытается найти поддержку в лице либерального дворянства и даже разночинной интеллигенции, которой бросает лозунг «в народ». Но политические разногласия между разночинной интеллигенцией и Герценом были настолько глубоки, что не так скоро могли изгладиться. Не откликнулось на призыв Герцена и либеральное дворянство. Для дворянства Герцен был слишком скомпрометирован в глазах правительства, да и само оно к этому времени начало постепенно утрачивать свою политическую активность. Растеряв своих читателей, «Колокол» вскоре должен был прекратить свое существование, а его вдохновитель – сойти с исторической сцены. Чем же вызван был отход либерального дворянства, от Герцена, выразителем которого он в сущности был? Ответ на это приходится искать в политической программе самого либерального дворянства, недостаточно устойчивого в политическом отношении.
Вместе с реформами либеральное дворянство предполагало получить и те политические права, которые необходимы были для развития его буржуазно-капиталистических устремлений.
Надежды на конституцию или хотя бы на видимость ее, разбиты были правительством почти в самом начале реформ. Попытка тверского дворянства обратиться с адресом к царю об упорядочении системы управления государством путем выборного представительства от дворянского сословия встретила исключительно суровый прием. Аналогичный прием встретило и предложение херсонского дворянства отречься от своих законных» прав во имя сохранения права, «быть, как сословие более развитое и принесшее сравнительно большие жертвы отечеству, нравственным представителем народа».
* * *
В адресе херсонского дворянства ясно звучит настойчивое стремление либерального дворянства – сохранить за собою командные высоты, а следовательно, и свое классовое превосходство над другими общественными группировками.
Стремясь занять командные высоты при помощи выборного представительства от своего сословия, либеральное дворянство хотело упрочить за собою право известного давления на правительство. К этому побуждал его собственный страх перед возможностью могущих произойти государственных потрясений снизу. Перед началом реформ, как и в первые годы после них, крестьянство продолжало беспрерывно волноваться.
Крестьянские бунты и восстания следовали один за другим. Либеральное дворянство не на шутку боялась этих волнений, как боялся того и сам Герцен. Конституционно-монархические попытки либерального дворянства не могли привести ни к каким результатам. Кроме собственного страха перед революцией и всеподданнейших адресов и петиций, дворянство ничего не могло выдвинуть качестве реальной силы. Правительство прекрасно понимало это.
Сделав ряд серьезных внушений, оно круто взяло реакционный курс, парализовав этим самым на долгие годы конституционные попытки дворянства. Либеральное дворянство быстро сдалось и перешло в лагерь реакционеров. Гораздо серьезней приходится считать попытку буржуазно-демократических кругов заявить о своих политических правах. Непосредственно после освобождения крестьян, эта группировка предприняла попытку организоваться и создать нечто похожее на тайное революционное общество. Таким обществом была «Земля и Воля», возникшая осенью 1862 года.
Основание этого общества принадлежит другу Герцена, Николаю Огареву, так же, как и Герцен, проживавшему за границей. В центре этого общества, внутри России, стояли братья Николай и Александр Серно-Соловьевичи, Обручев, Слепцов, Курочкин и др. Организаторы пробовали было втянуть в это общество и Чернышевского, но Чернышевский отказался непосредственно участвовать в нем, заявив все же, что сам он будет следить с неослабевающим интересом за деятельностью общества.
Основой программы этого общества послужил написанный Огаревым листок «Что нужно народу?» Выдвигая положение, что народу нужна прежде всего «земля и воля», фактически общество не выходило за пределы мирной оппозиции правительству. Каких-нибудь четко поставленных революционных задач общество не преследовало.
Наоборот, революция со всеми вытекающими отсюда последствиями – пугала его. Ни о национализации земли, ни об уничтожении права собственности, ни о политических требованиях – в программе общества ничего не говорится. Основной своей задачей общество ставило «привлечение образованных классов на сторону интересов народа и значит их собственных». Этим оно пыталось предотвратить или, по крайней мере, ослабить то кровопролитие, которое правительство «могло вызвать своим дальнейшим существованием». Таким образом, по своему характеру возникшие общество 60-х годов «Земля и Воля» далеко еще не было той революционной организацией, которая могла серьезно противопоставить себя надвигающейся правительственной реакции. Разъедаемая внутренними противоречиями и борьбой различных течений внутри своей организации, «Земля и Воля», через год после возникновения, в 1863 году, принуждена была самоликвидироваться.
По постановлению своего Центрального комитета, общество было признано распушенным. Гораздо более серьезное место в истории революционного движения 60-х годов занимали студенческие кружки. Осенью 1861 года вспыхнули студенческие волнения в петербургском университете. Поводом к этим волнениям послужило введение так называемых «путятинских правил», ограничивавших студенческую свободу. В результате возникших волнений университет был закрыт. В произошедших столкновениях с полицией арестовано было 320 человек студентов, которые по распоряжению правительства немедленно были заключены в Петропавловскую крепость. Хотя студенческие беспорядки и не носили политического характера, а ограничивались чисто академическими требованиями, тем не менее один факт пребывания значительной части студентов в Петропавловской крепости достаточно мог наэлектризовать студенческую массу.
После выхода из крепости студенчество начало быстро организовываться. С весны 1862 года в Петербурге начали возникать студенческие кружки, в которых стали обсуждаться не только вопросы академического, но и политического характера. Не прошло и года, как в студенческой среде настойчиво заговорили об образовании «Акулины», т. е тайного революционного общества. При этом необходимо отметить, что на развитие политических взглядов передовой студенческой молодежи огромное влияние оказало социалистическое учение Чернышевского, редактировавшего в то время» Современник».
Являясь выходцем из духовной среды, Чернышевский был ярким представителем разночинной интеллигенции, начавшейся складываться еще в 50-х годах. События 1848 года и влияние идей Луи Блана, Прудона, Фурье и, в особенности, Фейербаха заложили в Чернышевском прочные основы социалистического мировоззрения. Несмотря на материалистический характер своего мировоззрения, Чернышевский долгое время оставался социалистом-утопистом.
Тем не менее его влияние на развитие социалистических взглядов у тогдашней молодежи имело огромное значение. Молодежь зачитывалась произведениями Чернышевского и считала его своим учителем. Но главное влияние Чернышевского заключалась не столько в теоретических построениях основ русского социализма, столько в том огромном руководящем значении его в деле революционного воспитания молодежи, какое оказывал он в качестве главного руководителя журнала «Современник». Своими боевыми публицистическими статьями Чернышевский на долгие годы приковывал внимание р азночинной интеллигенции к целому ряду острых социально-политических вопросов современности. Ни одна сторона русской или западноевропейской общественности не ускользала от его внимательного политического глаза.
Вопросы крестьянской реформы, задачи политической борьбы в России, роль разночинной интеллигенции в этой борьбе, события западно-европейской политической жизни, философские построения материалистического мировоззрения, литературная критика и критика общинного характера землепользования в России – вот те общественно-политические вопросы, вокруг которых сосредоточивал внимание молодежи основоположник русского социализма.
Для того, чтобы судить о влиянии Чернышевского на умонастроение учащейся молодежи, необходимо сопоставить его отношение с отношением Герцена к характеру ближайших событий. В то время, когда Герцен продолжал еще убаюкивать сознание молодежи либеральными теориями мирного разрешения всех противоречий жизни и «во имя прогресса» призывал молодежь «идти в народ», – в это время Чернышевский призывал ее на путь революционной борьбы.
«Не увлекайтесь, писал он Герцену в Лондон, – толками о вашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте; во время великого революционного вопроса нам дали на потеху, для развлечения нашего внимания, безыменную гласность; но чуть дело коснется дела – тут и прихлопнут… Нет, не обманывайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других, не отнимайте энергии, когда она многим пригодилась бы… Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет. Вы сделали все, что могли, чтобы содействовать мирному разрешению дела, перемените жетон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь! Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царя. Не вам ее поддерживать». Такая резкая отповедь со стороны Чернышевского вызвана была наметившимся к этому времени разграничением политической мысли в среде самой разночинной интеллигенции. Пестрая по своему классовому составу, она была неоднородной в выборе методов борьбы.
Если одна часть интеллигенции – преимущественно выходцы из дворянского сословия свое служение «народному благу» рассматривала, как стремление прийти на помощь трудовому люду запасом своих собственных знаний, и огромными массами устремлялась во вновь открываемые воскресные школы, где и «обучала народ», – то, наоборот, другая часть – преимущественно представители неимущих классов выход из создавшегося экономического и политического тупика видела не в мирных началах, а в методах организации революционных сил для предстоящей политической борьбы с правительством. Это тактическое расхождение в среде разночинной интеллигенции лучше всего выразил сам Герцен.
Отвечая Чернышевскому на его письмо, Герцен писал: «Мы расходимся с вами не в идее, а в средствах, не в началах, а в образе действий. Вы представляете крайнее выражение нашего направления; ваша односторонность понятна нам, она близка нашему сердцу.
Но к топору, к этому ultima ratio (последнему доводу) притесненных, мы звать не будем, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора». Таким образом, вопрос о «топоре» сводился главным образом к вопросу о методах революционной борьбы, к тому должна ли Россия пойти по пути революционной борьбы со всеми вытекающими отсюда последствиями кровавого восстания, или она без всяких кровавых потрясений, путем длительной эволюции общественных форм, сама собою выйдет, наконец, к социалистическому укладу жизни. Это расхождение весьма характерно для понимания классовой сущности революционного движения 60-х годов в среде разночинной интеллигенции.
Если в первые годы своего развития расхождение это не доходило еще до взаимного антагонизма между наметившимися различными группировками разночинной интеллигенции, а иногда обе эти группировки продолжали идти рядом, то в дальнейшем своем развитии обозначившийся конфликт неминуемо должен был привести к серьезным обострениям. Выступление на историческую сцену в конце 60-х годов Сергея Нечаева, этого яркого представителя левого, пролетаризированного крыла разночинной интеллигенции, положило начало взаимной борьбе между этими двумя основными группировками разночинной интеллигенции.
Но пока обе эти группировки продолжали итти рядом, признавая во всяком случае своим идейным вождем не Герцена, а Чернышевского. Первым революционным кружком в 60-х годах, пытавшимся формулировать свою социалистическую программу, был кружок студентов Московского университета, возникший в 1861 году вокруг студентов Агриропуло и Зайчневского.
Кружок этот находился под непосредственным влиянием идей Чернышевского и в частности под мощным обаянием якобинского крыла вождей Великой французской революции. Располагая своей тайной типографией, кружок печатал и распространял произведения Фейербаха и Бюхнера. Свои республиканские воззрения наиболее ярко он выразил в прокламации «Молодая Россия», отпечатанной в 1862 году.
Эта прокламация представляет замечательный документ в истории нашего революционного движения, принадлежит она перу Зайчневского.
Намечая основные социалистические положения, Зайчневский указывает, что единственный выход из создавшегося политического положения заключается в коренном изменении всего существующего порядка, при котором «немногие, владеющие капиталом, являются распорядителями участи остальных. Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, – продолжает прокламация, один – революция, революция кровавая и неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все – все, без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка.
Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольются реки крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это и всё-таки приветствуем ее наступление; мы готовы лично пожертвовать своими головами, только бы пришла поскорее она, давно желанная».
Страстный тон прокламации Зайчневского искупает многие погрешности ее в области построения социалистической программы. Тем не менее эта прокламация навсегда останется ценнейшим документом, так как это была первая попытка русской якобински настроенной молодежи сформировать свои политические взгляды.
Призыв «К топору!», т. е. к народному восстанию, впервые раздавшийся со страниц подпольной прокламации, достаточно свидетельствовал, что среди молодежи уже начался процесс оформления принципов политической борьбы. «Скоро, скоро наступит день, – говорится в прокламации, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное, и с громким криком: «Да здравствует социалистическая и демократическая республика русская!» – двинемся на Зимний дворец истребить живущих там»8.
При этом в прокламации впервые выдвигается лозунг: «кто будет не с нами, тот будет против; кто против – тот наш враг, а врагов следует истребить всеми способами».
Но кружку Зайчневского не удалось развернуть свою деятельность. В связи с вспыхнувшими петербургскими пожарами в мае 1862 года, – Зайчневский был арестован, а вслед за тем распался и самый кружок. Но возникшее революционное движение в среде учащейся молодежи не только не замерло, а продолжало еще более ширится.
Переплетаясь с более умеренными течениями той же самой разночинной молодежи, оно постепенно дифференцировалось, прокладывая свой путь по двум различным направлениям: мирному и революционно-социалистическому.
Одним из таких кружков, соединившим в себе оба эти направления, был кружок «Ишутинцев», по фамилии основателя его, студента Московского университета Ишутина. Выработанной программы своей деятельности Ишутинский кружок не имел. В задачу его входило сближение с народом на почве революционной пропаганды. Но это достигалось сравнительно мирным путем, путем организации земледельческих артелей. Лишь незначительное меньшинство склонялось к решительным мерам революционных действий и даже ставило вопрос о покушении на царя. Но о цареубийстве только ставился вопрос, практически же он не выдвигался в задачу деятельности кружка. Гораздо решительней был один из его членов, по фамилии Каракозов. Независимо от воли кружка, Каракозов один решил привести в исполнение задуманный план цареубийства. С этой целью он выехал в Петербург и 4 апреля 1866 года из револьвера стрелял в Александра II.
При покушении Каракозов промахнулся, царь остался живым, а Каракозов тут же был схвачен на месте. После длительных пыток, с целью вырвать у него признание, 3 сентября 1866 года Каракозов был повешен. Вскоре после этого были выловлены и все члены кружка. Выстрел Каракозова произвел огромное впечатление на все слои русского общества. Это было первое покушение на коронованную особу. На правительственные круги выстрел Каракозова подействовал ошеломляюще. В покушении на парня увидели обширнейший революционный заговор9. Но вскоре выяснилось, что за выстрелом Каракозова скрывается только небольшой кружок студентов. Тем не менее взятый правительством реакционный курс после польского восстания в 1863 году значительно усилился. В связи с покушением Каракозова, правительственные репрессии с неслыханной жестокостью обрушились на все слои русского общества и в первую голову на студенческую массу.
Отныне все студенческие льготы были немедленно отменены, а сами высшие учебные заведения снова возвращены были к мрачным временам николаевской шагистики. Вне университетской жизни началось жесточайшее преследование всяких «рабочих артелей», которые начала было заводить молодежь в университетских городах. Правительственному преследованию подвергались кружки самого невинного характера.
От «вредных элементов» очищены были абсолютно все высшие учебные заведения, случайно сохранившиеся еще со времен 1861 года. Но этого было мало, – в качестве реальной педагогической меры в гимназиях был введен одуряющий сознание классицизм с его оглушительными премудростями, в виде латинской и греческой грамматики.
Кроме того, за каждым гимназистом, не говоря уже о студенте, установлен был негласный полицейский надзор. Таким образом, обострившийся правительственный террор нанес жесточайший удар начавшемуся было движению среди учащейся молодежи. Под влиянием правительственных репрессий наступило полное затишье в среде так называемого «официального общества». Среди представителей старшего поколения «общественность» стала признаком плохого тона. Отныне каждый старался по-своему приспособиться к правительственной системе и, примостившись подле какого-нибудь тепленького местечка, открыто переходил в стан реакционеров.
«Петербург сильно изменился», – говорит об этом периоде Кропоткин. И действительно, от прежнего Петербурга начала 60-х годов не осталось и следа. Реакция пресекла дряблые ростки либерально-буржуазной общественности. Но подрастало новое поколение, для которого все эти страхи не имели пока реального значения. Молодежь по-прежнему рвалась к вопросам общественности10.
Постоянный страх «старших» и боязнь подвергнуться подозрению в радикализме» внушали серьезное опасение «отцов» за судьбу своих детей». На почве подобных разногласий начал намечаться неизбежный антагонизм между представителями двух поколений, между «отцами» и «детьми». Почти в каждой зажиточной семье намечалась упорная борьба между пытавшимися сохранить общественное благоразумие» «отцами» и «детьми», отстаивавшими свои собственные права на индивидуальность и на возможность жить согласно своим идеалам. Но в идеалы эти пока еще не входила задача революционной борьбы. По большей части эти идеалы» мы слились молодежью в плоскости борьбы за индивидуальность, за право жить и мыслить по-своему. Так постепенно среди молодежи, преимущественно из зажиточных классов, подготовлялось то умственное движение, которое во главу угла своего миросозерцания ставило по преимуществу этические начала.
К этому времени значительно изменился и самый состав учащейся молодёжи.
Классовый состав ее во II половине 60-х годов был значительно пестрее, чем в I половине того же десятилетия. В то время, как представители дворянского сословия и других имущих классов в среде разночинной интеллигенции пытались найти выход из создавшегося тупика в нравственном совершенствовании своей личности, в отказе от культурных привычек, унаследованных от своих «отцов», воспитанных на подневольном крепостном труде, в стремлении отрешиться» и «опроститься», чтобы жить, как живет большинство русского народа, – в это время другая часть молодежи, вышедшая из самых низов, а, следовательно, не чувствовавшая «покаяния» перед русским народом, – частью которого она сама являлась, – искала выход в совершенно другом направлении – в попытке подхватить знамя революционной борьбы, выпущенное предыдущими поколениями Зайчневского и Каракозова, чтобы снова начать прерванную борьбу с правительством. На почве наметившегося классового расслоения учащейся молодежи конца 60-х годов образовалось два резко обозначившихся течения – одного так называемого радикального, а другого революционного.
То, что имело лишь слабые различия в половине 60-х годов, то к концу II половины 60-х годов начало приобретать в глубокое классовое разграничение, выявлявшее и различное понимание революционных задач. В этом отношении весьма характерно понимание одних и тех же идей Чернышевского и Писарева представителями различных группировок учащейся молодежи к концу II половины 60-х годов. В то время как революционная часть молодежи воспринимала социалистическое учение Чернышевского в его чистом виде, «радикальная» часть брала из этого учения все старое, и утопическое, что отброшено было самим Чернышевским ещё до 1861 года.
Таким воскрешенным пунктом в учении Чернышевского являлось отброшенная им в свое время идея о русской общине, ставшая для «радикальной» части молодежи своеобразным социалистическим фетишем, подхваченным ею и воплощенным в качестве краеугольного камня в последующем движении 70-х годов. Точно такой же вульгаризации подверглось и учение Писарева. «Радикальная» молодежь в учении Писарева прежде всего воспринимала этическую сторону, то «нравственное» совершенствование отдельной личности, тот своеобразный идейный «эгоцентризм», который давался Писаревым в его «Реалистах».
Что же касается революционной стороны этого учения, то «радикальная» часть молодежи его просто-напросто проглядела. Писарев выступил на арену общественно-литературной деятельности в мрачный период реакции II половины 60-х гг. Несмотря на резкую критику общественных форм жизни, ему все же приходилось говорить до некоторой степени «эзоповским» языком. То, что прямо определялось у него, как призыв к революционной борьбе, то «радикальной» частью молодежи воспринималась, как проповедь «этического» самосовершенствования личности без примеси какой бы то ни было революционной готовности. С именем Писарева обычно связывается представление о своеобразной форме общественного умонастроения русской молодежи конца 60-х и начала 70-х годов, получившей название «нигилизма».
Но это понятие «нигилизма» различными классовыми группировками понималось различно. Нигилизм, каким мыслили его представители «радикальной» молодежи, прежде всего был общественно-этическим направлением, объявлявшим войну условным формам культурной жизни. Он отрицал абсолютно все авторитеты, за исключением авторитета разума, Отрицая всякого рода привычки, обычаи, эстетику и сентиментализм, он утверждал принцип «разумной личности». Но у Писарева это отрицание всякого рода авторитетов – морально-революционное отрицание общественных норм носило исключительно характер во имя освобождения личности для общественной и революционной борьбы.
Но этого революционного характера нигилизма «радикальная» часть молодежи как раз и не замечала. Наоборот, представители революционной части молодежи нигилизм Писарева прежде всего осматривали не его «отрицательную» сторону, а, наоборот, «положительную». Не довольствуясь одним отрицанием, «революционная» часть молодежи прежде всего видела в нигилизме утверждение социально-политических идей и революционных целей. Это был не «радикальный», а революционный «нигилизм». В этом отношении глубоко характерно определение нигилизма, данное III Отделением в 1869 году, в связи с выступлением Нечаева на историческую сцену.
Русский нигилизм соединяет в себе западных: атеиста, материалиста, революционера, социалиста и коммуниста. Он отъявленный враг государственного и общественного строя; он не признает правительства11.
Это не мешает ему, однако, пользоваться, где и насколько возможно, тем самым правительством, под которое он подкапывается. Под этим определением нигилизма целиком можно подписаться, и под ним целиком подписался бы и сам Нечаев, о котором в сущности и писало III Отделение в 1869 году.
Понятно, что это определение ни в какой мере нельзя отнести к «радикальной» части молодежи, хотя и именовавшей себя «нигилистами», но бывшей по существу группировкой довольно мирных людей. Таким образом, только в лице Нечаева, выступившего на историческую сцену к концу 60-х годов, история впервые могла наблюдать яркого представителя классового характера революционной борьбы, обозначившейся в результате классового расслоения русского общества под влиянием усилившегося роста буржуазно-капиталистических взаимоотношений.
Своею жизнью и последующей деятельностью Нечаев впервые воплотил в жизнь начало непримиримой политической борьбы с царским правительством и политически оформлявшейся молодой русской буржуазией.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе