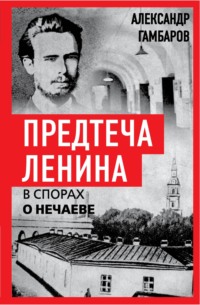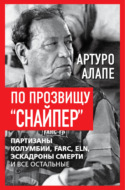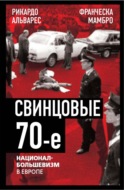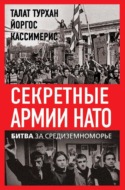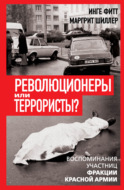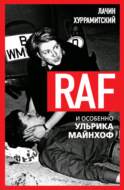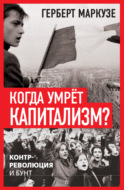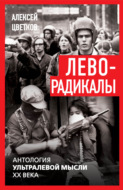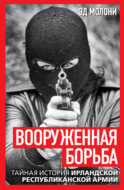Читать книгу: «Предтеча Ленина. В спорах о Нечаеве», страница 5
Глава третья Революционный путь Нечаева
Сергей Геннадиевич Нечаев родился 20 сентября 1847 года в селе Иванове (теперь губернский город Иваново-Вознесенск). В то время, как и теперь, Иваново представляло крупнейший центр хлопчатобумажной промышленности. Огромные по тому времени бумажно-прядильные и ткацкие фабрики привлекали в Иваново значительные кадры рабочих из крестьян.
Сюда стекались не только уроженцы своей Владимирской, но и выходцы соседних – Ярославской, Костромской и Нижегородской губерний. Условия промышленного капитализма создавали обстановку чрезмерной эксплуатации рабочих масс. В погоне за заработком помещики отсылали сюда своих оброчных крестьян. Стекались сюда и вольнонаемные, успевшие выкупиться из крепостной зависимости и приписаться к какому-либо мещанскому обществу. Одним из таких приписавшихся к Шуйскому мещанскому обществу и был отец Нечаева, Геннадий Павлович.
Вот что пишет о тогдашнем Иванове личный друг Нечаева, такой же ивановский житель, как и он, писатель Нефедов, испытавший на себе влияние ивановской обстановки: «Из обыкновенной земледельческой деревни, или села, – Иваново вырастало в своеобразный город, где различные и противоположные друг другу элементы, отстаивая свою самостоятельность, вели между собою в течение целых столетий борьбу, исподволь уступая все возрастающей силе машины и пара, и в конце концов, порабощенные чудовищной силой капитализма, слились в нечто целое, хотя в нечто разношерстное и бесформенное, словом – в то, что обыкновенно у нас называется фабричным селом или городом.
Здесь нет места высшим человеческим интересам: здесь один интерес – деньги. Целые десятки тысяч человеческих жизней, заключенных в страшных стенах фабрик и заводов, с раннего утра и до поздней ночи, изо дня в день надсаживают свои истомленные непосильным трудом груди и выматывают последние силы ради одной цели – заработать себе насущный кусок хлеба и уплатить повинности.
Нигде, как здесь, развитая человеческая личность не чувствует себя настолько беспомощной и одинокой, нигде запросы иного рода, чем нажива так быстро не глохнут, как здесь, в этом царстве хлопка и ситцев, в мире высоченных труб, закоптелых фабричных зданий, грохота и стука механизмов. Здесь одно божество – золото; здесь культ Ваала, и фабриканты его жрецы… Вот он, Манчестер-то русский»12.
В таких вот условиях крайнего обострения классовых противоречий и напряженной борьбы труда с капиталом и протекало детство Сергея Нечаева. Окружающая обстановка оказала огромное влияние на развитие характера политических взглядов Нечаева. С детства впитав в себя классовый антагонизм, Нечаев и на протяжении всей своей политической деятельности оставался ярким представителем классовой борьбы.
Отец Нечаева, хотя и считался коренным ивановским жителям, но на ивановских фабриках не работал. Занимался он преимущественно малярным или живописным делом. Это ремесло передавалось в их семье из рода в род, от отца к сыну. Не избежал этого и Нечаев, который с раннего детства принужден был вместе с дедом раскрашивать крестьянские дуги, а под конец и сам писать вывески. Иногда, когда не было малярной работы, отец Нечаева поступал на услужение к богатым ивановским купцам или служил половым в трактире. Мать Нечаева была портнихой. Еще крепостной девочкой выучилась она этому ремеслу и с тех пор не оставляла этого до конца своей жизни. На девятом году родители Нечаева определили Сергея на фабрику в качестве посыльного мальчика при конторе. Здесь Нечаеву пришлось воочию испытать на себе весь гнет и бесправие фабричного мальчика, на которого беспрерывно сыпались всякого рода затрещины, зуботычки и ругань. В фабричной конторе Сергей прослужил не больше года. Однажды ему поручили отнести какое-то письмо главному заведывающему фабрикой. Идти пришлось далеко и в метель. По дороге Сергей нечаянно потерял это письмо. Об этом узнал сам фабрикант и пожаловался отцу. Отец сильно разозлился и жестоко высек розгами Сергея. Это обстоятельство так подействовало на десятилетнего Нечаева, что он решил во что бы то ни стало бросить службу на фабрике и заняться ученьем, для того чтобы поскорее выбиться в люди. Много труда и настойчивости пришлось приложить маленькому Нечаеву, пока он добился своего, и ему позволили учиться. Постоянной школы в Иванове в то время не было. Приходилось большею частью самому, без помощи руководителей осиливать грамоту.
По счастью в то время из Москвы переселился писатель Дементьев, который открыл в Иванове нечто вроде домашней школы. К этому Дементьеву и начал ходить Нечаев. Огромные способности Сергея обратили внимание Дементьева на нового ученика. Вскоре они настолько сдружились, что начали даже переписываться, когда Дементьев снова переехал в Москву. Знакомство с Дементьевым оставило глубокий след на Нечаеве. Он решил серьезно заняться образованием, чтобы вырваться из давившей его обстановки и начать самостоятельную жизнь. Зарабатывая на малярном деле небольшие деньги, Сергей решил все оставшееся свободное время употребить на учебу. Нечаев сразу наметил себя цель – поступить в университет. В тогдашних условиях это было более, чем смелая задача. Тем не менее, Нечаев ни на один день не оставлял ее. Но раньше, чем поступить в университет, необходимо было выдержать экзамен за полный курс гимназии. Можно представить, через какие огромные трудности пришлось перешагнуть Нечаеву, чтобы одному, без всяких руководителей, самостоятельно разбираться в сложных геометрических, алгебраических и тригонометрических задачах и по самоучителю осилить французский и немецкий языки.
К этому периоду усиленной подготовки так же относится знакомство Нечаева с молодым начинающим писателем народником Нефедовым, Пример Нефедова заражал и Нечаева. Вместо того, чтобы стоять за купеческим прилавком, Нефедов бросил семью и переехал в Москву. Сохранилась обширная переписка Нечаева с Нефедовым, в которой довольно ярко отразился духовный облик самого Нечаева, его рост и непреклонная воля к достижению намеченной цели. Для более успешного прохождения гимназического курса Нечаев решил подыскать себе сотоварищей для совместной проработки гимназического курса. Но вскоре ему пришлось отказаться от этого. Благодаря своим выдающимся способностям, Нечаев довольно скоро обогнал своих товарищей, которые, систематически отставая, задерживали этим самыми Сергея.
Не считая целесообразным попусту тратить время, Сергей отказался от такой «помощи» и принялся за самостоятельное прохождение гимназической программы.
Через несколько лет он был настолько подготовлен, что нашел возможным держать первый экзамен за шесть классов гимназии. В своих занятиях Нечаев не ограничивался только одним прохождением гимназического курса, – свое образование он усиленно пополнял чтением книг по вопросам естествознания. В шестнадцать лет он перечитал почти все книги, какие можно было достать в ивановской библиотеке, и это в то время, когда ему приходилось тратить много времени на добывание средств к жизни в качестве маляра. В это время Нечаев представлял шестнадцатилетнего юношу, похожего скорее на мальчика. Тем не менее, это был уже совершенно взрослый человек. Сильная воля и настойчивость являлись отличительными чертами его характера. Умение оказывать влияние на окружающих заставляло прислушиваться к нему людей, по возрасту значительно старше его. Даже суровый отец и тот принужден был считаться со своим шестнадцатилетним сыном. С детства выработанная железная воля, способность оказывать огромное воздействие на окружающих, не покидали Нечаева на протяжении всей дальнейшей его революционной деятельности.
Никакие силы, ни гонения правительства, ни заключение в одиночном каземате Александровского равелина, ни даже пытки, – ничто, казалось, не в силах было сломить его стальную, неприступную волю. Чем тяжелее обрушивались на него всякого рода лишения, тем крепче закалялась его воля… А если принять во внимание, что окружающая жизнь промышленного села Иванова с ее классовыми противоречиями давала обильный материал для наблюдений, то вполне понятно, почему в этом раннем возрасте у Нечаева начинает обнаруживаться исключительная ненависть к окружающему буржуазно-капиталистическому обществу с его чрезмерным гнетом, насилием и произволом.
При таких условиях необходим был только внешний толчок, благодаря которому все дремлющие в подсознательном социальные антагонизмы могли бы вылиться в активную революционную борьбу. Таким толчком и был переезд его в Петербург в апреле 1866 г. Но прежде, чем успел переехать Нечаев в столицу, ему целых два года пришлось еще проторчать в Иванове.
В это время ему уже было восемнадцать лет. Благодаря тяжелым домашним условиям, ему пришлось значительно перестроить все свои планы. Не желая больше оставаться «обузой» для семьи, Сергей решил держать экзамен не за 6 классов гимназии, а на звание народного учителя, чтобы возможно скорее добиться самостоятельности. С этой целью в августе 1865 г. он переезжает г. Москву. Но в Москве экзамены почему-то тянулись очень долго, что-то около нескольких месяцев. Не желая терять времени, Нечаев, по совету своих друзей, Дементьева и Нефедова, в апреле 1866 г. переезжает в Петербург, где те же экзамены проходили значительно скорее. В Петербурге в это время происходили исключительной важности события. За несколько дней перед этим произошло покушение Каракозова. Выстрел Каракозова произвел огромнейшее впечатление на Нечаева. Бродившие в его сознании социальные антагонизмы и смутные политические воззрения под влиянием выстрела получили свою заостренность и политическое оформление. Отныне все симпатии молодого Нечаева начинают концентрироваться исключительно вокруг вопросов политического характера. Усиливавшаяся правительственная реакция для такой натуры, как Нечаев, только способствовала закалу его революционной воли и обостряла характер дальнейших его устремлений. Недаром, спустя несколько лет после этого, касаясь характера своей революционной деятельности, Нечаев писал: «Начинание нашего святого дела положено утром 4 апреля 1866 года Дмитрием Владимировичем Каракозовым».
Дело Каракозова надо рассматривать, как пролог. Постараемся друзья, чтобы поскорее наступила и сама драма».
Выдержав довольно скоро экзамен на звание народного учителя, Нечаев вскоре получил место в Андреевском училище, а через год был назначен заведывающим Петербургским Сергеевским приходским училищем. С Петербурга начинается не только самостоятельная, но и совершенно новая полоса в его жизни. За какие-нибудь два года жизни в столице Нечаев настолько быстро подвинулся в своем политическом развитии, что вскоре вокруг него начал образовываться политический кружок. В этом кружке обсуждались главным образом наиболее животрепещущие вопросы политической жизни, читали «Lanterne» Рошфора, a также разбирали такие произведения, как работу об Иосафе Огрызко, статьи Роберта Оуэна, «Историю Французской Революции» Луи Блана и книгу Буонарротти «Заговор Бабефа».
К этому времени, после трёхлетнего затишья в связи с каракозовским выстрелом, в среде учащейся молодежи начало обнаруживаться заметное пробуждение общественной мысли.
Пытаясь установить известную преемственность с предыдущими поколениями, молодежь переносила в круг своих интересов не задачи политической борьбы, впервые выдвинутые13.
По свидетельству Ралли, одного из участников этого кружка, книга Буонарроти произвела «потрясающее» впечатление. Знакомство с жизнью и революционной деятельностью такого блестящего представителя революционного коммунизма, как Франсуа Гракх Бабеф, определило направление нечаевского кружка. Благодаря влиянию Бабефа, в кружке определенно заговорили о необходимости организации в России тайного революционного общества для предстоящей политической борьбы. Но если для других членов кружка, как, например Ралли, «разговор о тайном обществе был излюбленным сюжетом», то лично для Нечаева организация тайного общества являлась ближайшей задачей его дальнейших революционных устремлений. Каракозовым, а то мирное разрешение социальных вопросов, какое определялось правой частью ишутинского кружка.
С легкой руки Чернышевского актуальный для первой половины 60-х годов вопрос – «Что делать?» – целиком, по Чернышевскому, переносился молодежью в изменившуюся политическую обстановку. Если для своего времени вопрос этот представлял свою историческую значимость и сводился к призыву молодежи начать организацию образцовых мастерских, в которых, выучившись тому или иному мастерству, молодежь могла бы начать революционную пропаганду среди народа, то для «радикальной» молодежи конца 60-х годов вопрос этот значительно утрачивал свой революционный смысл, превращаясь в вопрос чисто этического порядка. Что делать, чтобы принести пользу народу и облегчить тяжелое положение крестьян?
И «радикально» настроенная народническая молодежь разрешала его по старому рецепту Чернышевского, ни капли не задумываясь над тем, что такой рецепт» был продиктован условиями тогдашней цензуры, так как свой роман «Что делать?» Чернышевский писал в крепости, а не на свободе.
Кроме того, «радикальная» молодежь упускала из виду, что предшествующий период правительственной реакции достаточно четко обнаружил все уязвимые стороны этого рецепта, а сама жизнь достаточно вскрыла основные противоречия его. Но если для «радикальной» молодежи вопрос этот стоял в плоскости чисто этических достижений – вместе с народом разделить его тяжелое положение, – то для Нечаева выход из создавшегося политического положения намечался совершенно иной. До тех пор, пока будет существовать царское правительство, до тех пор абсолютно нельзя помышлять ни о каких социалистических мероприятиях, в роде мастерских.
Для достижения поставленной задачи молодежь прежде всего должна сорганизоваться в революционное общество, выработать программу, а потом уже «итти в народ», но не для того, чтобы учить его, а для того, чтобы начать агитацию за всенародное восстание против царя, против царского правительства и помещиков. С такими вот мыслями и настроениями осенью 1868 года Нечаев и поступил вольнослушателем в Петербургский университет.
Революционная деятельность Нечаева начинается со студенческих волнений, происходивших в Петербурге зимой 1868 и весною 1869 г. Во время этих волнений Нечаев впервые обнаружил себя в качестве политического организатора учащейся молодежи. Это были первые после 1861 г. крупные студенческие беспорядки. Вспыхнули они, как и в 1861 г., из-за ограничений академических вольностей. К этому времени значительно изменилась социально-политическая обстановка, изменился и классовый состав самого студенчества. Если в начале десятилетия преобладающим контингентом среди студенчества была до некоторой степени обеспеченная часть дворянства, то к концу десятилетия студенческая масса значительно выросла за счет разорившихся слоев дворянства и выходцев из чиновного и духовного сословий. Это обстоятельство не могло не отразиться на экономическом и политическом уровне самого студенчества. Экономически студенчество представляло собою крайне необеспеченную массу, принужденную по большей части жить случайным заработком.
Нищета среди студенчества настолько была велика, что многим приходилось довольствоваться только хлебом и водою. У многих не было даже собственной квартиры, так что приходилось ночевать или у знакомых или под открытым петербургским небом. В политическом отношении это была мелкобуржуазная среда, выросшая на почве более интенсивного распада старого помещичье-дворянского быта и растущих буржуазно-капиталистических взаимоотношений. Несмотря на свою оппозицию буржуазно-демократической группировке, она неразрывно связана была с ее идеологией. Для передовой части этого студенчества высшими запросами являлись вопросы нравственно-этического порядка, для большинства же они не выходили за пределы чисто материальных интересов.
Вспыхнувший впервые после 1861 года огромнейший водород в девяти центральных губерниях в 1867— 68 гг. еще более ухудшил экономическое положение студенчества.
Поэтому вопросы экономической взаимопомощи среди студенчества естественно выдвинуты были на первый план. Организация кассы взаимопомощи и дешевых студенческих столовых являлись самыми насущными вопросами студенческой жизни. Но, прежде чем приступить к практическому воплощению тех или иных мероприятий, необходима была известного рода самоорганизация. Потребность в студенческих сходках для обсуждения ряда вопросов, связанных с организацией взаимопомощи, выдвигалась самой жизнью. Но правительство не могло примириться даже с такой, сравнительно невинной формой самоорганизации студенчества. Усиливавшаяся с каждым годом правительственная реакция слепо шла по пути возможно полного лишения студентов самых невинных льгот, и в первую голову обрушилось прежде всего на студенческие столовые и кассы, признанные «крамольными». Чтобы обуздать студенчество, его начали постепенно «подтягивать».
Одной из таких мер было введение военного строя в стенах высших учебных заведений. Первым учебным заведением, подвергшимся подобной военизации, была Медико-Хирургическая Академия.
В результате грубого вмешательства правительства во внутреннюю академическую жизнь начало назревать недовольство в студенческой среде. Недовольство легко можно было ликвидировать, если бы правительство немного вдумчивей отнеслось бы к вопросам экономического положения студенчества. Но правительство сознательно шло по линии наибольшего сопротивления, предвидя, что в результате вспыхнувших волнений оно приобретет «законное право» в корне придушить всякие ростки общественной жизни в студенческой среде.
Первое столкновение между студентами и администрацией Медико-Хирургической Академии произошло из-за неотдания чести одним студентом инспектору Академии. Провинившийся студент был немедленно уволен. Возмущенные студенты потребовали обратного приема уволенного товарища. Начались сходки, которые с каждым днем стали принимать все более и более бурный характер, вылившиеся в серьезные студенческие волнения. Из Медико-Хирургической Академии студенческие волнения перекинулись в другие высшие учебные заведения. Вслед за медиками заволновались студенты Университета, Лесного и Технологического Институтов, так как правительственный произвол был одинаков во всех высших учебных заведениях.
Во имя солидарности студенчество решило дружно протестовать против домогательств правительства, выставив требование легализации сходок, студенческих столовых и касс взаимопомощи. Сергей Нечаев в это время был студентом Петербургского университета. Чисто академические вопросы в начавшихся волнениях не играли для него существенной роли. Тем не менее Нечаев ясно предвидел, что на почве возникших волнений легко могло произойти полевение студенческой массы, являвшееся необходимой предпосылкой политического оформления ее воззрений.
Только с этой целью Нечаев и принял самое деятельное участие в начавшихся волнениях.
Выступая на многочисленных сходках, он старался отвлечь внимание студентов от чисто академических вопросов в сторону вопросов политического характера, доказывая при этом, что главным виновником ограничения студенческих льгот являлись не академическое начальство, а само правительство, с которым и необходимо было начать политическую борьбу. Для большинства студенческой массы вопросы политического характера не стояли на первом плане.
Студенчество намерено было ограничиться только вопросами академического характера. Тем не менее в студенческой среде произошло резкое расслоение на две взаимно враждебные группы. Одна из них, во главе которой стоял студент Озерский и которую не без основания называли «консервативной партией», призывала студенчество воздержаться от политических выступлений и ограничиться только вопросами академической жизни. Группа Озерского больше всего боялась, что в результате начавшихся волнений большинство студентов будет уволено и выслано из Петербурга на родину. Наоборот, другая – так называемая «радикальная партия, бывшая в значительном меньшинстве, настаивала на необходимости сохранения всех академических льгот: столовых, касс, распределения пособий не начальством, а студенчеством, расширения правил приема в высшие учебные заведения за счет семинаристов и женщин, доступ которым в высшие учебные заведения был запрещён правительством.
Радикальная группа не так остро ставила вопрос о возможной высылке студентов на родину, считая, что в самом худшем случае это повлечет за собою расширение сферы влияния за счет провинциальной студенческой молодежи в плоскости оформления ее общественных взглядов. Лично Нечаева ни одна из этих группировок на могла удовлетворить. Горячо поддерживая и отстаивая требования радикалов, Нечаев выдвигал совершенно иные вопросы. Для него волновавшаяся студенческая масса являлась не чем иным, как резервом, откуда можно было черпать необходимые революционные силы для предстоящей политической борьбы.
Выступая на студенческих сходках с горячими политическими речами, он внимательно следил за развитием революционного сознания и готовности отдать все свои силы для служения народному делу, и, если он замечал, что тот или иной студент проявлял maximum политической активности, такого студента Нечаев немедленно старался втянуть в существовавший уже политический кружок. Организованный Нечаевым политический кружок за время студенческих волнений значительно вырос и расширил свою деятельность. В кружок были втянуты не только студенты, но и ряд лиц, находившихся вне студенческого движения.
Особенно близко сошелся Нечаев с писателем, революционером-якобинцем П.Г. Ткачевым, с которым и решил заложить основы в нестуденческой революционной организации. К этому времени в Россию из-за границы проник № 1 журнала «Народное Дело», издававшегося Бакуниным в Женеве. Выпущенный 1 сентября 1869 года, журнал этот к началу учебного года уже ходил по студенческим рукам в переписанном виде, вызывая горячие обсуждения и дебаты в связи с затронутыми Бакуниным общественно-политическими вопросами. Впервые после Герцена, Бакунин обратился к учащейся молодежи с призывом «идти в народ», попутно поставив четко вопрос о роли учащейся молодежи в деле революционной борьбы. Опубликованная в этом журнале «Программа» Бакунина произвела огромное впечатление на студенческую молодежь и послужила довольно важным организующим фактором ее общественно – политического оформления. То, что бродило в сознании учащейся молодежи, как смутное представление о «своем неоплатном долге перед русским крестьянином», под влиянием «Программы» Бакунина приобретало реальную значимость. Для народнически настроенной молодежи «Программа» Бакунина являлась своего рода политическим откровением.
Совершенно иначе воспринимал «Программу» Бакунина Нечаев. Для Нечаева слишком ясны были все недочеты этой «Программы». К числу подобных недочетов Нечаев относил все общие места «Программы», а главное – отсутствие практических выводов для осуществления поставленных задач.
Принимая «Программу» Бакунина в целом, Нечаев довольно критически отнесся к ее практическим предложениям и неоднократно указывал, что мало высказать предложение «в народ», надо ясно указать, что должен будет делать каждый, уходя, в народ. Наметившееся расхождение с «Программой» Бакунина побудило Нечаева приступить к выработке собственной Программы революционных действий». Выдвигая в своей «Программе революционных действий» принцип классового строения общества и неизбежный антагонизм между эксплуатируемыми и эксплуататорами, Нечаев считал, что для достижений завоеваний социальной революции необходима прежде всего политическая борьба с царским правительством.
Но для борьбы нужны силы. Поэтому идея организации революционных сил являлась единственным средством для достижения поставленных задач. Отсюда практический вывод – прежде всего необходимо выделить, сплотить и сорганизовать определенный кадр наиболее стойкой революционной молодежи, расселить ее по различным концам России и начать агитацию за всенародное восстание против царя и царского правительства. Но смелым планам Нечаева не удалось осуществиться. За ним уже давно начала усиленно следить полиция. После одной студенческой сходки, 29 января 1869 г. Нечаев был арестован. Но из-под ареста ему все же удалось бежать.
Вырвавшись из рук полиции, в начале февраля 1869 г. он переехал в Москву. Но и в Москве полиция не оставляла Нечаева в покое. Видя, что в России никуда не уйдешь от полиции, он решил переехать на некоторое время за границу, тем более, что в задачу намеченной «Программы революционных действий» входило установление связи с русскими революционерами, жившими за границей. Арест Нечаева только ускорил намеченный отъезд его за границу. Перейдя на нелегальное положение, с чужим паспортом в кармане, 4 марта 1869 г. Нечаев благополучно перебрался через русскую границу и через несколько дней был в Швейцарии, где постарался в первую очередь свидеться с жившим там Бакуниным.
Бакунин, как и Герцен, принадлежал к старшему поколению русских революционеров. Из России он эмигрировал давно и с тех пор о русских революционных делах знал понаслышке или по тем отрывочным сведениям, которые, хотя и скудно, но все же просачивались за границу. Непосредственно оторванный от русской жизни, всю свою огромнейшую революционную энергию Бакунин сосредоточил по преимуществу на вопросах западно-европейского и славянского движения. Тем не менее вопросы русского революционного движения ни на минуту не оставляли его, хотя непосредственной связи с русским движением у него не было. Вот почему появление среди швейцарской эмиграции такого революционера, как Нечаев, с его горячей верой в торжество русской революции, с его кипучей энергией, непреклонной волей и готовностью пожертвовать всем во имя интересов и блага революции, – произвели огромное впечатление на старика Бакунина. Среди русской эмиграции, успевшей погрязнуть в личные дрязги, Нечаев был тем новым человеком, какие так нужны были Бакунину для осуществления целого ряда его революционных замыслов. «У меня сейчас один из таких молодых фанатиков, – писал Бакунин своему другу Гильому о Нечаеве, которые ни в чем не сомневаются, ничего не боятся, и которые поставили себе принципом, что многие, очень многие должны погибнуть от руки русского правительства, но что они не успокоятся до тех пор, пока народ не восстанет». И действительно, Нечаев был прежде всего человеком «дела». Попав за границу, Нечаев не только не остыл, но, наоборот, продолжал гореть еще ярче, увлекая за собой и окружающих. Для Нечаева при всяких обстоятельствах интересы русской революции всегда стояли на первом плане. Своей личной жизни или каких-либо привязанностей у него никогда не было. Все его счастье это было счастье освобожденного от помещичьего и царского гнета обездоленного русского народа. Своему революционному долгу Нечаев служил с беззаветной преданностью Глядя на него, многие как бы подчинялись обаянию его кипучей натуры и охотно шли за ним. Перед обаянием такой натуры, как Нечаев, не мог устоять и такой старый революционер, как Бакунин.
Отдавая должное выдающимся агитаторским способностям Нечаева, называя его «своим тигренком», Бакунин охотно отдавал себя в распоряжение Нечаева, несмотря на крайнее различие их возрастов: Бакунину в то время шел 56-й год, а Нечаеву было всего лишь 21 год. Основной задачей своей поездки за границу Нечаев ставил установить по возможности прочные связи с заграничным центром политических эмигрантов, для того чтобы упорядочить и координировать характер революционного движения внутри самой России. Нечаев покинул Россию в самый разгар студенческих волнений. А так как студенчество в то время представляло единственный горючий материал, то прежде всего необходимо было поддержать начавшееся студенческое движение.
С этой целью Нечаев, совместно с Бакуниным, написал несколько революционных прокламаций к русским студентам, в которых призывал волновавшуюся молодежь не забывать страданий русского народа и твердо помнить о своем революционном служении «народному делу». Главной целью своей Нечаев считал организацию в России тайного революционного общества. Поддерживая начавшееся движение, Нечаев рассчитывал, что этим самым будет подготовлена почва для намеченной революционной организации. Прежде всего необходимо было основать за границей революционный журнал, в котором периодически освещались бы задачи и пути развития революционного общества.
Но для печатания такого журнала, а тем более для ведения революционных дел внутри России, необходимы были огромные средства. Таких средств не было ни у Бакунина, ни тем более у Нечаева. Зато они имелись у Герцена и хранились у него под видом так называемого «Бахметьевского фонда», предназначенного для нужд русской революции. Считая, что благоприятный момент для начала революционной агитации в России уже наступил, Бакунин настоял, чтобы Герцен выдал этот фонд Нечаеву.
Герцену не хотелось расстаться с этим фондом, тем не менее он все же принужден был половину всего фонда, в 10 000 франков, выдать Нечаеву. На эту часть полученного «Бахметьевского фонда» Нечаев отпечатал в Швейцарии № 1 журнала «Народная Расправа», получившего название по имени будущей революционной организации в России.
Для намечаемой революционной организации прежде всего необходимо было выработать программу и устав – таким уставом был написанный Нечаевым «Катехизис революционера». Согласно § 1 этого «Катехизиса», «революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией». Сам Нечаев больше, чем кто бы то ни было, отвечал этому основному требованию «Катехизиса». У него действительно ничего не было своего, весь он, как и вся его жизнь, принадлежал исключительно революции.
Закончив дела за границей, Нечаев начал торопиться в Россию для осуществления своих революционных планов.
Перед отъездом Бакунин выдал ему удостоверение в качестве уполномоченного «Всемирно-революционного Комитета». В середине августа 1869 г. Нечаев покинул Швейцарию и через Румынию направился в Россию. С помощью болгарских революционеров, с которыми Нечаев установил тесные связи, под чужой фамилией, он перешел русскую границу и 3 сентября 1869 г. был в Москве, где тотчас приступил к организации тайного революционного общества – «Народной Расправы». Приехав в Москву, Нечаев прежде всего восстановил свои прежние революционные связи. Первым делом он обратился к Петру Гавриловичу Успенскому, с которым был знаком до отъезда за границу. Успенский был организатором кружка самообразования среди московских студентов и служил приказчиком в книжном магазине Черкесова. Работа в книжном магазине давала ему возможность тесного общения со многими студентами, которые охотно обращались к нему за книгами и советами. Через Успенского Нечаев предполагал познакомиться с наиболее пригодными для революционной деятельности студентами. Прежде всего Нечаев рассказал Успенскому о своей встрече с Бакуниным за границей и о всех своих революционных замыслах организовать в России тайное революционное общество для подготовки государственного переворота. Сам Успенский не раз задумывался о создании такого общества. Вот почему, когда Нечаев предложил ему войти в число членов этого общества, Успенский, не задумываясь, охотно согласился и, действительно, принял самое горячее участие во всех организационных планах.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе