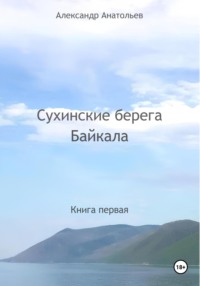Читать книгу: «Сухинские берега Байкала», страница 4
Глава 5
В конце 17-го века, на месте будущего село Сухая появились летние времянки и зимовья русских рыбаков из Инкино, Дубинино, из других, ближайших соседних деревень. А
в десятилетия первые следующего века, некоторые из рыбаков Селенгинского правобережья, уже попытались обосноваться здесь оседло, в устье небольшой, речушки Топка. Так по некоторым свидетельствам, первым сухинским поселенцем на левом, Топкинском берегу, где-то в промежутке между 1710 и 1720 годами, следует считать бывшего жителя Кудары Благовещенской Астафия Гашева, занимавшегося тогда здесь в основном рыбалкой, державшим пару ездовых лошадей, да небольшое поголовье крупнорогатого, домашнего скота. В начале сороковых годов того же столетия по соседству с ним, но на правом берегу Топки, поставил дом житель соседнего села Оймур. Это был отец Луки Симухина, имя которого осталось безвестным. Прошло лет двадцать, или немногим более, как вряд с ним поселилась еще одна оймурская семья Евдокима Филонова. В 1780-х годах Евдоким, когда его сыну Филиппу было около десяти лет, немногим более чем в сотне саженей от береговой линии Байкала, построил на реке Сухая, первую в здешних местах мукомольную мельницу. Позднее она перешла в наследие внуку Филиппа, Григорию, который будучи жителем села, Оймур, вероятно из-за большой отдаленности проживания, продал ее заморскому буряту Илье Тарбанову. Так было положено начало основания, и осуществление первого этапа строительства село Сухая русскими.
Однако задолго до описываемых событий, в устье одноименной селу горной реки, на побережье самой северо-восточной оконечности юго-западного Байкала, ставили стойбища охотники одного из северных народов – эвенков из рода баликагиров. С незапамятных времен, кочуя водным путем вдоль восточного побережья Байкала, приходили они, на берега сухинские из Баргузина и даже Верхнего Приангарья. А после страшного землетрясения в новогоднюю ночь1862 года, на соседний с сухинцами мыс, позднее получивший название «Мочище» из улуса Цаган погрузившегося в байкальскую пучину пришли и поселились в 1864 году семь семей из трех родов: Абзай, Бага-Шоноев и Галзут. Однако без малого тридцать лет спустя, по решению уездной и волостной властей российских, с согласия Степной Думы кударинских бурят, «Мочищенцы», вынужденно переселились на левобережье соседней речки Загза, где немногим более чем в полутора верстах к юго-западу от деревни Сухая основали новый улус, с одноименным этой речушке названием.
На сухинское побережье буряты пришли из затопленной водой Байкала Цаганской степи, когда-то широко простиравшейся близь устья реки Селенги, на ее правобережье. В ту степь Селенгинского понизовья, их предки заморские буряты Предбайкалья, перекочевали, где-то в первой половине 17-го века, из верховий реки Лена (Зулха), устьев рек Анга, Сарма, и острова Ольхон. Предбайкальские буряты, несомненно, приобщаясь к рыбному промыслу, во время летних путин, переправлялись и на восточный берег Байкала. Поэтому они, гораздо раньше русских рыбаков, появились на сухинском побережье, соответственно многие его географические названия, бесспорно, имеют бурятское происхождение. Так, скажем, слово Энхалук, правильнее Ёнхалуг, корень которого «хал» с бурятского на русский, можно перевести, как мелкий болотный кустарник, а слово Загза, место богатое рыбой. Следовательно, это заморские буряты, дали речкам и прилегающим к их водоразделам болотным калтусам, названия Энхалук, Энхалукский и Загза, Загзинский.
И это тоже они – заморские буряты, быть может, когда-то впервые появившиеся на берегах соседней, с указанными водостоками, горной речки, привнесли ей такой гидроним, как Сохээ, заимствованный ранее у эвенков и перетрансформированный в их родном языке. Сохээ – означает заболоченное место, поросшее редколесьем и кустарниками. Вероятно, изначально оно было применительно только к мелко заболоченному сухинскому побережью. А оно и в последней четверти 19-го века, т. е. в период массового заселения русскими, выглядело совсем не так, как сегодня. Открытые, безлесные береговые пространства, и в настоящее время все еще привычно называемые сухинцами «Утугами» и «Песками», в то время попросту отсутствовали. Уровень Байкала был значительно ниже, а линия уреза воды проходила, там, где в нынешнее время плещутся байкальские волны. Сразу же за береговой, песчаной полосой начинались мелко заболоченные низины. А далее, вдоль прибрежных гор, широкой лентой опоясывал ее дремучий таежный лес.
Не вызывает сомнения и то, что именно голоним Сохээ стал применяться и к берегам устья горного ручья, который русские позднее поименуют Мочищем. Наверно не случайно будущие Загзинцы называли свое первоначальное место проживания в Сухой, точно так же, как Заморцы Сохээ. Со временем это привнесенное название прижилось применительно не только к соседней горной реке, но и местности, прилегающей, к ее водоразделу, т. е. пади, в верховьях которой она берет начало, и по которой главным руслом несет свои воды к Байкалу. Русские рыбаки, впервые высадившись на каменистые и сухие берега данной речки, отличительно разнящиеся с заболоченными берегами Загзы и Энхалука, со всей очевидностью такое название истолковали совсем иначе и применительно к созвучному исконно русскому слову. Переняв название, вероятно, вначале всего лишь местные, а со временем и все жители юго-западного побережья Байкала, не значительно трансформировав его, стали произносить уже повсеместно, только в топонимике русского языка.
К началу19 века Филоновы построили рядом с первым второй дом, в котором проживал с семьей Кирсантий повзрослевший старший сын Филиппа. В1846-ом в Сухой поселились еще две семьи из Дубинино, Ермилы и его младшего брата Финоеда Черниговских, а лет через пять Владимира Рогова, до этого проживавшего в село Оймур. Так с их поселением стало проживать здесь уже шесть русских семей. Но в 1881 году Черниговские, во время большого шторма на Байкале потеряли троих членов своих семей, и многие из сухинцев покинуло ранее хорошо обжитые уже ими сухинские берега. Таким образом, до середины восьмидесятых годов 19 века в Сухой, когда вернулась семья Евдокии Черниговской с сыном Сергеем, вышедшая замуж в деревне Инкино, проживало оседло, всего лишь одна семья Тихона Филонова. Так заканчивался первоначальный период основания село Сухая.
Конец восьмидесятых и первые годы девяностых указанного выше столетия, ознаменовалось тем, что началось как бы повторное, причем массовое заселение русскими села Сухая. Сюда они стали прибывать, теперь уже из разных сел практически со всего понизовья реки Селенга. В 1889 году из Кудары приехал Дружинин Гавриил Петрович, а из Шигаево Мошкин Егор Федорович, через год из Красного Яра Макар Вторушин, братья Ненашевы Галастион, Филипп, Лаврентий, Герасим и их зять Алексей Власов. В период с 1890 – по 1895 г.г. прибыли: из Корсакова Темников Петр, из Байкало-Кудары Чирков Иван, Обросов Антип, Иванов Иван, из Быково Куржумов Федор и Пермяков Василий. В следующее пятилетие поселились семьи: Кобылкина Прохора, Лобанова Кирилла, Хлызова Астафия, Обросова Ефима, Лебедева Семена, братьев Куржумовых Василия и Прокопия, Макельского Ильи. В результате к началу второй половины описываемого десятилетия, в Сухой числилось уже свыше150 человек, проживавших в 30-ти семьях. Сухинские новоселы этого времени происходил в основном из наибеднейшей прослойки рыбаков Селенгинского понизовья. И это в их в числе пришли из Байкало-Кудары и поселились в Сухой Антип Обросев и две семьи молодоженов: Ивана Хамоева и Осипа Бабтина.
У сухинцев долго отсутствовало нормальное сухопутное сообщение с остальным побережьем юго-западного Байкала. Дремучая тайга, зыбучие побережные пески и топкие болотные калтусы, особенно Дуланский, еще более чем полстолетия будут трудно преодолимым препятствием на пути в Сухую. Но, несмотря на это Антип Обросев, Иван Хамоев и Осип Бабтин, в числе второй волны сухинских первопоселенцев рвались в эту, казалось бы, забытую богом местность, чтобы опираясь на взаимопомощь и дружбу, сложившуюся с ранних, детских лет, выбиться из нужды. Еще один их сверстник и друг Андриан Мушеков, отец которого ранее разбогател торговлей на рыбе, переехал в Сухую, движимый несколько иными мотивами. Но не все состоялось, так как мечтали друзья когда-то. Спустя годы, вопреки всему ожидаемому, здесь в Сухой, вероятно, волей характеров, и дальнейших тернисто-извилистых судеб, складывающихся, подчас так непредвиденно, из личных и общественных взаимоотношений, жизнь превратила их, некогда близких людей, кого в деловых соперников, а кого-то и в яростно-непримиримых врагов.
Прибывшие в Сухую новоселы первой массовой волны, стремились селиться в непосредственной близости к водной кромке побережья Байкала. Поэтому строящаяся параллельно береговой линии первая улица села получилась более-менее прямая, и на ней к середине девяностых годов 19-го века, располагалось уже свыше десятка жилых домов. Как таковых огородов еще не было, а были огороженные жердевыми изгородями придомовые участки земли, зачастую с так и не поваленным лесом. Здесь же, на этой улице, силами и средствами рыбаков из ближайших деревень, через пятнадцать лет, напротив места гибели семейства Черниговских в знак их памяти, была возведена часовенка, а затем деревянный, небольшой, православный приход, нареченный во имя святых апостолов Петра и Павла.
В описываемое время уровень Байкала был значительно ниже, а его береговая линия проходила, там, где позднее, немногим менее столетие спустя, стали плескаться байкальские волны. Сразу же за песчаной полосой сухинского побережья, начинались заболоченные низменные места, густо поросшие непролазными зарослями тальника, мелким кустарником и разными болотно-лесными травами дикоросами. В них водилась различная пернатая, перелетная птица и большое разнообразие дикого животного мира. Не случайно, при щедром природном изобилии, царившем в первые годы основания села, в здешних девственно-непролазных чащобах, сухинские мужики устраивали охоту, даже на лосей. Но, а в небольшом удалении от заболоченных береговых низин, вдоль всего байкальского побережья, начиная от подножий прибрежных гор, и далее по их склонам и плоскогорьям, широкой полосой тянулся смешанный, лиственный лес, уходящий в бескрайнюю таежную даль горного приволья необъятного Сухинского Подлеморья.
Поэтому следующему притоку новоселов, прибывшему в это же десятилетие, пришлось строить дома уже в глубине описанного выше лесистого побережья, или фактически в задах огородов, прилегающих к домам первой, береговой улицы. Новостройки продвигались все дальше от берега и дома новоселы рубили и ставили там, где кто и как хотел. Поэтому вторая улица, возведенная в половину десятка домов, получилась невообразимо искривленной, хотя и строилась, казалось бы, параллельно первой. Каждый вновь прибывший старался строиться, как можно дальше друг от друга, а из-за межевых перелесков, делящих земельные участки новостроек, не видно было даже, где стоит ближайший дом соседа. Село строилось в разные стороны бесплановое, и все же необходимость прямого выхода со второй улицы к побережью Байкала, диктовала обязательность обустройства уличных переулков. Если вести счет по порядку, начиная от въезда в село с юго-западной стороны, то к описываемому времени лета 1897 года их насчитывалось три.
Первый напротив церкви, где в конце восьмидесятых годов поселился бывший каторжник Непомнящих Осип Игнатьевич. С сыновьями Егором, Прокопьем и прибывшим с ними троюродным племянником Осипом, он первым из числа переселенцев волны массового заселения Сухой срубил в этом переулке маленький домик. Больше нищенствуя, занимался Осип Игнатьевич с сыновьями раскорчевкой чужой земли, а троюродного племянника Оську прозванного по-уличному Хабой, отправил батрачить годовым работником к состоятельным односельчанам. Некоторое время спустя, рядом с домом Осипа Игнатьевича построился родной дядя Хабы, Анисий Непомнящих, с сыном Акимом. И на протяжение многих лет в этом переулке больше никто из вновь прибывающих не селился. Второй переулок возник почти на двести лет раньше остальных, там, где когда-то начиналось село, а третий в сотне саженей далее на северо-восток от первоначального, с началом первой массовой волны заселения. Во всех трех переулках насчитывалось полтора десятка домов. Бывшие кударяне Осип Бабтин и Иван Хамоев, для строительства жилья выбрали третий переулок, и их возведенные дома, оказались разделенные только проезжей частью улицы, стоящие чуть наискосок напротив друг друга. Позднее, становясь хозяйствующие состоятельными, возвели они немного поодаль от своих домов, по одну уличную сторону с сухинской почтовой станцией постоялый двор, гостевую избу, подобно известным в России трактирам и торговую лавку с прилагающими пристройками и постройками к ним. Хамоеву принадлежала лавка, Бабтину гостевая избу, а принадлежность постоялого двора, новоявленные предприниматели делили на равных долевых паях.
Андриан Мушеков с братьями Лекандром и Гавриилом появился в Сухой десятилетием позднее друзей своей юности и молодых лет. По воле столетнего родителя Ильи, поселился он на левом берегу устья реки Сухая, там, где в начале девяностых годов обосновался мельник с Ольхона Илья Тарбанов и приступил к домашнему обустройству родственным, отдельно-замкнутым хуторским особняком.
В период первого массового заселения Сухой, началось активное освоение прилегающих к селу земель и на левом плоскогорье в пади Топка, первые сухинские земледельцы принялись валить лес под распашку полей. Стремления во чтобы то, не стало жить в достатке и вырваться из нужды, а в таких случаях не минуемо возникавшее деловое соперничество, двигало действиями и поступками людей, подчас порождая нездоровую атмосферу зависти, а вместе с ней и безудержную алчность. Поэтому новоселы первой волны массового заселения Сухой, старались захватить все ближайшие к селу лучшие участки земли, даже если для вырубки вековой тайги и разработки таких земельных участков у них не имелось достаточно сил, средств и времени. Так как пахотное земледелие считалось высоко затратным, то оно еще какое-то время находилось в начальной стадии своего развития. К тому же ранние весенние и осенние заморозки не давали созревать хлебам и в первую очередь пшенице. Это чаще случалось на полях ближе к Байкалу. Тем не менее, затратив много нелегкого труда на освоение земли, большинство сухинцев не хотели расставаться с ней, и поэтому сеяли вынужденно в основном рожь и ячмень. В результате потребляли хлеб больше черный из ржаной муки и зачастую солоделый. Недостаток пшеничного хлеба восполняли, путем мены рыбы на зерно пшеницы. Многие сухинцы были разочарованы такими неблагоприятными обстоятельствами еще не так недавно выбранного ими местожительства, и практически в те же первые годы массового заселения села, покинули его.
Со скотоводством было значительно проще. Для зимнего содержания скотины требовались, прежде всего, сенокосы с хорошими травостоями и некоторые из сухинцев преуспели развернуться. Они самовольно захватывали и присваивали все подходящие в ближайших окрестностях, травянистые прогалины и редколесья, не требующие больших затрат на расчистку. Кроме самовольно захваченных лесных полян под сенокосные угодья, для сенокошения ими использовался и Загзинский калтус. Но все же здесь, в топком болоте косили сено больше те, кто не имел в достатке лесных сенокосов. Выгоны для скота были общими. Скот пасся без пастухов в лесной деревенской округе. Поэтому нередко таежные хищные звери: волки, росомахи и медведи нападали на деревенских околичных выгонах, на пасущихся коров, случалось и на лошадей, и наносили ощутимый урон.
Не случайно, как и более ста лет назад, доминирующим занятием в Сухой по-прежнему, оставалась рыбалка. При хорошей организации и удаче, она приносила неплохие доходы. Поэтому по примеру кударинских, корсаковских и оймурских богатых рыболовов, состоятельные рыбаки сухинцы кроме сетевых лодок, стали заводить и закидные невода.
Вся бригада большой сетевой лодки составляла восемь паев, где обычно два пая приходилось на рыбацкий стан, оборудованный кухонным инвентарем. Остальные шесть считались сетевыми, и они приходились все либо на хозяина рыболовецкого стана, либо на его дольщиков из числа рыбаков, имеющих хотя бы один и больше сетевых паёв.
Закидной же невод составлял от тридцати, до сорока паев. Сюда входил невод с мотней, неводник большого размера, представлявший собой плоскодонную лодку, именуемую несколько странно для здешних мест рыбаками «эстонкой», спуск, два спусковых подъездка, большая морская многовесельная лодка, одна средняя гребная, две малые лодки и две коногонные лошади с воротами. Основной долей такого имущества от двадцати, до тридцати паев владели лишь единицы самых предприимчивых сухинцев. Однако к описываемому времени было немало и таких, кто сумел заиметь от одного до четырех паев сетевых и даже до половины десятка паев неводных. Такие рыбаки выходили на летнюю рыбалку непременно на долевых паях, как в сетевых, так и в неводных бригадах. Так сухинский рыбак Кирилл Лобанов имел в неводной бригаде оймурского богача Евдокима Филонова долю своего участия в три пая. Кроме того держал Кирилл все паи и в своей сетевой лодке, строил дом и сумел к тому времени распахать две десятины пахотной земли на левобережье устья реки Сухая. Лелеял Лобанов надежду расширить её со временем и приобрести конскую жнейку хлебов. Состоятельность в хозяйствование достигал Кирилл упорным трудом и честным отношением к рыбакам рыбачивших в его лодке по найму, чего нельзя было сказать о некоторых других состоятельных рыбаках, односельчанах.
В Сухой в число самых богатых, первым выбился Иван Хамоев. Прилагает все усилия и старания не отстать от него и Осип Бабтин. Правда, пока еще слабовато тягаться Бабтину с соперником односельчанином, имевшим более половины паев на одном только закидном неводе, принадлежащим с весны текущего года ему, да столько же на трех больших морских, двух малых рыбацких лодках. Однако Осип тоже не сидит, сложа руки, и этим летом, в канун первого омулевого привала, сдал в пользование, на условиях, с половины добытого, три сплава новых сетей тунгусам Тыгульчи. А у себя на сухинском берегу, на правобережье речушки Топки, как раз напротив своего дома, он еще с весны успел выстроить пристань, пусть пока что единственного, но уже единоличного сетевого стана. И это в его сетевой лодке ходит Леонтий Меркушов, и не как у большинства других, на долевых паях, а простым наемным башлыком, что для многих, в том числе и для самого Бабтина оказалось большой редкостной удачей. Такое пусть не часто, но случалось здесь нередко. Рыбак не сумевший выкарабкаться из долговой кабалы, или, пережив на море штормовую стихию, даже из самых бывалых и опытных, лишаясь рыбацкого снаряжения, вынужден был, как наемный батрак идти на рыбалку по найму. И все же таких рыбаков, как Леонтий Меркушов были единицы, и их любым способом старались привязать к себе как можно ближе те, кто сам старался не выходить в море, а всего лишь занимался ее организацией, или куда чаще скупкой и торговлей рыбы.
Тем не менее, за летний сезон рыбалки, даже рядовому рыбаку по найму доставалось не так уж и мало. Порой случалось, добывал он и солил рыбы два, а то и три, семи пудовых, рыбных лагуна. Лагун оценивался в десять рублей, четыре лагуна омуля стоили цены лошади, а доброй ездовой порой доходила до сотни рублей. Иван Хамоев за предыдущий
летний сезон рыбалки добыл свыше двадцати пудов рыбы, не считая причитающейся рыбакам по паям и долям по найму, а Осип всего лишь около половины его улова. Иван, когда-то такой же бедняк и голодранец, как и Бабтин, за короткий срок построил огромный дом, заимел свыше пяти десятин пашенной земели, от продажи рыбы расширил хозяйство больше, чем кто-либо из сухинских мужиков. Скота он держал только дойного десять голов крупнорогатого, семь езжалых лошадей, не считая молодняка. Купил сенокосилку, хлебожнейку, и намерен даже приобрести зерномолотилку. Осип заметно уступал ему в богатстве. А это и не давало ему покоя. Правда, он тоже построил добротный дом, имел немалое подворье со скотом, а для ухода за ним, и для других хозяйственных нужд и рыбалки, содержал в последнее время три годовых работника. В годовых работниках жили в дворовых постройках его те, кто не имел собственного жилья и семьи, нередко ссыльные и беглые каторжные. В наемные же работники, шли, как правило, батраки односельчане, а то и из соседних сел. Не гнушался Осип привечать на постоянную, или временную работу даже нищими, бродячими людьми. Не брезговал Бабтин и отпетыми уголовниками, лишь бы отвечали они ему лояльностью, и способны были выполнять самую нелегкую физическую работу. И все же многое Осип достиг личными стараниями, как дельный и изворотливый в хозяйствование человек, обладающий невероятной изощренностью и смекалистым умом, пусть даже и эксплуатирующий полудармовой чужой труд. Однако немало достигнутое им все это в короткие сроки, так и не приносило желаемого удовлетворения. Грезил Бабтин давней, заветной мечтой, стать самым состоятельным и богатым хозяином не только в Сухой, а желанно во всем понизовье Селенгинском, что не давало ему никакого покоя, и тем, точно червь безудержно точило чрезмерно ненасытное его самолюбие.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе