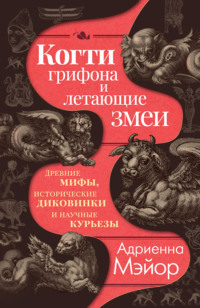Читать книгу: «Когти грифона и летающие змеи. Древние мифы, исторические диковинки и научные курьезы», страница 5
7. Маленькая птичка с ядовитым пометом
Одно из самых загадочных ядовитых существ, описанных в классической древности, – птица дикайрон, помет которой считали смертельно опасным для человека. Этот экзотический птичий биотоксин специально собирали в высоких горах Индии. Стоит заметить, что в древности Индией называли далекие земли к востоку от Персии (Ирана).
Первым эту птицу описал греческий врач Ктесий, живший в Персии в конце V века до н. э., за ним – римский натуралист Элиан в III веке. Оба сообщали, что крошечная оранжевая птичка по имени дикайрон выделяет мощнейший яд. Даже малое количество помета птички могло вызвать смерть в течение нескольких часов. Это редкое вещество было одним из самых драгоценных и редких подарков, которые правители Индии посылали царям Персии. Его хранили в королевской аптеке как ценное средство для убийства или самоубийства.
Что это была за птица и в чем заключался секрет ее яда?
По рассказам, дикайрон был размером с яйцо куропатки – около 4 сантиметров в длину. Вряд ли такая маленькая птичка производила много экскрементов, но следует учитывать, что в птичьих фекалиях, как известно, скрываются возбудители более 60 заболеваний. В высохшем птичьем помете могут содержаться патогены, поражающие легкие и центральную нервную систему, в том числе бактерии сальмонеллы и кишечной палочки, а также грибок, вызывающий смертельное респираторное заболевание – гистоплазмоз. Возможно, в сушеном помете неизвестной птицы дикайрон также находился особо вирулентный смертоносный патоген.
Некоторые специалисты по Античности предположили, что экзотическим ядом, о котором идет речь, были орехи бетеля или каннабис. Но степная конопля хорошо известна Геродоту, и она не смертоносна (см. главу 21). Жевание ягод южноазиатской пальмы арека и листьев бетеля обладает канцерогенным действием, однако их нельзя назвать быстродействующим ядом. Другие специалисты высказали предположение, что дикайрон был не птицей, а крылатым навозным жуком, помет которого путали с опиумом. Известный нам по источникам размер дикайрона примерно соответствует размеру навозного жука. Навозные жуки имеют длинные крылья и хорошо умеют летать. Некоторые виды навозных жуков встречаются даже в птичьих гнездах. Гипотеза о том, что маленькая оранжевая птичка на самом деле была навозным жуком, выглядела бы убедительно, если бы не тот факт, что навозные жуки не ядовиты, а источник опиума – мак – был хорошо известен в древности.
Но не исключено, что жуки все же как-то замешаны в этом деле. Некоторые крупные виды крылатых жуков достаточно велики, чтобы их можно было принять за маленьких птиц. Многие виды особо ядовитых жуков использовали для изготовления отравленного оружия. Например, народ сан из пустыни Калахари в Африке много тысяч лет смазывал наконечники стрел внутренностями личинок ядовитых жуков Diamphidia. Может ли слово «помет» оказаться попыткой перевести на греческий другое слово, обозначающее выделения или внутренности насекомых? Возможно, древние сообщения о крошках «помета» загадочного дикайрона возникли из искаженных рассказов о похожем токсине, полученном в Индии от насекомых. Некоторые виды ядовитых жуков были известны еще в классической Античности. Так, Аристотель и специалист по ядам Никандр описывали смертоносные вещества, которые добывали из жуков-нарывников и жуков рода Staphylinus, яд которых был достаточно силен, чтобы убить случайно проглотившую это насекомое козу или корову.
Разгадать тайну легендарного дикайрона может помочь одно недавнее открытие фармакологов-энтомологов. В 1980-х годах ученые начали исследовать токсические свойства жуков Paederus большого семейства Staphylinidae (стафилинид), встречающихся во многих регионах мира, включая Северную Индию. Эти хищные летающие насекомые оранжево-черной или полностью оранжевой окраски имеют длину около 2,5 сантиметра. Некоторые их виды обитают в птичьих гнездах. Эти особенности – способность к полету, окраска и обитание в гнездах – возможно, объясняют, каким образом по мере распространения сведений о них дальше к западу их начали путать с мелкими птицами. Как выяснилось, в китайской медицине этот жук был известен еще 1200 лет назад. Фармакопея Чэня в 739 году достоверно описывает жука Paederus, называя его «чин яо чун», и утверждает, что его «могущественный яд» можно использовать для удаления с кожи фурункулов, полипов и нежелательных татуировок.
Упомянутые жуки-нарывники выделяют опасный яд, а в их внутренностях, или гемолимфе, обнаружен педерин, один из самых сильнодействующих животных токсинов в мире, более мощный, чем яд кобры. Педерин вызывает на коже воспаленные, гнойные язвы, а при попадании в глаза может стать причиной слепоты. Принятый внутрь педерин, так же как и помет дикайрона в античных рассказах, приводит к серьезному повреждению внутренних органов.
Есть еще один возможный ответ на загадку птицы дикайрон. Возможно, история дикайрона – один из редких примеров токсичности птиц, спровоцированной поеданием ядовитых растений или жуков, содержащих нейротоксины.
Как ни странно, дикайрон – не единственная ядовитая птица, о которой писали в древности. Царь Митридат VI Понтийский, правивший на территории современной Северной Турции и противостоявший Римской империи во времена Митридатовых войн (89–63 гг. до н. э.), много экспериментировал с отравляющими веществами (см. главу 36). Он выращивал в своих садах ядовитые растения, стремясь создать универсальное противоядие. Также он разводил понтийских уток, которые были известны своим ядовитым мясом. По словам Плиния Старшего, который читал тексты Митридата, посвященные токсикологии, после смерти царя в 63 году до н. э. Митридат знал о способности уток питаться ядами и надеялся извлечь из этого пользу. Он кормил уток их любимыми ядовитыми растениями и собирал для своих экспериментов утиные яйца, кровь и мясо. Плиний сообщает, что Митридат подмешивал в изобретенное им противоядие кровь понтийских уток. Во II веке Авл Геллий отмечает, что понтийские утки обладают «способностью выделять яды», и ссылается на Митридата, считавшего кровь уток самым действенным веществом в их организме.
Некоторым другим греческим и римским авторам было также известно о существах, способных без всяких последствий употреблять в пищу ядовитые для человека продукты. Например, многие отмечали, что понтийские пчелы спокойно собирают нектар с ядовитых цветков рододендрона, однако их мед губителен для млекопитающих, в том числе для человека (см. главу 37). Ядовитыми растениями, по рассказам, также питались козы и перепела, что делало их мясо смертельно опасным для хищников и людей. Об этом писали Аристотель в IV веке до н. э. («О растениях», 820.6–7), а позднее Филон («Наука о сельском хозяйстве», 14.24 и «Об особенных законах», 4.120–131), Лукреций («О природе вещей», 4.639–640), Гален («О темпераментах», 3.4) и Секст Эмпирик («Очерки пирронизма», 1.57). Считалось, что перепела становятся небезопасными из-за того, что поедают ядовитые семена болиголова, чемерицы или белены – растений, широко распространенных в Средиземноморье и в Анатолии.
В Ветхом Завете есть эпизод, рассказывающий о массовом отравлении израильтян перепелами на пути в Землю обетованную. Согласно Исходу (16.11–12), израильтяне, пересекая Синайскую пустыню, жестоко страдали от голода, но однажды в сумерках на их лагерь чудесным образом спустилось множество перепелов. В Книге Чисел (11.31–34) говорится, что огромные стаи перепелов принесло в лагерь ветром с моря. На земле сидело так много птиц, что люди в ту ночь ловили их сотнями, а на следующий день вволю полакомились жареным мясом. Но после того, как израильтяне съели птиц, их ряды начала косить свирепая чума. Историки науки предполагают, что эта «чума» была вспышкой так называемого котурнизма – отравления перепелиным мясом. Употребление в пищу токсичных перепелов может вызвать рабдомиолиз – острый некроз мышечной ткани, приводящий к шоку и летальной почечной недостаточности.
Еще во II веке н. э. врач и автор медицинских трактатов Гален заметил, что отравления мясом перепелов происходят осенью, когда стаи европейских перепелов мигрируют через Средиземное море, Анатолию и Аравийскую пустыню на юг, в Египет и Восточную Африку, к местам зимовки. Гален предположил, что во время миграции перепела питаются семенами болиголова, и из-за этого их мясо становится ядовитым. Семена болиголова содержат нейротоксин кониин, вызывающий паралич и удушье. Современные научные исследования подтверждают, что европейские мигрирующие перепела (Coturnix coturnix) становятся ядовитыми только во время осенних перелетов на юг. Обширные стаи перепелов совершают перелеты в темное время суток, а днем отдыхают, что совпадает с деталями, описанными в Библии. Сезонная токсичность птиц указывает на поглощение какого-то широкодоступного во время путешествия на юг корма. Известно, что именно осенью у болиголова начинается процесс активного созревания семян.
Сравнительно недавний случай отравления перепелиным мясом был зарегистрирован в Турции осенью 2007 года: из десяти человек, решивших полакомиться на ужин жареными мигрирующими перепелами, пострадали четверо. Случаи котурнизма были также отмечены в Алжире, Франции, Испании, Италии и на острове Лесбос в Греции – во всех этих местах останавливаются на отдых мигрирующие промысловые птицы. Интересно, что палестинцы Газы (см. карту в главе 1) в сентябре и октябре с нетерпением ждут ежегодного появления перепелов, и на рассвете ловят сотни этих птиц с помощью мелких сетей, чтобы затем зажарить или приготовить традиционный перепелиный суп. Маленькая птичка – важный источник пищи для местных жителей и единственный вид мяса в их рационе. При этом никаких сообщений о котурнизме из сектора Газа, судя по всему, не поступало. Научные исследования показывают, что склонность к отравлению перепелиным мясом зависит от генетических мутаций ферментов печени человека. Вероятно, древние израильтяне обладали особой генетической чувствительностью к этим токсинам, турецкие любители дичи оказались к ним уже не так восприимчивы, а палестинцы, по-видимому, и того меньше.
Учитывая количество античных и средневековых сообщений о ядовитых утках и перепелах, удивительно, что явление птичьей токсичности начало привлекать научное внимание только после того, как была «открыта» дроздовая мухоловка, оранжево-черная певчая птица, обитающая в Австралии и Новой Гвинее. Сейчас она считается самой ядовитой птицей в мире. Однако коренные жители этих мест с давних времен знали, что дроздовая мухоловка, а также синешапочная ифрита и лесная сорокопутовая мухоловка ядовиты. Прикосновение к этим птицам вызывает неприятное онемение и покалывание, а употребление в пищу их мяса может привести к смерти. Ученые обнаружили, что в коже, перьях и плоти этих и других ядовитых птиц содержатся батрахотоксины – семейство химических веществ, выделяемых лягушками-древолазами. Предположительно, помет этих птиц также содержит батрахотоксины. Эти птицы питаются ядовитыми жуками-хорезинами, малоизученными представителями семейства Melyridae. В Африке обыкновенный шпорцевый гусь питается жуками-нарывниками, которые производят кантаридин, что делает приготовленного гуся смертельно опасным для человека. Выяснилось, что токсичные бактерии содержатся в копчиковых железах у оранжево-черных удодов Восточной Африки и Азии. На сегодняшний день известно около сотни видов птиц (перепелов, тетеревов, гусей и более мелких видов), мясо которых неприятно на вкус, имеет отталкивающий запах или ядовито для человека.
Токсичность птиц остается малоизученной областью, и происхождение этого феномена до конца не ясно. Очевидно, он представляет собой сформировавшуюся в процессе эволюции разновидность химической защиты, приобретенную в результате употребления в пищу ядовитых растений или жуков или поглощения каким-либо образом токсинов насекомых. Но конкретный механизм возникновения токсичности птиц пока неизвестен.
Тем не менее у нас на выбор есть несколько вариантов идентификации загадочной птицы дикайрон, чей смертоносный помет в древности специально собирали как сильнодействующий яд для убийства или самоубийства и о которой писали Ктесий и Элиан. Возможно, у истоков этой легенды стояли гипервирулентные бактерии или грибки, содержащиеся в сушеных экскрементах неизвестной птицы, обитающей в горах Индии. Либо мы имеем дело с искажением сведений в ходе передачи, и существо, которое фигурирует в рассказах древних путешественников как маленькая ядовитая оранжевая птица, на самом деле было крупным и крайне ядовитым оранжевым жуком. Еще одно правдоподобное объяснение заключается в том, что дикайрон может быть реально существующим, но пока не обнаруженным ядовитым видом, и эта крошечная оранжевая птичка до сих пор порхает и испражняется батрахотоксинами где-то на неизведанных лесистых склонах Памира, Гиндукуша или Гималаев.
8. Стервятники – талисманы римской армии
Первые окольцованные птицы
Во время войны первыми на кровопролития откликались стервятники. Этих крупных хищных птиц часто видели над полями сражений, где они кружили, высматривая себе лакомую добычу среди мертвых и умирающих. В ожидании нового пиршества стервятники-падальщики нередко следовали за древними армиями во время походов.
Когда великий римский полководец Гай Марий (157-86 гг. до н. э.) воевал против германских племен (кимвров, тевтонов и амбронов – подробнее о них см. главу 39), его солдаты заметили, что во время переходов их сопровождает пара стервятников. Армейский кузнец выковал два бронзовых ошейника, и легионерам удалось поймать стервятников в сети, вероятно, пока они кормились. Солдаты надели на шеи хищников бронзовые обручи и отпустили свои новые талисманы на свободу.
С тех пор, замечая неподалеку этих стервятников в ярко блестящих на солнце бронзовых ошейниках, римские солдаты ощущали прилив воодушевления и приветствовали их одобрительными возгласами. Со времен основания Рима стервятники считались хорошим предзнаменованием. Пара стервятников поднимала боевой дух армии – их появление воспринималось как верный знак того, что римлян ждет победа, а их крылатые талисманы смогут насытиться трупами врагов.

Пара чёрных грифов в бронзовых ошейниках с гравировкой.
Рисунок Мишель Энджел
Эту занятную историю о первом задокументированном случае кольцевания птиц первым рассказал в I веке Александр Миндский, чьи труды о животных ныне утеряны, за исключением ряда фрагментов, а также биограф Мария Плутарх (46–119) в своих «Сравнительных жизнеописаниях».
В древнеримский период в Европе обитало несколько видов стервятников. Возможно, птицами, о которых идет речь, были белоголовые сипы (Gyps fulvus), черные или бурые грифы (Aegypius monachus), либо грифы-бородачи, или ягнятники (Gypaetus barbatus). Европейские грифы живут поодиночке или парами. Они очень умны и склонны к моногамии: находят себе пару на всю жизнь, при этом в паре ведут себя как равные. Можно предположить, что стервятники, окольцованные солдатами Гая Мария, были как раз парой – самцом и самкой. Стервятники могут жить до 40 лет, размах их крыльев достигает 2–3 метров. Хищников, сопровождавших легион, вряд ли можно назвать ручными домашними птицами, однако нетрудно представить, как римские солдаты оставляли для них еду возле лагеря или специально подкармливали во время переходов, чтобы удержать рядом с собой (о домашних птицах см. главу 9).
Солдаты, служившие под началом Мария, наверняка слышали и о почтовых голубях и воронах, которые доставляли привязанные к лапке или к шее послания с просьбами о подкреплении и данными военной разведки, помогали поддерживать связь во время осад или между отдельными армиями. Один из первых таких примеров относится к временам Второй Пунической войны (218–201 гг. до н. э.) – тогда к осажденным римским позициям отправили ласточку с привязанным к лапке шнурком. Количество узлов означало, через сколько дней прибудет помощь. Существует также много историй о том, как с помощью ласточек, голубей и ворон передавали новости о спортивных победах. Для этого им на лапки повязывали цветные шнурки или лоскуты окрашенной ткани, или просто наносили на перья мазок краски того цвета, который обозначал команду-победительницу. Подобные сообщения о временном кольцевании птиц для передачи сообщений восходят к V веку до н. э. В Средние века сокольничие окольцовывали хищных птиц, чтобы показать, кому они принадлежат. По некоторым сведениям, примерно в 1595 году на Мальте был пойман сапсан, носивший знак французского короля Генриха IV.
Насколько нам известно, стервятники Мария, окольцованные более 2000 лет назад, стали первыми птицами, получившими постоянные ошейники, по которым их можно было идентифицировать и отслеживать их перемещения.
9. Домашние птицы в разные века
Эта глава посвящена памяти двух моих знакомых говорящих птиц. Когда мне было 11 лет, на день рождения мне подарили зеленого длиннохвостого попугайчика. Мы назвали его Бибоп, поскольку слышали, что птицам легче всего даются звуки «б» и «п». Бибоп умел произносить свое имя, а моя мама научила его выговаривать: «Птицы не умеют говорить!» Кроме того, Бибоп самостоятельно выучил первые строки «Лихтенштейнской польки» (Ja, das ist die Liechtensteiner Polka mein Schatz!). Она заняла 16-е место в поп-чарте США в 1957 году, и ее постоянно крутили по радио и на домашних проигрывателях. Вторая говорящая птица – большой попугай-амазон, которого держали в вестибюле здания National Geographic в Вашингтоне, округ Колумбия. Я заглядывала туда во время обеденных перерывов, когда работала неподалеку от Белого дома в 1968 году. Этот попугай знал только одну эффектную фразу, и пронзительно кричал каждому проходившему мимо: «Скажи что-нибудь! Скажи что-нибудь!»
Домашние птицы на протяжении многих веков скрашивали жизнь знаменитых (а также печально известных) людей. На древнегреческих вазах мы находим изображения детей, играющих в женских покоях с питомцами – голубями и ибисами. В Древнем Риме Катулл упоминал в своих эротических стихах (2 и 3), какими ласками его возлюбленная осыпала ручного домашнего воробья, а Овидий сочинил сатирическую элегию о попугае своей любовницы Коринны (Любовные элегии, 2.6).
Поэты Нового времени тоже увековечивали попугаев в стихах. «Я не обменял бы своего попугайчика на всех голубей мира», – утверждал поэт Мэтью Прайор в 1718 году. Уильям Каупер в стихотворении «Попугай» того же периода описывает типичный разговор попугая и его хозяйки: «Попка хороший!» – нежно восклицает дама, и пернатый подражатель охотно с ней соглашается: «Попка хороший!»
В эпоху Реставрации в Англии владельцы птиц были очень привязаны к своим питомцам, о чем свидетельствуют некоторые частные объявления в London Gazette:
«В прошлое воскресенье из моего окна улетел маленький попугай с красной головой и зеленым, красным и черным хвостом» (1688).
«Потерялся зеленый попугай с черно-красным кольцом на шее» (1675).

Прирученная птица. Рисунок на греческой вазе, 420 г. до н. э.
Копия Мишель Энджел
Журнал Tatler (основанный в 1709 году и ставший чем-то вроде первой в мире социальной сети) публиковал письма молодого человека, который жаловался, что возлюбленная пренебрегает его ухаживаниями и уделяет слишком много внимания своему попугаю.
Чрезвычайной популярностью пользовались канарейки. В 1685 году объявление в одной лондонской газете сообщало о продаже «семи сотен канареек, недавно привезенных с Канарских островов». Через несколько лет толпы любопытных собрались на Риджент-стрит, чтобы послушать еще одну канарейку, обладавшую поразительными ораторскими способностями. Помимо слов: «Поцелуйчик, поцелуйчик» в сопровождении характерных звуков птица умела говорить: «Душка Тичи, милашка-крошка Тичи» и «Ну поцелуй меня, милая Минни». Кроме того, в репертуар канарейки входили первые такты гимна «Боже, храни королеву».
В XVII веке Ост-Индская компания нередко привозила из дальних стран экзотических птиц. Некоторых из них преподносили в дар британской королевской семье. Например, герцог Йоркский в 1664 году получил от компании бенгальскую майну. Эта птица, знавшая множество фраз и умевшая подражать ржанию лошади, считается первой майной, попавшей в Англию. Любимым развлечением жителей Лондона в те времена стали прогулки по фешенебельному Сент-Джеймсскому парку, где в общественных вольерах были выставлены на всеобщее обозрение сотни прекрасных редких птиц. Улица, на месте которой раньше находилась упомянутая часть парка, до сих пор носит название Бердкейдж-Уок – в память о больших птичьих вольерах, обитателей которых при Карле II поставляла Ост-Индская компания.
В 1662 году Карл II женился на Екатерине Брагансской, которая принесла ему в приданое города Танжер и Бомбей. Но вместо редких птиц из этих тропических портов король предпочитал держать в своей спальне английского ручного скворца. Позднее королевский скворец был подарен Сэмюэлю Пипсу, великому диаристу, писавшему о повседневной жизни британской знати в 1660-х годах. «Королевский скворец и впрямь чудесно разговаривает и свистит, чем я весьма горжусь!» – восклицал Пипс в своих заметках. Кроме скворца он держал дома несколько канареек, подаренных ему другом-капитаном. В своем дневнике Пипс описывает приятную поездку за клетками для канареек и упоминает о том, как его огорчила смерть птицы, которая прожила у него четыре года. Он также восхищается попугаем своей жены, отмечая: «Что касается его умения говорить и петь, я никогда не слышал ничего подобного!»
Пипс пришел в большое изумление, когда попугай его приятеля с первого взгляда узнал африканского слугу Минго, которого раньше видел в другом доме. Еще один попугай чуть не выклевал глаз знакомому Пипса, когда тот наносил визит в дом по соседству. В дневнике Пипса за июнь 1662 года описан веселый званый обед, во время которого гостей развлекал попугай, «привезенный лордом Баттеном с моря». Хотя птица, по словам Пипса, «говорила очень хорошо и самым приятным образом кричала “Попка!”», леди Баттен и ее мать были от нее не в восторге. Вероятно, дни, проведенные на корабле среди матросов, некоторым образом повлияли на ее словарный запас – что, впрочем, составляло извечную проблему всех говорящих птиц.
Преподобный мистер Уэсли из Эпворта рассказывает историю о попугае, который жил в клетке на Биллингсгейт-стрит. Это был район рыбных рынков, куда постоянно заглядывали моряки и рыбаки, известные своей привычкой к нецензурным выражениям. Естественно, попугай, с утра до ночи слышавший подобные обороты, со временем выучил многие из них. В попытке наставить птицу на путь истинный владельцы переселили ее в изящную чайную на другой улице. Не прошло и полугода, как вместо непристойностей попугай начал повторять безобидные фразы, обычно звучавшие в чайной: «Что новенького?» или «Будьте любезны, еще чашку кофе». Исправившемуся таким образом попугаю разрешили вернуться домой на Биллингсгейт. Увы, как сообщил преподобный Уэсли, «в течение недели птица снова принялась браниться и богохульничать, как и прежде».
Еще один попугай-сквернослов выведен в стихотворении Джорджа Крэбба, написанном в 1809 году. В этой трагической истории попугай по имени Попка потерял не только благосклонность хозяйки, но и свою жизнь после того, как «во всеуслышание произнес ужасные слова, от которых щеки леди залил густой румянец». Из бедного попугая набили чучело, а его место в сердце леди занял «подстриженный французский щенок».
Похожую реакцию в 1938 году вызвал попугай-мореплаватель по имени Попай в Нью-Йорке, где проводили радиоконкурс на лучшую говорящую птицу. В конкурсе участвовало 1200 птиц – судьи оценивали их дикцию, словарный запас и оригинальность выражений. Среди участников был принадлежавший продавцу фруктов африканский серый попугай, который выкрикивал названия фруктов на английском языке, поскольку его хозяин говорил только на итальянском. Также был попугай из Омахи по имени Теодор Меткалф (в честь вице-губернатора Небраски, избранного в 1931 году), который умел лаять, мычать, мяукать, стонать и издавать булькающие звуки. Одна 90-летняя птица из Бостона читала молитву «Отче наш». Что касается Попая, которого выставил на конкурс Церковный институт моряков Нью-Йорка, то он был немедленно дисквалифицирован за непристойные выражения, несмотря на впечатляющий словарный запас, хорошую дикцию и оригинальность.
Еще одна забавная история о говорящих птицах себе на уме произошла в Древнем Риме. Ее рассказывает историк и натуралист Элиан, который в III веке записывал разные любопытные случаи, чтобы развлечь своих читателей. По его словам, один заносчивый человек по имени Ханно, прославленный укротитель львов из Карфагена в Северной Африке, накупил у ловцов великое множество певчих птиц и держал их всех в темной комнате. Много месяцев он учил птиц повторять одну фразу: «Ханно – бог». Когда птицы приучились повторять эти слова, Ханно отпустил их на все четыре стороны, надеясь, что они разнесут повсюду весть о его величии. Но птицы просто вернулись в свои «родные места, и там пели песни и издавали трели, как им назначено природой, вовсе не вспоминая о Ханно и о тех уроках, которые им пришлось усвоить в неволе».
Говорящие птицы с ярким оперением были любимыми питомцами королевских семей со времен инков и ацтеков. В 1493 году Христофор Колумб подарил королю Фердинанду и королеве Изабелле коллекцию разноцветных попугаев из Нового Света. Несколько этих птиц позднее сбежали из королевского дворца в Гранаде и разлетелись по окрестным лесам и полям, где восхищали крестьян своим ярким оперением и в особенности поражали их умением повторять испанские фразы.
Африканский серый попугай жако был почётным членом королевского двора в Англии. Будущий король Георг V (1865–1936) в возрасте 12 лет стал юнкером британского флота и до 1892 года путешествовал вокруг света (о его встрече с легендарным кораблем-призраком «Летучий голландец» рассказывается в главе 31). В 1881 году в Японии 16-летний Георг сделал татуировку с красно-синим драконом, а в Порт-Саиде в Египте купил попугая Шарлотту, которая стала его верной подругой на всю оставшуюся жизнь. После коронации во время встреч с Тайным советом Шарлотта сидела у Георга на плече, наклоняя голову, заглядывала в конфиденциальные государственные бумаги и иногда зычным матросским голосом выкрикивала: «В чем дело?» Когда король Георг заболел, Шарлотта часами бормотала: «Где капитан?» После выздоровления короля она стала первым допущенным к нему посетителем. Приплясывая от восторга, она вспорхнула к нему на плечо и воскликнула: «Благослови мои пуговицы! Благослови мои пуговицы! Все в порядке!» По воспоминаниям очевидцев, завтракать с королем было небезопасно из-за того, что Шарлотта обожала таскать вареные яйца с тарелок гостей. Когда птица роняла крошки на скатерть, король Георг накрывал их блюдцем, чтобы королева ничего не заметила. В Королевском архиве есть очаровательная семейная фотография, на которой двухлетняя будущая королева Елизавета запечатлена с Шарлоттой в замке Балморал.
Еще одной знаменитой «государственной птицей» был доблестный французский голубь, во время Первой мировой войны участвовавший в битве при Вердене (1916). В период ожесточенных боев на Западном фронте французский командующий из форта Во отправил с последним оставшимся у него почтовым голубем отчаянную просьбу о подкреплении. Голубь, еще не оправившийся от недавней газовой атаки, нетвердо полетел прочь. Ему все же удалось добраться до штаб-квартиры в Вердене и передать послание, но вскоре после этого он умер. За свой подвиг голубь был награжден орденом Почетного легиона. Его чучело сегодня можно увидеть в Доме Инвалидов, военном музее в Париже, где также находится могила Наполеона.
Искусство таксидермистов позволило сохранить память о многих других знаменитых птицах. В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке хранится чучело домашнего попугая Гудини, а в Свободной библиотеке в Филадельфии – чучело домашнего ворона Чарльза Диккенса. Великий французский писатель Гюстав Флобер для вдохновения держал на письменном столе чучело попугая. Нынешнее местонахождение этого чучела точно неизвестно, но в два муниципальных музея Франции были предложены по меньшей мере два десятка возможных претендентов.
Среди прославленных умерших, которых с почестями похоронили в Вестминстерском аббатстве, есть любимый попугай герцогини Ричмондской, Фрэнсис Терезы Стюарт, за свою необыкновенную красоту прозванной Прекрасная Стюарт. Попугай, повсюду сопровождавший герцогиню на протяжении 40 лет, умер от горя через несколько дней после ее кончины в 1702 году. Птица заняла место рядом с посмертным изображением герцогини в аббатстве, где выставлены восковые фигуры монархов и членов королевской семьи. Считается, что компаньон красавицы Стюарт – самое старое из существующих чучел попугаев.
Все слышали истории об эксцентричных миллионерах, оставляющих свое состояние домашним животным. Одной из таких удачливых птиц был ара по имени Луи, родившийся в 1863 году. Луи жил с известной старой девой Викторией Уилсон в ее поместье в Британской Колумбии вплоть до ее смерти в 1949 году. Вскоре стало известно, что мисс Уилсон завещала Луи, которому на тот момент было 86 лет, свой особняк и земли вокруг него, и вдобавок полмиллиона долларов. Она также назначила содержание слуге, который должен был присматривать за Луи. В 1963 году, к 100-летнему юбилею ара, журнал Life опубликовал фотографию Луи с его смотрителем и предположил, что богатый наследник может дожить до 300 лет. Эта новость повергла в смятение и без того раздосадованных застройщиков, надеявшихся построить в поместье Уилсон кондоминиумы.
Пожалуй, самым роскошным образом жизни мог похвастаться попугай махараджи Наванагара (1872–1933). По слухам, этому попугаю было 115 лет, и у него имелся собственный паспорт, чтобы он мог сопровождать махараджу в дипломатических поездках. Пока махараджа занимался государственными делами или играл в крикет, его попугай катался на собственном «роллс-ройсе» с водителем.
Другим птицам приходилось зарабатывать себе на жизнь честным трудом. В 1940-х годах самой высокооплачиваемой птицей была майна по имени Рафлз. За одно выступление на радио Рафлз, умевший имитировать оксфордский акцент, получал 500 долларов. Он появлялся в передаче «Таверна Даффи» и в программе Фреда Аллена, а в Голливуде познакомился с Уолтом Диснеем, популярным чревовещателем Эдгаром Бергеном и его манекеном Чарли Маккарти, а также великим продюсером Дэвидом О. Селзником. Знаменитая светская обозревательница Эльза Максвелл устроила в честь Рафлза вечеринку, а компания Paramount Pictures наняла Рафлза, чтобы он сыграл вместе с Дороти Ламур в фильме «Радужный остров» (1944). На съемках у прославленной птицы была собственная гримерка с грелкой для гнезда и солидным запасом винограда. Чтобы вызвать работников кинопавильона, Рафлз громко имитировал звук звонка.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе