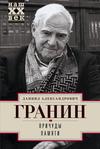Читать книгу: «Последняя тетрадь. Изменчивые тени»
© Гранин Д.А., наследники
© Соколовская Н.Е., составление
© Гордин Я.А., предисловие
© Плотников В.Ф., фото
© ООО «Издательство АСТ»
Яков Гордин
Путь к себе – сквозь столетие
Для меня грехи мои с годами стали неотступны.
Свои заслуги не вспоминаются, а вот угрызения совести покоя не дают.
Д.А. Гранин. «Последняя тетрадь»
Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют.
А.С. Пушкин. «Александр Радищев»
Эта книга являет нам особый, хотя и знакомый жанр. Не знаю, задумывался ли Даниил Александрович о жанровой особенности того, что публиковал в последние годы.
Он был человек начитанный и наверняка знал, что жанр «корпус фрагментов» существовал и до него. Классика жанра – «Опыты» Монтеня. Ближе к нам «Сад Эпикура» Анатоля Франса, знаменитый «Дневник» Жюля Ренара, который не только дневник. Совсем близко «Ни дня без строчки» Юрия Олеши. Хотя у каждого из них был свой сугубо индивидуальный замысел.
Был особый замысел и у Гранина. Ближе к концу книги, размышляя над стихотворением Пушкина «Не дорого ценю я громкие права», он резко проецирует сюжет и смысл стихотворения на себя: «Давно меня привлекало одно стихотворение Пушкина, удивительно оно ложилось на мою душу, на мою жизнь, ту, которую хотелось иметь… Пушкин пишет:
…Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать: для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…
Между тем меня всё время тянет написать отчет о проделанной мною жизни. Отчет кому? Пушкин имел в виду отчет кому-то. А мне вдруг захотелось „себе лишь самому“. Понять, какую жизнь я прожил, тот кусок, который ушел в прошлое. Считается, что прожитая жизнь становится ясной после смерти человека. Такой ясности я уже не получу. Но ведь понять при жизни, как она выглядит издали, как выглядят те тридцать пять – сорок лет, что достались мне, именно мне, Антону Игнатьеву, тому, кто кончил институт, немного повоевал на Великой Отечественной, любил, работал, чего-то писал, был неудачником, был и успешным – как все это выглядит с моей дистанции и как будет выглядеть потом. Вот Пушкин пишет: „Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи“ – гнул ведь я, гнул – и то, и другое, и третье… Я писал не биографию, скорее это была история моих чувств – как я верил в свою страну, в то, что мы создаем замечательное общество, справедливое, счастливое, как терял эту веру, про свои разочарования, обиды, про то, как меня искривляла наша жизнь, выжигала во мне идеалиста, мечтателя».
Не важно, что автор называет себя Антоном Игнатьевым, а не Даниилом Граниным, этим приемом – персонаж, он же автор, – Гранин пользуется неоднократно. Это существенно расширяет возможности в реализации задуманного – время от времени взгляд со стороны в сочетании с непосредственным свидетельством. Этим приемом, развив его, он успешно воспользовался в лучшей, быть может, своей книге – «Мой лейтенант». Кстати, в книге, предлагаемой читателю, есть ясные заготовки для «Моего лейтенанта».
Да, центральный сюжет этого обширного, сотни страниц, текстового пространства – история того, как менялся под давлением опытов жизни умный и талантливый человек. Не знаю, как задумывалась эта эпопея фрагментов, но получилась история личности, накрепко встроенная в историю страны, которую также «искривляли». Указания читателю – сознательно или подсознательно – прорываются в разных, иногда неожиданных местах общего пространства. И объясняют главный импульс, заставляющий писателя строить эту Вавилонскую башню конкретных жизненных фактов, внезапно возникающих мыслей, своих и чужих мимолетных впечатлений, афоризмов.
Вавилонскую башню – поскольку сочинения этого типа не могут органично быть завершены. Они искусственно с точки зрения художественного замысла пресекаются с уходом из мира автора.
Так вот – импульс. «Если забыть, что было со страной, что творили с людьми, – значит утратить совесть. Без памяти совесть мертва, она живет памятью, надоедливой, неотступной, безвыходной… С вопросом о совести я подступался к самым разным людям – психологам, философам, историкам, писателям… Их ответы меня не устраивали. Удивлялись тому, что после всех потрясений, когда перед народом открылась ложь прежнего режима, ужасы ГУЛАГа, преступления властей, никто не усовестился».
Вот: двигатель повествования, как бы разорванно и фрагментарно оно ни было, – понять, что же происходило с этой странной материей, совестью, и самого автора, и всей общности на фоне трагедии огромной страны – «Что было со страной…»
Текстовое пространство многослойно и принципиально бессистемно. Это поток жизни, причудливое течение реки памяти. Но при сюжетной бессистемности оно – чем дальше по нему движешься – представляется структурированным. В расположении фрагментов нет формальной сюжетной логики, но есть логика ассоциативного сцепления.
Сюжетные пласты – собственно автобиографический, военный, исторический – представляются с течением времени не хаотично разорванными, но периодически уходящими в глубину текстового пространства и неожиданно возвращающимися на его поверхность.
Это причудливый и парадоксальный мир и собственной памяти, и разного рода реминисценций.
Биографический элемент – как бы ни назывался герой, условным Д. или Антоном Игнатьевым, – основополагающ.
С истории детства Д. и начинается книга. Эта обширная часть текста написана тонко и психологически точно, напоминая лучшие образцы классической русской прозы о детстве. И взаимоотношения родителей, увиденные прозрачным, но и отстраненным взглядом ребенка, и отношения маленького человека с природой, со сверстниками, печальные догадки о сложности бытия – все это узнаваемо и понятно.
Самое яркое и болезненное пересечение собственно биографического и исторического пластов – война.
К концу чтения появляется ощущение целостности повествования, и причина этому – память и рассуждения о войне, пронизывающие всю его, повествования, толщу. Трагедия войны отрезвляет и воспитывает, бросает страшный отсвет на всю последующую жизнь. Но проявляется это воздействие войны на реальное поведение героя не сразу. Недаром первая военная повесть Гранина «Наш комбат» была написана только во второй половине шестидесятых. И недаром она была опубликована в провинциальном петрозаводском журнале «Север» – в отличие от всех предыдущих крупных вещей писателя.
Но от благородного пафоса «Нашего комбата» до восприятия войны поздним Граниным – дистанция немалого масштаба.
Для Гранина война – это магическое зеркало, в котором отражаются в многообразных сочетаниях память героя-автора и жизнь страны. В этом зеркале прошлое предстает без прикрас и того успокаивающего флёра, который часто генерируется врéменным расстоянием. Всё здесь предельно резко и честно.
Война у Гранина как литературный текст – это война Льва Толстого, предельно конкретная и отталкивающая в своей конкретности.
«И всюду страшные вздутые трупы. Это раненые расползались во все стороны. Умирали, почему-то уткнув лицо в землю, скрюченные последними муками.
Передо мной предстала картина отступления наших. Немцы своих подобрали и похоронили. Наши уходили в небытие безвестными, безвестные навсегда.
От сладкой вони гниющей человечины тошнило, находиться долее не было сил. Жирные блестящие мухи гудели над трупами, кружили птицы. Здесь, на перекрестке дорог, немцы на броневиках настигли отступавшую нашу часть, судя по всему, наши стояли насмерть. Были израсходованы все гранаты, диски автоматов, ручных пулеметов были пусты, так что и поживиться было нечем… Вот что такое отступление».
Военная проза Гранина ближе всего к военной прозе Виктора Астафьева с его безжалостными инвективами: «…Вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощения за бездарно „выигранную“ войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови».
Гранин, конечно, знал эти безжалостные слова, но почти буквально их повторяет: «Мы не хотим осмыслить цену Победы. Чудовищная, немыслимая цена. Правду о потерях выдают порциями, иначе бы она разрушила все представления о сияющем лике Победы. Все наши полководцы, маршалы захлебнулись бы в крови. Все наши монументы, Триумфальные ворота выглядели бы ничтожными перед полями, заваленными трупами. Из черепов можно было coopужать пирамиды, как на верещагинской картине».
Война для Гранина поставила с ослепительной ясностью проблему – власть и народ. И яростный счет, который он предъявляет власти, естественно сосредоточен на центральной фигуре эпохи – Сталине. Сталин возникает на пространстве книги неоднократно. Именно здесь достигает высшей концентрации боль и ненависть: «После войны, когда собрал он свой хурал, хоть помянул бы тех, кто живота не пожалел, защитив этих кремлевских шакалов. Ни слова сочувствия вдовам, инвалидам, сиротам, их ведь, считай, полстраны в остатке. Поклонись им, падло, до земли, на колени встань, прощения проси, упырь!»
Несомненно, это не просто эмоциональный выплеск. Гранин, конечно же, был знакóм с мемуарами Жукова и Василевского, которые, несмотря на внутреннюю и внешнюю цензурованность, достаточно информативны. И, соответственно, знал о роковой роли Сталина в первый год войны, когда тот, самоуверенный дилетант, грубо вмешивался в планирование стратегических операций. Гранину, конечно же, была известна роль Сталина в гибели мощной – более 900 тысяч хорошо вооруженных и обученных солдат – группировки генерала Кирпоноса, командующего Киевским военным округом. Обстановка складывалась таким образом, что армиям Кирпоноса грозило окружение, и Генеральный штаб – Жуков, Шапошников, Василевский – считали, что войска необходимо отвести за Днепр. Это означало сдачу Киева, но спасение группировки. Сталин запретил. Но когда близость катастрофы была уже совершенно ясна, когда истекающие кровью полуокруженные дивизии просили разрешения отойти, Сталин ответил: «Надо заставить прекратить отход. Надо внушить всему составу фронта необходимость упорно драться, не оглядываясь назад». Абсолютно не представляя себе реального положения, в гневе сняв Жукова с поста начальника Генерального штаба, Сталин подписал смертный приговор сотням тысяч советских солдат. Киев немцы взяли. Из 900 тысяч киевской группировки 600 тысяч оказались в плену, остальные в большинстве своем погибли… И это отнюдь не единственный случай, когда по вине Верховного главнокомандующего, принимавшего решения вопреки мнению профессионалов Генерального штаба, погибали сотни тысяч наших солдат и усугублялась катастрофичность общей ситуации. Фронтовик Гранин имел полное право назвать Сталина упырем…
Читатель, знающий Гранина как автора спокойных и мудрых сентенций, проповедующего милосердие и терпимость, будет удивлен жесткостью и бескомпромиссностью его оценок, рассыпанных по книге. И дело не только в бесцензурности нынешних изданий. Гранин последних лет жизни сурово сводил счеты не только с реальностью, но и с самим собой. Тем Граниным, который в принципиальном для него эссе «Страх» писал с горечью: «Это заметки про страх. О том, какое большое место в моей жизни занимал Страх, сколько прекрасных порывов души погасил он в жизни моего поколения, сколько извратил он в характере, как он обессиливал, какие горькие воспоминания он оставил… Мне захотелось рассчитаться с этим чувством, попробовать взглянуть ему в глаза…»
Эта декларация буквально совпадает с программным стихотворением Иосифа Бродского, участие в судьбе которого – на разных этапах с разным знаком – оставило, я уверен, болезненный шрам на памяти Даниила Александровича.
Стихотворение начиналось строками: «Заглянем в лицо трагедии… Заглянем в ее глаза».
На исходе прожитого столетия Гранин решил «взглянуть в глаза» трагедии своей страны и не отвел взгляда.
Разумеется, его память о войне – это не только ее ужас и несправедливость по отношению к человеку. Это и восхищение мужеством тех, кто совершил, казалось бы, невозможное: «В тот страшный 1941 год натерпелись не только позора отступлений, но и боли разочарований. Казалось, все непоправимо. Тогда произошел перелом.
Как это случилось, я толком не понимаю, но это произошло. Нельзя было дальше так воевать, мы ощутили Край.
Это было то, что Пушкин назвал самым точным словом – „остервенение народа“…
В 1942 году, да и в конце 1941-го, уже в костер войны шло все, что могло остановить противника. Дивизии ополчения и в Москве, и в Ленинграде останавливали танковые армии Манштейна, воевали тем, что имели, а кроме сорокапяток дивизия наша имела бутылки с „коктейлем Молотова“. Ею надо было поджечь танк, и поджигали».
И это не художественное преувеличение. В документальном исследовании Марка Солонина «22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война?» рассказана, в частности, история боя дивизии генерала И.Н. Руссиянова, одного из самых успешных генералов Великой Отечественной, у которой по безумному приказу отобрали всю артиллерию: «Вот в таком, практически безоружном состоянии, бойцы дивизии Руссиянова встретили удар 39-го танкового корпуса немцев. Три дня удерживали они свой рубеж обороны, стеклянными фляжками с бензином жгли вражеские танки, уничтожили до полка мотопехоты, в ночном бою разгромили штаб 25-го танкового корпуса вермахта». Это произошло в июне 1941 года. Приведя ряд подобных примеров, Солонин с гордостью говорит: «Тысячи героев 1941 года сражались почти в одиночку, оставшись в хаосе всеобщего бегства без соседей, без связи – и без надежды остаться в живых… Практически на каждом участке огромного фронта начавшейся 22 июня войны находились те, кто среди всеобщего хаоса и панического бегства стоял насмерть»1.
Вообще было бы интересно и поучительно издать военные тексты Гранина с параллельными текстами военных историков, описывавших схожие по месту действия события.
Пространство книги обширно и многообразно. Тут есть и веселые пассажи, и тонкие наблюдения над природой, и рассказы, размышления о любви, да и вообще о человеческих характерах, о парадоксальности человеческой натуры. Это пространство многообразно и разноуровнево по значению сюжетов, как и жизнь, на которую оглянулся Гранин.
И тем не менее главное в книге, ради чего она, уверен, и создавалась день за днем, – преодоление трагедии закреплением ее в памяти своей и тех, кто будет читать книгу.
Как уже было сказано, текст скреплен, неявно структурирован особыми парадоксальными связями. Часто это принцип контраста.
Вот перед читателем тонкое и грустное рассуждение об одиночестве. Одиночество в детстве. О высоком смысле одиночества. Затем – вполне идиллические рассказы о великом физике Абраме Федоровиче Иоффе, о больших ученых, живших в Комарове, о благостных прогулках по комаровским лесам. И тут же – горькая история похорон Ольги Берггольц – история массовой подлости и собственного страха: «А как речей боялись, боялись, чтобы не проговорились – что была она врагом народа, эта великая дочь русского народа, была арестована, сидела, у нее вытоптали ребенка, ее исключили из партии, поносили… На самом деле она была врагом этого позорного режима… Никто, конечно, и слова об этом не сказал. Не проговорились. Только Федя Абрамов немного намекнул на трагедию ее жизни, и то начальство заволновалось. Я в своем слове ничего не сказал. Хотел попрощаться, сказать, за что любил ее, а с этими шакалами счеты у гроба сводить мелко перед горем ее ухода, заплакал, задохнулся, слишком много нас связывало. Только потом, когда шел с кладбища, нет, даже на следующий день заподозрил себя: может, все же убоялся? Неужели даже перед ее гробом лжем, робеем?»
Но этим Гранин не ограничивается. Ему важно вставить эту тяжкую историю в контекст, напоминающий босховские полотна, но без их зловещей мощи – пошлый вариант ужаса: «На поминках выступала писательница Елена Серебровская, тоже сексотка, бездарь, которую Ольга терпеть не могла… Вся эта нечисть облепила ее кончину, как жирные трупные мухи».
Гранин – мастер смысловой рифмы. Помните описание погибших при отступлении красноармейцев и «жирные трупные мухи» над трупами?
И сюжетные рифмы. Историю похорон Ольги Берггольц предваряет история похорон Зощенко. Тот же уговор молчания, но неожиданно сорванный: «Церемония заканчивалась, когда вдруг, растолкав всех, прорвался к гробу Леонид Борисов. Это был уже пожилой писатель, автор известной книги об Александре Грине „Волшебник из Гель-Гью“, человек, который никогда не выступал ни на каких собраниях, можно считать, вполне благонамеренный…
„Миша, дорогой, – закричал Борисов, – прости нас, дураков, мы тебя не защитили, отдали тебя убийцам, виноваты мы, виноваты!“
Надрывный, тонкий голос его поднялся, пронзил всех, покатился вниз, люди передавали друг другу его слова, на улице толпа всколыхнулась…
Я возвращался домой с Алексеем Ивановичем Пантелеевым, он говорил: „Слава богу, хоть кого-то допекло, нашелся человек, спас нашу честь, а мы-то, мы-то…“»
Вот это горькое «а мы-то, мы-то…» постоянно витает над пространством книги.
Важный пласт книги – судьбы, которым посвящены отдельные сюжеты.
Многообразие этой галереи вполне под стать особенности книги как жизненного потока. Шостакович и знаменитый своим мужеством генетик, герой войны Иосиф Рапопорт. Академик Анатолий Петрович Александров, президент Академии наук, и великий Стивен Хокинг. Хрущев и Маленков. И многие, многие другие…
Фигура Маленкова в глазах Гранина, который встречался и разговаривал с первым некогда человеком СССР, – символична. Зловещее ничтожество, безграничная жестокость и чудовищное ханжество. Живя на покое в Москве, Маленков, этот герой террора, с удовольствием наблюдавший, как пытали его вчерашних товарищей, стал ходить в церковь и молиться. При этом писал книгу о Ленине…
И параллельно с этой галереей – судьбы самых разных людей, отнюдь не знаменитых, встреченных Граниным на жизненном пути. Все люди, как утверждает Даниил Александрович, – исторические.
Как-то, узнав, что я занимаюсь историей Петра I, Даниил Александрович спросил с надеждой: «Но ты его полюбил?» Я сказал, что не могу полюбить человека, который собственноручно рубил головы, пытал собственного сына, разрушил – до основания, – нравственные представления русского общества, не предложив взамен ничего кроме «государственной пользы» и принципа «регулярности». Хотя во многом отдаю императору должное.
Даниил Александрович огорчился. Это глубоко личное отношение позднего Гранина к прошлому и настоящему, очевидно, и придает его эпопее своеобразное обаяние. Мы видим как упрямо, не всегда без внутреннего сопротивления, он старается проследить путь от себя прежнего – с «неотступными грехами», с подверженностью страху, – к самому себе, каким он хотел стать и стал. Но это и путь России – под взглядом любящим, но трезвым.
Ославленный безумцем Чаадаев писал: «Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами».
Предлагаемая читателю книга – и завещание Даниила Гранина, и свидетельство изживаемой им с годами жизненной драмы, и понимание единства истории – прошлое и настоящее живут в ней в органичной тревожной связи.
Яков Гордин
Изменчивые тени
Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор,
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор?
Но вы, как дым, надвинулись, виденья,
Туманом мне застлавши кругозор.
Ловлю дыханье ваше грудью всею
И возле вас душою молодею.
И.В. Гёте. «Фауст»Перевод Б. Пастернака
Выигрыш
Как человек появляется на свет Божий, как он растет первые свои годы, как становится человеком – ему самому не ведомо. Начало жизни в памяти у него не остается. Самое важное пропадает. Память о детстве появляется к трем-четырем годам, когда начинается «я». О первых годах можно узнать по рассказам родителей, нянек, какие-то сценки, словечки… Природа зачем-то прячет от человека самый нежный, сладостный период его жизни. Но для чего? Какой-то смысл это засекречивание имеет, ибо все, что творит природа, не случайно, отнюдь не небрежность, не злокозненность. Как бы то ни было, Д. появился на свет в собственном сознании поздно. Даже не в три, а, скорее, в пять лет.
Он застал своего отца старым. Много старше, чем другие отцы. А мать была молодая. Ее рядом с отцом принимали за его дочь. Отец смущался, и Д. страдал за отца. Только когда они оставались вдвоем, жалость к отцу проходила. И то не сразу. Для этого надо было, чтобы они куда-то шагали. Отец опять становился сильным и неутомимым. То же происходило, когда отец размечал лесосеки, делал зарубки, определял, откуда взялся сухостой, жучок.
Жизнь Д. сложилась не очень обычно с первой минуты появления на свет Божий. Можно сказать, что появился он в самый неподходящий момент. Под Новый год. Прямо на балу. Испортил матери праздник. Ее увезли от стола. Или с танцев. Позже она утверждала, что, несмотря на беременность, танцевала. Она была танцунья, певунья, и Д. мог бы подождать со своим появлением годик-другой. А уж сутки – наверняка. Тем не менее он, словно нарочно, появился именно под Новый год, причем данные расходятся: то ли он все же успел проскочить до боя часов, то ли после.
Я никогда не видел его в младенчестве, но сохранилось несколько фотографий – пухлый, круглоголовый младенец, с довольно смышлеными глазами, сильный и, судя по рассказам, имел весьма здоровые легкие.
Рождение в новогоднюю ночь, несомненно, сказалось на его веселом и в то же время задумчивом характере, поскольку под Новый год обычно обновляют надежды, отказываются от вредных привычек, берут всякие обязательства, так и он не раз начинал новую жизнь, в итоге у него набиралось несколько разных жизней.
Несмотря на некоторую досаду, мать была рада его появлению. Он был первенец, и наверняка его можно считать желанным ребенком. Для отца – несомненно. Батюшка торопился закрепить за собой молодую жену. А чем их привяжешь – детьми. «Брюхатить их надо», – повторял он еще и в шестьдесят, и в семьдесят лет. Как-никак разница у них составляла двадцать пять лет. С первой женой разницы не было, а с этой приключился большой разнобой.
Быть желанным ребенком не всегда удается. Потом, может, тебя и полюбят, но важно, как тебя зачинают. Надежды, любовь, которые оба, мужчина и женщина, вкладывают в миг зачатия, многое определяют. Биологи могут не учитывать непосредственного влияния психологии на качество зародыша, но сёстры в родильных домах, те четко различают желанных и нежеланных младенцев.
Итак, он был желанным, и это не раз помогало ему, наделило его способностями, здоровьем, я бы даже сказал, удачливостью.
Плодите желанных детей!
Несколько смутных картинок, загадочно-безымянных, вот и все, что имеется в распоряжении Д. о начале его сознания. В течение первых трех лет завершается становление личности. Ибо главное, как считают генетики, закладывается в наследственном коде, который в свою очередь создается в таинственный и прекраснейший миг зачатия новой жизни.
Итак, первая пора детства Д. в основном известна лишь по рассказам родных, отдельные картинки, словечки, выхваченные из тьмы.
Мать была красавицей. В состав ее красоты входили ее голос и фигура. Д. любил ее голос, наверняка она пела над ним, когда он был еще младенцем, этот чистый высокий голос вошел в него вместе с грудным молоком.
С ее голоса все и началось у отца, когда они еще не были отцом-матерью. Отец был тогда лишь командировочным, попавшим в Литву по делам.
Шел он по своим делам и услышал в переулочке пение. Он свернул туда, пошел на голос как завороженный… Впрочем, не будем преувеличивать. Не такой уж он был мечтательный юнец, не был он и искателем приключений. Это много позже расцвело в их рассказах: «Услышал, как я пою…», «что-то повело меня…». Думаю, что, скорее всего, он просто плутал, ища в незнакомом городе контору, куда направлялся.
Итак, услышал над собой голос, посмотрел наверх и увидел свисающую из окна ножку. Она, ножка с пальчиками, розово просвечивала на солнце. С ножки свисала туфелька. Все это хозяйство принадлежало девице, которая восседала в окне второго этажа, там она шила, и пела, и болтала, голой ногой, вторую поджав под себя.
Ножка была безупречной формы, той самой, которая нравилась Александру, в дальнейшем – Саше. У каждого мужчины к женской ноге есть свои требования. Эта ножка могла претендовать на всеобщий эталон. Будучи выставленной отдельно, она являла бы классический образец. К тому же ножка эта двигалась, видна была до колена и чуть выше. Так что на Сашу действовали и звуковые, и зрительные, и, я бы сказал, эротические силы. Неудивительно, что он застыл перед этими силами с раскрытым ртом. Вид у него был такой, что сверху раздался смех, нога дернулась, туфелька упала перед ним. Далее все развивалось с фатальной неизбежностью. Он поднял туфлю, зашел в подъезд и поднялся в белошвейную мастерскую. Ножка и туфля принадлежали прелестной особе, так показалось ему, все у нее соответствовало голосу. Можно представить себе его вид: провинциал в суконном пиджаке с брезентовым портфелем, в парусиновых туфлях, ошалевший от множества смеющихся женщин, стрекота швейных машинок. Он протянул девице туфельку, девица возьми и поцелуй его, чмокнула в щеку, а он хвать ее и в губы, видно, она чем-то ответила в этом поцелуе, что-то, несомненно, произошло внутри поцелуя, потому что всякий поцелуй имеет свое внутреннее содержание. Отцу помогло то, что он изобразил смешок – опыт обращения с женским племенем у него был. Вечером они уже гуляли в парке. Девицу звали Анной. Он называл ее Нюрой. Три вечера подряд они куда-нибудь отправлялись. Побывали в кондитерской. Катались на извозчике: шикарный экипаж с фонарями, на красных рессорах, извозчик был с малиновым кушаком.
Пока что знакомство их выглядело забавой. С его стороны – солидный господин, отец семейства, он сам подшучивал над собой. Несомненно, он выбрал правильный тон. Никаких неприличных поползновений. Не было больше ни поцелуев, ни объятий. Он держался с ней по-отечески и покровительственно, она кокетничала вовсю, напевала, хихикала, принимала театральные позы, демонстрируя свои достоинства. Их разделяла целая жизнь. Она была девушкой, он же имел жену, дочь, которые жили в Киеве, то есть бесконечно далеко от нее, от этого литовско-русско-польского города.
Они оба делали вид, что их встречи ничего не значат. Она была из большой бедной семьи с множеством братьев и сестер, где никому до нее не было дела. Во всяком случае, она не спешила домой. Она была белошвейка, у него же как-никак было положение, он работал на лесной бирже, какое-то у него имелось дело, полдела, четвертушка, дохода не было, но прочность была.
Перед отъездом он повел ее в настоящий ресторан. Она раздобыла праздничное платье. Сам он был во второй раз в жизни в ресторане, для нее же это было невероятное событие, чудо. Она ахала, не стесняясь своего восторга, вертела хрустальные бокалы, глазела на официантов в черных костюмах.
Конечно, он пускал пыль в глаза этой девочке. Вильна была в те годы провинцией по сравнению с Киевом, а пыль пускал потому, что решение созревало. Сам он о своем решении не знал. Он лишь не хотел отрезветь, опомниться.
Произошло ли объяснение в самом ресторане или позже – неизвестно. Стороны расстались, растревоженные… Александр уехал, далее события стали убыстряться. Когда вернулся в семью, стало ясно, что надо разводиться. Будучи человеком дореволюционных понятий, наш герой, вернее, отец нашего героя относился к разводу серьезно, считал это событие не менее ответственным, чем женитьба. Более ответственным. Потому что новая женитьба ничего не требовала, кроме свободы и решимости. Развод же требовал обеспечить прежнюю семью средствами к существованию. Такие у него были понятия. Вообще развод был катастрофой, но катастрофу остановить он не мог. Нужны были деньги, много денег, которых у него не было. Для него, мелкого служащего, сумма неподъемная. Раздобыть – где, как? Не было хода назад и не было – вперед. Тут были и другие обстоятельства, неизвестные нам, все они вели в отчаяние. Вот об отчаянии мы знаем точно из того, что произошло дальше.
Его посылают в Петроград, в командировку. Там у него был приятель, огромный толстяк, выпивоха. Спустя годы Д. еще успел увидеть его и запомнить. Они выпили, и Саша рассказал ему о своей беде. Признался, что готов на себя руки наложить.
Вполне возможно, он уже имел какие-то обязательства перед Анной, мало ли – обещал ей, расстроил ее помолвку с кем-то. А может, все же что-то было между ними, и такое, что по его понятиям не позволило ему отступиться. В те времена невинность девушки почему-то высоко ценилась и, соответственно, много для нее значила. Нынешнему человеку даже трудно понять такое трепетное отношение к этому чисто условному препятствию.
Выслушав его признание, приятель предлагает единственное – отправиться в игорный клуб. У Александра имелись при себе казенные деньги для закупок лесосек, вот на эти деньги и сыграть, прежде чем руки на себя накладывать. Логично? Пропадать – так с музыкой! И повел его во Владимирский клуб. То было известное заведение, где действительно гремела музыка, был ресторан, все это состояло при зеленых ломберных столах, при рулетке – короче, при игорном промысле.
Февральская революция 1917 года уже произошла, а рулетка все так же крутилась. О крупнейших исторических событиях современники часто понятия не имеют, много позже они читают об этом в книгах, обнаруживают в кинофильмах – оказывается, рядом что-то происходило.
Старик Меженко, известный библиограф, уверял меня, что Октябрьской революции как таковой не было: «Уверяю вас, я как раз 25 октября 1917 года вечером на извозчике проезжал мимо Зимнего дворца, все было тихо. Посидел в гостях, возвращался через Дворцовую площадь, опять ничего не заметил».
Во Владимирском клубе играли по-крупному, Александр смотрел-смотрел, вообще-то в карты он играл, в преферанс по копейке, но имел большую азартность. Жалованье, конечно, не позволяло развернуться, здесь же ставки делали неслыханные. Он взял купил фишек на все казенные деньги, какие ему были выданы, так что переступил. Честь, наработанную репутацию, доверие – всё переступил.
Как вы понимаете, поставил на кон свою судьбу, и тут же рядом с его судьбой встала на кон и еще крохотная судьба нашего будущего героя. Обе они принялись уговаривать Фортуну. Повязка на глазах мешала ей увидеть Александра, может, оно и к лучшему – вид у него был не гусарский. Хотя состояние его передалось, и ему «пошло». Выигрыш за выигрышем, пока он не достиг нужной ему суммы для развода. На этом он остановился, сгреб все денежки и сбежал.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе