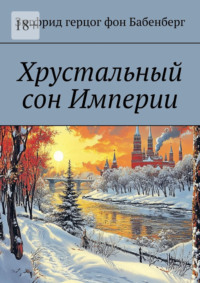Читать книгу: «Хрустальный сон Империи», страница 2
I. РЯСОФОР: Трижды Отвергнутые Ножницы
(по мотивам картины Перова)
Келья. Свеча коптит, как грешная душа. Послушник Илья подает ножницы игумену. Рука не дрожит – вымуштрована годами послушания: мытьем полов, чисткой рыбьих тушек для трапезы, стоянием в храме до коленей.
Игумен Паисий (отстраняя ножницы): – В третий раз спрашиваю: зачем? Мир – не сладок?
Илья (голос ровный, выученный): – Мир – как лужа под монастырской стеной. Мутен. Мелок. – А любовь? – Была. Утонула в той луже.
Ножницы щелкают в третий раз. Прядь волос падает на плиту. Крест на темени – не рана, а печать. Паисий (обмакивая перст в елей): – Теперь ты – рясофор. Неси крест молчания. И помни: ряса – не щит. Она – саван для живого.
Илья касается грубой шерсти. Камилавка давит на виски. За окном – смех трудников, рубящих дрова. Они уйдут завтра. Он – никогда.
II. МАНТИЯ: Имя, Утонувшее в Кадильном Дыму
(по мотивам Нестерова)
Собор. Хор поет «Се Жених грядет в полунощи…». Рясофор Илья стоит на коленях. Мантия – тяжелее камня. Ее подали после ночи в гробу: лежал безмолвно, примеривая вечность.
Игумен (накрывая его полой мантии): – Отрекаешься ли от имени? – Отрекаюсь. – От воли? – Отрекаюсь. – От мира? – …
Тишина. В куполе бьется голубь. Илья (вдруг, с надрывом): – Он… ведь тоже Божья тварь?
Паисий (строго): – Отрекаешься? – …Отрекаюсь.
Ножницы стригут крест поверх старого. Клобук низко надвигают на глаза. Паисий (шепотом у самого уха): – Теперь ты – Серафим. Пламень. Но лишь внутри. Снаружи – пепел.
Новое имя обжигает, как чужая кольчуга. У алтаря плачет женщина в черном. Мать? Бывшая невеста? Серафим опускает взгляд. Его мир теперь – ширь мантии, пахнущей ладаном и пылью.
III. ВЕЛИКАЯ СХИМА: Дверь, Которую Не Открыть
(по мотивам Камзолкина)
Пустынька за кладбищем. Схимонах Серафим сидит на голой лавке. Аналав (парчовый крест на спине) жмет ключицы. Вчера он отдал даже мантию – схимнику полагается власяница.
Игумен (в дверном проеме): – Последний вопрос, отец. Готов ли стать… мертвецом?
Серафим (гладит куколь – остроконечный клобук, закрывающий лицо): – У мертвецов – нет страха. У меня – есть. – Чего боишься? – Что Бог… не узнает меня под этим. Он указывает на куколь.
Игумен кладет руку на его голову. Рука легче птичьего пера. – Он узнает. По ранам на коленях от молитв. По трещинам на губах от поста. По… страху. Только мертвые не боятся Бога.
Дверь закрывается. Щелк засова. Серафим смотрит в щель окна. Вдали – монастырь. Там братия несет послушания: печет хлеб, пишет иконы. Он же теперь – только молитва. Даже дыхание – лишь для слова: «Господи…»
На столе – последний дар мира: яблоко от матери. Он не возьмет его. Завтра – умрет. Не для неба. Для земли.
Эпилог: Звуки За Порогом
Через год. Новичок-послушник у кельи схимника: – Почему он не выходит?
Старый трапезарь (шепотом): – Он умер. В день пострига. Тело – здесь. Душа… – Где? – Стучи!
Послушник стучит. Из-за двери – тихий голос: – Кто? – Брат Игнатий. – Нет тут Игнатия. Есть мертвец. Молитесь за него.
Шаги удаляются. За дверью схимонах Серафим прижимает ладонь к щели. Тепло.
«Постриг – это не обряд. Это: – трижды уронить ножницы, – похоронить имя, – и запереться при жизни. Чтобы услышать, как за дверью
стучит Сам Бог.»
Детали-символы:
Ножницы Перова – не инструмент, а испытание. Три подачи = трижды «Отрекаюсь!»
Мантия Нестерова – не одежда, а кожа, которую меняют. Старое имя сбрасывают, как змеиный покров. Куколь Камзолкина – не головной убор, а саван для лица. Лик схимника – только для Бога. Яблоко – последняя нить с миром. Не тронутое – знак: разрыв свершился. Засова – звук гробовой доски. Но за ней – не смерть, а жизнь, сгоревшая дотла.
P.S. В Оптиной пустыни есть схимник, который 40 лет не выходил из кельи. Когда в 2003 году случился пожар, братья вынесли его на руках. Он плакал: «Зачем? Я уже предстоял Престолу…». Его вернули. В келью. К Богу.
День, сотканный из тишины и топора
Как будильник, иконописец и пчельник слышат один колокол
1. БУДИЛЬНИК (Троицкий монастырь, 3:00)
Темнота густела, как смола. Брат Агапит прижал ладонь к дубовому молотку – ледяному от ночной сырости. Его шаги эхом отдавались в каменных коридорах. У двери игумена замер: – Благослови, отче, день начать?
Из-за двери – шепот, похожий на шорох мыши: – Благословляю… Скажи звонарю: бей в «постовой» звон. Душа утром – роса: громкий звук её сотрясёт.
Дальше – кельи. У каждой свой стук: – Книгохранителю – трижды: «Твои фолианты ждут!» – Кузнецу – два удара в косяк: «Наковальня зовёт!» – Иконописцу (как на полотне из Нижнего Новгорода) – лёгкое касание: «Киноварь на палитре сохнет…»
2. ИКОНОПИСЕЦ (после Утрени, 5:30)
В мастерской пахло яичной темперой и воском. Брат Кирилл растирал лазурь, напевая: «Свете тихий…». Руки дрожали от холода и голода – до трапезы нельзя есть. У окна юный послушник точил кисть: – Брат, а правда, что лик Спаса надо писать… натощак?
Кирилл (смешивая охру с желтком): – Не лик, Федя. Взгляд. А он – как первый луч. Если живот урчит – получится не Спас, а сборщик податей. На, подкрепись!
Протянул краюху хлеба с мёдом: – Пчельник Варлаам из Геннадиева прислал. Ешь – и пиши так, будто Сам Господь глядит через твою кисть.
3. ТРАПЕЗНИК (полдень)
В столовой стоял шелест: 50 монахов ели постные щи. Только чтец Порфирий нарушал тишину, вещая из «Четий-Миней»: – «…и бес покаялся, ужаленный смирением пустынника!»
Келарь Антоний (шепотом трапезарю): – Рыбу подай чтецу. Голос – как колокол: без меди звона не будет. Трапезарь (вздыхая): – А солёные грузди – иконописцу? Он тени под глазами кладёт… – Всем! – кашлянул Антоний. – В Соловках и тюленью печень делили поровну.
4. ПЧЕЛЬНИК (Геннадиев монастырь, 16:00)
Инок Варлаам проверял ульи. Его послушание гудело жарким полднем. К нему подкрался послушник с букетом Иван-чая: – Брат, зачем пчёлам молитва? Они ж не слышат…
Варлаам (поправляя дымарь): – Слышат, Савва. Мёд – это слёзы земли, что пчёлы превращают в сладость. А слёзы… они от Бога. Издалека донёсся звон к Вечерне. Варлаам снял клобук: – Иди. А я… побуду с «сестрами».
5. МОНАХИНЯ (Женский монастырь, «свободное время»)
Сестра Ольга (как на полотне Горюшкина-Сорокопудова) штопала пелену Богородицы. Игла колола палец – капля крови легла на золотое шитьё. Игуменья (строго): – Сотри. Ольга (прижимая окровавленный палец к губам): – Нельзя, матушка. Это… как слеза Божией Матери. Игуменья смолкла. Потом достала платок: – Обвяжи. Святость – не в крови, а в терпении.
Эпилог: КОЛОКОЛ
Когда будильник Агапит гасил последнюю лампаду, он слышал: – За стеной иконописец шептал: «Господи, помилуй…» – В саду пчельник напевал псалом пчёлам. – В библиотеке книгохранитель (как на дагерротипе Гошко) ронял восковую каплю на переплёт. – А в женском корпусе сестра Ольга зашивала платок игуменьи.
«Монастырский день – не круг. Это лестница в небо: – ступени из топора и молотка, – перила из молитв, – а на вершине – тишина, где даже собственное сердце
кажется чужим колоколом.»
Будильник – не «будильщик». а дирижёр тишины, знающий ритм каждой души. Иконописец голодает до полудня не из аскезы, а чтобы рука не дрогнула на лике Спаса. Трапеза – где ложка скребёт миску громче слов, а рыба чтецу – «масло для светильника». Пчельник – единственный, кому позволено пропустить Вечерню. Его литургия – жужжание. Монахини – их «гибкий распорядок» строже мужского: игла не прощает ошибок.
P.S. В Соловках старец говорил новичку: «Ты думаешь, послушание – это когда тебе говорят „руби дрова“? Нет. Послушание – когда дрова уже рубятся в твоей душе, а ты лишь подбираешь щепки».
Белые Рясы на Красном Снегу»
Как соловецкие иноки трижды спасли Русь, не выпуская четок из рук
I. ЛИВОНСКАЯ ЗИМА (1582 год)
Ветер с Белого моря точил стены, как нож. На башне Орёл стоял инок-пушкарь Арсений, бывший новгородский стрелец. В подзорную трубу видны были шведские корабли, вмёрзшие в лёд у Заяцкого острова.
Настоятель Варлаам (в кольчуге поверх рясы): – Брат, сколько их?
Арсений (не отрывая глаз от трубы): – Три шнявы. Двести человек. Ждут оттепели, чтобы к стенам подойти. – А у нас? – Пять пушек да монахи с бердышами – те, что вчера картошку копали.
Вдруг со льда донёсся крик по-шведски. Арсений хрипло рассмеялся: – Смотрите! Икону Зосимы Соловецкого вынесли!
На стену поднялись иноки с чудотворным образом. Ветер рвал золото оклада. Шведы замешкались. А потом…
Арсений (удивлённо): – Крестятся! Отходят!
Варлаам (снял кольчугу, перекрестился): – Не пушками, а верой. Запиши в летопись: «Победа сия – от иконы, а не от железа».
II. СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1702 год)
Пётр I прислал указ: «Держать Соловки яко щит Архангельска». На бастионе «Государев» установили новые пушки. Но главной силой были не они.
Монах-разведчик Никодим (вернулся с материка, весь в сосульках): – Шведы у Нижмозера! Говорят, наш колокол хотят снять – на пушки перелить!
Казначей Иона (пересчитывая ядра): – Колокол? Да они знают ли, что он отлит из турецких пушек после Азова? Звон его – как гром победы!
Той ночью звонарь Савватий бил в набат без перерыва. Звук шёл по льду, гнал шведов прочь. А утром…
Никодим (смотрит в трубу): – Ушли! Видно, испугались, что колокол их переплавит.
III. КРЫМСКАЯ ВОЙНА (22 июня 1854 года)
Английские фрегаты «Бриск» и «Миранда» вошли в залив. На требование сдаться монахи ответили молебном.
Игумен Александр (на крепостном валу): – Братья! Помните: здесь нет солдат. Есть иноки с вековыми пушками. Артиллерист Паисий (80 лет, слепой): – Наведите орудие «Святитель Филипп» по моей руке… Выше! Бей по такелажу!
Залп! Ядро пробило парус «Миранды». Англичане ответили 1200 снарядами. Камни Святых ворот дыбились от ударов, но стены XVI века выстояли.
Монах-дагерротипист (пряча пластину под рясу): – Зачем снимаешь бой? – Чтобы мир знал: белые рясы не сдаются.
*После 9 часов обстрела фрегаты ушли. В монастыре – ни одного убитого. Лишь икона Богородицы на Спасо-Преображенском соборе дала трещину.*
КАМЕННАЯ ПАМЯТЬ (1923 год)
Красноармеец Петров (разглядывая стены): – Как уцелело, товарищ? Говорят, тут англичане били из корабельных пушек…
Бывший инок Феодосий (теперь – сторож музея): – Камень знает: его клали не рабы, а свободные. Хотите – потрогайте вмятину от ядра?
Солдат приложил ладонь к холодному шраму. Откуда-то донёсся звон – будто невидимый звонарь бил в тот самый колокол из турецких пушек.
«Соловки – это: – пушки, что молятся, – колокола, что стреляют, – и монахи, что умирают лишь в свой последний час. А крепость – жива.»
Пушка «Святитель Филипп» – отлита из меди, пожертвованной Иваном Грозным после взятия Казани. Монах-дагерротипист – реальный снимок боя 1854 года хранится в архиве монастыря. Трещина на иконе – её не стали реставрировать. «Рана Богородицы – честь обители», – говорил игумен. Слепой артиллерист – Паисий служил ещё при Александре I. Наводил орудия «по крику чаек».
P.S. В 1854 году 10 иноков и 20 послушников отбили атаку двух современных фрегатов. Англичане выпустили 1800 снарядов. Монахи – 60 ядер. Ни одно не попало в корабли. Но шум, дым и несгибаемость стен заставили флот отступить. Это не поражение – это чудо Соловецкой крепости, высеченной из веры.
ШРАМЫ НА КАМНЕ
(Соловки, июнь 1925 года)
Красноармеец Иван (проводит рукой по вмятине от ядра на Святых воротах): – Товарищ сторож, и не пробили? Да у них ж пушки, как избы!
Сторож Феодосий (бывший звонарь, в потертой рясе под телогрейкой): – Сорок пудов железа в борт – выдержало. Англичане потом в газетах писали: «Russian monks build forts from faith, not stone».
Иван (усмехаясь): – Верой? Не смеши. Камень есть камень.
Феодосий (подводит его к иконе Богородицы с трещиной у глаза): – Видишь щель? После боя игумен велел не реставрировать. Сказал: «Это – слеза Пресвятой. Пусть знают враги: даже Божия Матерь плачет, но не сдаёт Соловков».
Откуда-то донёсся звон – будто эхо давнего набата.
Иван (вздрагивая): – Колокол? Я ж слышал, их все сняли…
Феодосий (прикладывая палец к губам): – Тот колокол, что шведов в 1702-м прогнал, отлит из турецких пушек. Его в 18-м году утопили у Голгофы-горы. Но в шторма… (тихо) рыбаки слышат. Будто гудит: «Не-сда-дим!»
Молчание. Иван снимает фуражку, гладит холодный камень.
Иван: – Как же вы… 10 монахов против двух фрегатов?
Феодосий (открывая скрипучую калитку на кладбище): – Артиллерист Паисий, слепой, мне мальчишкой говорил: «Феодос, пушка – та же кадильница. Ядро – фимиам. А молитва… она разрывает жерла вражеских пушек».
Он указывает на могильную плиту, заросшую мхом: «Инок Паисий. Убиен англичанами 1854 г.».
Иван (читая дату): – Так он же умер в день боя?
Феодосий (зажигая свечу): – Нет. Когда фрегаты ушли, он приложился к орудию и сказал: «Благодарю, батюшка Филипп, послужил верно». А утром нашли… с улыбкой. Без ран. Сердце.
Ветер донес запах дыма с материка – где-то горел лес. Иван натянул фуражку.
Иван: – Ладно… я доложу: крепость годна под склад. Стены – монолит.
Феодосий (глядя ему в спину): – Иван! – Чего? – Когда будешь писать отчет… упомяни, что тут не просто стены. Тут – рясы вместо мундиров. Молитвы вместо штыков. И камень, что помнит каждый выстрел – и свой, и чужой.
Солдат кивнул. А старый звонарь, оставшись один, прошептал в трещину иконы: – Матерь Божия, прости их… Они не ведают, что творят с камнями. А камни-то – святые.
«Соловецкая крепость никогда не сдавалась. Её стены пали лишь однажды – когда в 1920 году
последний инок сам отворил ворота
и сказал: „Берите. Но знайте: наши пушки молились. Ваши – лишь стреляют“.»
Камни Короны
Три жизни Новоспасского монастыря и Крутиц
I. ПЕРВЫЙ ПЕРЕЕЗД (1330 год, Боровицкий холм)
Князь Иван Калита стоял на холме, сжимая в руке горсть земли с могилы отца – святого Даниила. Рядом игумен Митрофан крестил ветер: – Зачем тревожить прах основателя, княже?
Иван (бросив землю к подножию дуба): – Москва растёт. И монастырь должен смотреть ей в глаза. Здесь, – он ткнул посохом в землю, – у Преображенской церкви, будет новый дом для старых мощей. Работник Федька (тащивший икону Спаса), охнул: – Батюшка, дуб-то священный! Рубить?
Игумен (приложив ладонь к коре): – Не руби. Пусть растёт внутри стен. Будет напоминать: корни важнее крон.
Когда первый камень заложили, из дупла вылетела сова. Калита усмехнулся: – Видишь, Митрофан? Даже птицы переезжают с нами.
II. КРИПТА РОМАНОВЫХ (1647 год, усыпальница)
Царь Алексей Михайлович спустился в подклет с иконой «Всецарица» – дар инокини Марфы. В свете лучины лики предков казались живыми.
Зодчий Иван Кузнец (показывая фреску с Рюриковичами): – Вот древо, государь. Вы с отцом – с нимбами, как святые. Царь (резко): – Закрась нимбы. – ?! – *Мы – помазанники, а не святые. Грехи наши… – он тронул холодную плиту Никиты Романовича, – здесь, под ногами. Лучше пусть корни без нимбов, чем листья с фальшивым золотом.
Вдруг со сводов упала капля воды – прямо на нимб Михаила Фёдоровича. Краска поплыла. Кузнец (испуганно): – Перепишу!
Алексей (вытирая влагу рукавом): – Не надо. Пусть будет… слеза Небес. Так честнее.
III. КРУТИЦКИЙ ТЕРЕМ (Смутное время, каземат)
Протопоп Аввакум (царапая на стене крест): – Слышишь, Герцен? Вон за окном – изразцовый рай. А мы – в аду. Александр Герцен (смеясь): – *В 1954-м сидел тут Берия, говорят. Ад многолюден, батюшка.*
Луна освещала поливные изразцы Терема: синие птицы, золотые травы. Аввакум прошептал: – Знаешь, почему Крутицы уцелели? – Польша, Наполеон, большевики… – Нет. Потому что красота – это молитва камней. Её не убить.
На рассвете Аввакума повели на костёр. Он крикнул Герцену: – Смотри! Терем горит ярче моего огня!
ЭПИЛОГ: МУЗЕЙ (Наши дни)
Экскурсовод Катя (у витрины с мундиром Сергея Романова): – *А вот пуля, убившая Великого Князя в 1905-м…*
Мальчик Ваня (тыкая в стекло): – Смотри, тут вышитый орёл! А почему без короны?
Смотритель Фёдор (бывший алтарник), поправляя очки: – *Орёл улетел, Ваня. В 17-м году. Но… – он открыл потайной ящик витрины, достал ворох писем, – видишь? Князь писал жене: «Короны нет – крест остался».
За окном зазвонили колокола. Катя подвела группу к «древу Рюриковичей». Ваня (глядя на подтёк на фреске): – Это та самая слеза Небес?
Фёдор (кивая): – Она – как река времени. Течёт через князей, царей, узников… и до нас с тобой.
из жизни Чудова монастыря
во времена Смуты
Эпизод 1: Келья Лжи (1604 г. Предрассветный час)
Место: Узкая, душная келья в Чудовом монастыре. Стол, заваленный книгами и свитками. Горит одна свеча, коптящая черным дымом. Персонажи: Монах Григорий (Отрепьев): Молодой, нервный, с лихорадочным блеском в глазах. Пишет. Старец Пимен (Вымышленный, но типичный наставник): Седеющий, с проницательным и усталым взглядом. Стоит в дверях.
(Сцена начинается со скрипа пера Григория. Пимен молча наблюдает.)
Пимен: (Тихо, но властно) Опять не спишь, чадо Григорий? Ночь на исходе. Утреня скоро… Час нечеловеческий для мирских дум.
Григорий: (Вздрогнув, прикрывает рукой написанное) Отче… Я… переписывал Житие. Глаза устали. (Слишком поспешно)
Пимен: (Делает шаг в келью, взгляд падает на необычные книги – польские геральдические альбомы, карты) Житие? Сияет лик святого на пергаменте, а душу твою… омрачают иные лики. Княжеские гербы. Польские речи. (Подходит ближе) Что пишешь, Григорий? Истину или… иную быль?
Григорий: (Вскакивает, пытаясь заслонить стол) Не ваше дело, старец! Я… я учусь! Знания – свет!
Пимен: Свет? Или адское пламя, что сожжет тебя и многих? Слышал я шепот в трапезной… Шепот о мертвом царевиче. Шепот о… чудесном спасении. (Берет со стола лист, Григорий бессильно опускает руки) «Сигизмунду, королю польскому и великому князю литовскому, брату возлюбленному… Димитрий Иванович, царь всея Руси, законный наследник престола отца своего, Ивана Васильевича…» (Пимен смотрит на Григория с ужасом и жалостью) Господи помилуй! Безумец! Ты лепишь куклу из костей мертвеца и лжи! И думаешь сесть на престол?
Григорий: (С вызовом, но голос дрожит) А почему бы и нет?! Они там… бояре… щенки Шуйские… готовы поверить любому, кто даст им власть! Москва жаждет истинного царя! Я могу быть им! Я буду им! Лучше, чем пьяница Борис или хитрый Василий!
Пимен: (С горечью) Истинного? Ты начинаешь путь с великой лжи в сердце! Эти стены (ударяет кулаком по камню) впитали молитвы столетий. Они видят твою душу, Григорий! Они знают: ты не Димитрий. Ты – беглый дьячок, играющий с огнем. Уйди, пока не поздно! Сожги эту пагубу! Или… (понижает голос) …или монастырь станет тебе не кельей, а первой тюрьмой. Или могилой.
Григорий: (Дико смеется) Могилой? Нет! Корона ждет! А эти стены… (с презрением оглядывает келью) они слишком тесны для царя! Я уйду. И вернусь – с войском! Смотри же, старик, не перечь мне тогда!
(Григорий резко тушит свечу, хватает бумаги и выскальзывает в темный коридор. Пимен стоит в темноте, опершись о стену.)
Пимен: (Шепчет в пустоту) Вернешься… но не царем. Мертвецом в позолоченном гробу. И монастырь сей… запятнает твоя ложь. Господи, прости нас… и помилуй Русь.
(Звук далеких шагов затихает. Тишина. Где-то падает капля воды.)
Эпизод 2: Постриг Царя (1610 г. Поздний вечер)
Место: Трапезная палата Чудова монастыря. Грубо переоборудована. Стоят польские стражники в латах. Посредине – наскоро поставленный аналой. Дымят факелы. Персонажи: Царь Василий Иванович Шуйский: Некогда властный, теперь сломленный, с перевязанными глазами (после слухов об ослеплении). В дорогих, но помятых одеждах. Его поддерживают два монаха. Митрополит (марионетка поляков): Нервный, торопливый. Держит ножницы и требник. Польский Гетман Жолкевский: Холодный, надменный. Наблюдает с группой офицеров.
(Шуйского почти силой подводят к аналою. Монахи держат его под руки.)
Митрополит: (Заикаясь, обращаясь больше к полякам, чем к Шуйскому) По… по воле народа московского и… и для успокоения земли… Василий Иванович… отрекается от… от царского венца… и… принимает ангельский чин…
Жолкевский: (Резко, по-польски, переводчик тут же переводит) Быстрее, владыко! Не время для длинных речей. Снимите с него царское платье. Наденьте схиму.
(Слуги грубо стаскивают с Шуйского верхнюю одежду, набрасывают грубую монашескую рясу и куколь. Клобук надет криво.)
Шуйский: (Срывает повязку с глаз. Глаза воспалены, но яростны) Народа московского? Воля ваша, польская! Иуды! (Пытается вырваться, но монахи держат крепко) Я – царь! Помазанник Божий! Вы не властны!
Жолкевский: (Холодно) Властна сила, бывший царь. А сила – за нами. Ты – конченый человек. Монашество – твоя единственная защита. Хочешь жить? Прими постриг.
Митрополит: (Торопливо, дрожащими руками берет ножницы) Инок Варлаам… во имя Отца, и Сына…
Шуйский: (Резко отдергивает голову, смотря прямо в глаза Митрополиту) «Варлаам»? Ты даешь мне имя предателя? Того, кто первым признал вора?! (Горько усмехается) Знак судьбы? Или ваша насмешка? (Внезапно стихает, голос становится ледяным) Делайте, что хотите. Но знайте: ряса сия – саван. Клобук сей – колпак для мертвеца. Вы не постригаете монаха… вы хороните царя. И Русь этого не забудет. (Смотрит в сторону алтаря, где темнеет лик Спаса) Господи, виждь и суди!
(Митрополит, дрожа, отрезает прядь волос. Шуйский не сопротивляется, но стоит невероятно прямо. Его глаза горят ненавистью и безнадежностью.)
Жолкевский: (Кивком указывает монахам) В келью его. На хлеб и воду. Инок Варлаам… помолись за грехи свои. Особенно за грех царствования.
(Солдаты грубо берут Шуйского под руки и уводят. Он не оглядывается. Митрополит роняет ножницы. Жолкевский брезгливо вытирает руку о плащ.)
Эпизод 3: Заточение Слова (1611 г. Сырая подземная келья)
Место: Маленькая, темная, промозглая камера где-то в подземельях Чудова монастыря. Полуразвалившаяся кровать, табурет. На столе пустая миска, кувшин с водой и клочки бумаги, перо, чернильница. Узкая щель вместо окна. Персонажи: Патриарх Гермоген: Очень старый, изможденный, но глаза горят несгибаемой волей. Сидит за столом, пишет. Польский Офицер (Горновский): Наглый, раздраженный. Входит без стука с солдатом. Солдат держит миску с какой-то бурдой.
(Гермоген не поднимает головы, продолжает писать.)
Горновский: Опять пишешь, старик? Голодать сил хватает, а язык не отсох? И перо не сломалось? Удивительная живучесть… червяка. (Бросает миску на стол, брызги летят на бумагу) Жри! Король милостив – прислал похлебку. Хотя… зачем кормить того, кто кусает руку кормильца?
Гермоген: (Не глядя на миску, аккуратно промокает испачканный лист) Рука захватчика, душащего Русь Православную, не кормит. Она убивает. Я не приму подачки от убийц моих чад духовных.
Горновский: Чад? Твои «чада» режут наших солдат по всей Москве! Из-за твоих писулек! Где они? (Рывком выхватывает у Гермогена только что написанный лист) «Братие мои православные! Не верьте лжепастырям! Не щадите жизни вашей… за Дом Пресвятой Богородицы!» (Рвет лист в клочья, швыряет под ноги) Опять! Опять яд! Ты хочешь смерти? Мы можем устроить!
Гермоген: (Спокойно берет новый лист бумаги) Смерть? Она придет ко всем. Но страшнее смерти – предательство Веры и Родины. Ты требуешь, чтобы я благословил ваше господство? На разорение святынь? На поругание веры? (Впервые поднимает глаза, взгляд как сталь) Никогда. Благословляю вас… на исход из земли Русской! А верным чадам – на брань! Смерть лучше позорного мира с еретиками!
Горновский: (В ярости) Ты с ума сошел, старик! Ты здесь один! В сырой яме! Твоя Москва – наша! Твой царь – в плену! Кто тебя услышит?!
Гермоген: (Начинает писать с новой силой) Услышит Бог. Услышит земля Русская. Слово мое… как семя. Упадет в добрую почву – взойдет побег свободы. Упадет на камень – отзовется грозным эхом. (Пишет, не глядя на офицера) Уходи, слуга тьмы. Не мешай мне. Я должен написать… пока есть силы. Пока есть перо и чернила. А если их не станет… (указывает на сердце) слово будет здесь. И его услышат.
Горновский: (В бессильной злобе плюет на пол) Сиди же тут со своим словом! Голодай! Гний в этой яме! Слово твое сгниет вместе с тобой! (Кричит солдату) Убрать чернила! Убрать перо! Оставить воду! Пусть помрет тихо, как собака! И слово его умрет с ним!
(Солдат грубо хватает чернильницу и перья. Горновский в ярости выходит, хлопнув дверью. Гермоген сидит неподвижно. Потом медленно берет пустой лист бумаги. Опускает палец в пустую чернильницу. На пальце лишь пыль. Он смотрит на палец, потом на лист. Медленно, с невероятным усилием, он проводит пальцем по бумаге. Сначала одну линию… потом крест… потом начинает выводить буквы – кровью из пореза на иссохшем пальце или просто силой духа? Лист остается чистым, но Гермоген пишет, пишет… Его губы шепчут молитву и призыв. Тишина кельи наполняется незримым, страшным Словом.)
Гермоген: (Шепотом, но так, что, кажется, слышно за стенами) Восстаньте… за Веру… за Москву… Матерь-град… Не бойтесь… Смерть… лучше… рабства… Господи… прими дух мой… и даруй… победу… Руси…
(Он опускает голову на чистый лист. Свечи нет. Только слабый свет из щели падает на седую голову Патриарха-Мученика. Тишина. Но слово уже ушло.)
Эпилог (Голос за кадром): И слово его не умерло. Оно, как набат, прозвучало над Русью. Оно собрало ополчение Минина и Пожарского. Оно выгнало захватчиков из Кремля. И каждый русский царь, вступая под древние своды Чудова монастыря, слышал в тишине это шепот: «Восстаньте… Не бойтесь…". Память о трех тенях в его стенах – самозванца, свергнутого царя и непокорного патриарха – была вечным предостережением и напоминанием о цене власти и силе духа. До тех пор, пока камни Чудова стояли…
Начислим
+180
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе