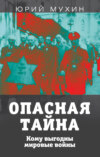Читать книгу: «Секундант Его Императорского Величества», страница 4
До начала разбирательства по делу выполнены подготовительные действия. Председатель военно-судебной Комиссии, полковник, в соответствии с законом призывал всех “судить по совести” и своей личной подписью удостоверил данное обстоятельство в определении Комиссии. Члены её приведены к присяге. Для тех, кто ранее уже неоднократно участвовал в судебных заседаниях, текст присяги зачитывался для напоминания. Два корнета, назначенные судьями в первый раз, принимали присягу впервые. К присяге приводил священник. Принимая присягу, как того требовал закон, он предупреждал “об ответе за дела свои на Страшном суде Христовом”, что подтверждено его подписью в клятвенном обещании судей. Полковник самодеятельностью не занимался и знал, о чём под протокол надлежало говорить с назначенными судьями, – продолжал рассуждать Гребнев. – Священник тоже следовал принятому порядку. То есть закон требовал от судей при исполнении судейских обязанностей обращаться к совести, а церковь – помнить об ответе за дела свои на суде перед Богом. А что, собственно, имеется в виду, когда в присяге говорится о людских делах и о Божьем суде за них? – думал Олег Петрович. – Что такое “людские дела”, понятно. А что значит “суд Божий”? Это означает, что придёт время и судить будет Бог по закону Божьему. Надо понимать, присяга призывает: “Совершая дела свои, соблюдай закон Божий”. Это, конечно, ясно людям того времени. А что значит “жить по закону Божьему”?»
Гребнев быстро повернулся к монитору и набрал в поисковике «жить по закону Божьему». Через минуту он читал: «В первую очередь это значит соблюдать заповеди. Заповеди Божьи – внешний закон, данный Богом в дополнение к ослабевшему (вследствие греховной жизни) у человека внутреннему ориентиру – совести». Вот как оказывается.
«Председатель Комиссии – армейский полковник – и церковный священник имели в виду одно и то же. Значит, наличие совести у судьи – важное условие судебного процесса. Как это понимать?» – опять задумался Гребнев, потом повернулся к монитору и набрал в поисковике запрос. Вскоре он читал, что в главе XXIV Устава воинского Петра Первого сформулировано требование, что высшему военному судебному чину «надлежит быть не токмо учёному и в военных и прочих правах, но при том осторожному и благой совести человеку, дабы при написании и исполнении приговору преступитель оным отягчён не был». «Понимать надо так, – решил Олег Петрович, – что благая или хорошая совесть судьи является гарантией для подсудимого от незаслуженного наказания – несправедливого приговора, неправосудного суда».
Он подумал, что тратит время на то, чтобы понять смысл написанного в документах, тогда как человеку XIX века всё было понятно с самого начала. «Далеко мы ушли, если, изъясняясь на одном языке, не сразу понимаем, о чём говорило предыдущее поколение, – сделал он вывод. – Раньше не обращал на это внимания и не задумывался. Узнал что-то новое, значит, не зря трачу время».
Тут он вспомнил, что в наши дни судья при вступлении в должность тоже принимает присягу, поискал в интернете и прочитал, что, согласно её тексту в Федеральном законе, судья клянётся быть справедливым, как велит его совесть, при этом упоминания об ответственности и Божьем суде в присяге нет. Гребнев посмотрел, что быть справедливым означает «правильно вести себя, чтобы поступки, мысли и слова соответствовали истине, правде, норме». Прочитанное его не заинтересовало, он только вспомнил картину «Что есть истина?», где тему обсуждают Христос и Пилат, и решил, что ему до них далеко. «Нет упоминания об ответственности и Божьем суде, и не надо. А то как бы это могло выглядеть в нашем суде сейчас? Судья выходит и объявляет присутствующим, что судить будет по своей личной совести, потому как самому судимым быть на Страшном суде после смерти. Что будет затем происходить в зале заседаний? Что-то я не туда зашел…» – решил Гребнев.
Индивидуальность членов суда в документах не прослеживалась: никто не высказывал особого мнения, не отказывался подписывать определения и приговор, вопросы, заданные подсудимым и свидетелям, составлял аудитор. Олег Петрович ещё подумал, что судей семь человек и у каждого, наверное, имелось своё представление о совести. То, что судьи принадлежали к одному – дворянскому – сословию и были офицерами, вероятно, предполагает, что их представления о совести в основном совпадают.
На этом месте он решил, что хватит рассуждений. «Не слишком ли я увлёкся? Какое отношение к сегодняшнему дню имеют упоминания о совести в уголовном деле давно прошедших времён? Вообще, полезно почитать повнимательнее, что такое совесть», – отметил Гребнев, признавая, что для ясного понимания вопроса у него недостаточно знаний, а разобраться хочется.
«Продолжим, – решил Олег Петрович. – Был момент, когда Комиссия определила окончить расследование. После этого аудитор обратился к ней с рапортом, в котором указал, что необходимо допросить жену Пушкина. Однако Комиссия отказалась проводить её допрос. Многое из того, что установлено при расследовании, допрос Натальи мог бы подтвердить или опровергнуть, но она осталась не допрошена. Решение не допрашивать Наталью Пушкину принято открыто и отражено в материалах. Не хотели “расстраивать вдову”, – отметил он. – Подсудимые своими подписями выразили согласие с составом суда, отводов судьям не заявлено. Они же своими подписями подтвердили, что пристрастных допросов не было. Почему-то к подписям господ офицеров хочется относиться уважительно и с доверием. Будем считать, что офицеров не подвергали физическому, эмоциональному или психологическому давлению. Значит, показания давались осознанно и всё, сказанное на процессе, и всё, что находится в деле, несёт свой изначальный смысл и имеет значение».
В кармане пиджака беззвучно завибрировал смартфон. Посмотрев на экран, Олег Петрович понял, что звонит жена.
– Да, дорогая? – ответил он на звонок.
– Приезжай пораньше, всё-таки праздник… – по голосу Светланы чувствовалось, что у неё хорошее настроение.
Гребнев посмотрел на часы и понял, что задержаться дольше не удастся.
– Уже собираюсь.
– Ждём тебя!
Телефонный звонок немного раздосадовал Гребнева – он не любил, когда работу прерывали. Но сегодня должна наступить новогодняя ночь, и Олег Петрович собирался встретить Новый год в кругу семьи в своём загородном доме, поэтому пора ехать. Текст справки имелся на домашнем ноутбуке. Гребнев откроет его, как только праздничная кутерьма предоставит такую возможность.
Он посидел ещё минуту, запоминая мысли, как будто последовательно закрывая рабочие окна программы. Бюсты Николая Первого и Пушкина стояли на столе лицами к Гребневу и из тени смотрели на него или на лежавшие перед ним бумаги.
Олег Петрович погасил настольную лампу, вышел из-за стола, достал из стенного шкафа портфель и убрал в него справку, решив всё-таки взять её с собой. Потом он выключил гирлянду огоньков у ёлочки на журнальном столике, накинул на руку мягкую зимнюю куртку и, не одеваясь, вышел из кабинета.
В небольшом тамбуре у подземного паркинга Гребнев встретился с офисным охранником. Молодой мужчина в форменной одежде уткнулся в смартфон, нарушая должностную инструкцию. Олег Петрович увидел его лицо, когда на ходу бросил: «С Новым годом!» Охранник, подняв голову, автоматически ответил: «С Новым годом!» – и было понятно, что никакого праздника для него нет.
Через пять минут за рулём БМВ Гребнев выезжал из подземного паркинга, направляясь в сторону дома. Время заставляло его поторапливаться, а город со всех сторон подмигивал праздничной иллюминацией.
Глава вторая
По приезде домой Олег Петрович принял душ, смыв с себя последние следы уходящего года, и, обмениваясь в разговоре с женой и дочкой вопросами и ответами о приготовлении к празднику, выпил чашку чая. Потом он отзывался на запоздалые поздравления по телефону и делал мужскую часть работы, участвуя в подготовке праздничного ужина: носил с улицы и складывал в камине дрова, чтобы ночью разжечь огонь, выбирал из запасов вино и шампанское, которое они с женой откроют за столом, и помогал на кухне. Для таких случаев Гребнев хранил и при возможности покупал бутылки с этикетками «Советское шампанское» – вино стоило дешевле некуда и о качестве разговор не шёл, но Олегу Петровичу нравился процесс, а не результат.
Новый год по заведённой традиции Гребневы встречали вместе – семьёй. Сидели за столом в гостиной рядом с украшенной ёлкой и огнём в камине. Рюмкой водки Олег Петрович проводил старый год. Слушали новогоднее обращение президента к гражданам. С первым ударом курантов все поздравили друг друга и выпили шампанского. Бросились к ёлке и обнаружили, что там лежат надписанные для них подарки, принесённые никем не замеченным Дедом Морозом и разложенные под ёлкой Светланой. Как она это делала, никто не видел. Дочке Катерине достались новый телефон и баночка с косметикой, самой Светлане – сумка и лак для ногтей, Гребнев получил белую рубашку и блокнот. Все обрадовались подаркам. Затем Олег Петрович ел и сказал, как он считал, несколько обязательных тостов. Катерина занималась новым телефоном, но Гребнев видел, что она прислушивается к его словам. Светлана добавляла к сказанному свои мысли. Так они с женой наставляли дочь. Гребнев смотрел на Светлану и Катерину и думал, что любит их и дорожит ими, как никем.
Они обсуждали планы, дела и вспоминали события прошедшего года.
Катерина училась в последнем классе старшей школы. Летом ей предстояли выпускные экзамены и поступление в вуз. С местом получения высшего образования они всей семьёй определились. Катерина хотела поступать в МГИМО на факультет международного права. Сначала Гребнев спрашивал себя: «Зачем?», но потом решил, что пригодится. О возможности поступления дочери в это престижное учебное заведение он не беспокоился – знал, что вопрос решится, но ей ничего не говорил.
Светлана по образованию была журналистом. В первые годы их брака она работала в периодических изданиях и специализировалась на театральной теме, будучи автором обзоров событий театральной жизни и критических статей на новые постановки. После рождения Катерины Светлана стала заниматься семьёй и воспитанием дочери. Статьи и обзоры превратились в личный тематический телеграмм-канал с немалым числом подписчиков. Избранной темой оказалась семейная жизнь во всём её разнообразии – с проблемами и удачами. Радости и горести Гребневых не высвечивались. Канал вёлся как наблюдение за семьёй, в реальности не существовавшей, и имел культурно-просветительный характер, но без нравоучений. Светлана рассказывала, что такое «жить по-человечески» и как такую жизнь себе устроить. Материалы готовились с помощью психологов, социологов, врачей и всех, кто знал, как «жить правильно». О подписчиках на канал Гребнев думал, что это люди, которые хотят жить именно так, остальным – всё равно, но если заплатят, то могут всё. Работа доставляла Светлане удовольствие и почему-то не требовала больших временных затрат.
Когда дочка с женой собрались спать, Олег Петрович сказал, что допьёт шампанское и недолго посмотрит праздничную программу по телевизору. На его слова Светлана задумалась, но вопросов задавать не стала.
Телевизор Гребнев давно смотрел только по делу. В одиночестве он не торопясь понемногу глотал брют, поглядывал на красавицу ёлку и вспоминал своё детство и родителей, которых лишился. В тишине у догоравшего камина с неполным бокалом в руке становилось понятно, что время действительно течёт, жизнь проходит, сам он меняется, но что-то при этом остаётся прежним.
Одновременно с мыслями о переменах Олег Петрович переключал установленные на пониженную громкость телевизионные каналы, которые транслировали праздничные концерты. Прислушиваясь без особого интереса к репликам ведущих и выступлениям артистов, он не замечал новизны, однако остановился, когда, переключая в очередной раз, увидел известную «группировку» и её солистку.
Гребнев интересовался творчеством руководителя этого музыкального коллектива, потому что усматривал в текстах его экстравагантных сочинений темы, которые признавал актуальными для значительной социальной группы их постоянных слушателей. В дискографию автора песен и лидера «группировки» входило более четырёхсот произведений, и, по мнению Олега Петровича, стоило послушать их внимательно, чтобы представить образ мыслей, интеллектуальный уровень и саму жизнь многочисленных поклонников музыканта, которые одновременно являлись немалой и знаковой частью общества. Например, если музыканты драматично пели про мелочи, то Гребнев считал, что говорят о больших проблемах. Причинами популярности «группировки» он не интересовался, допуская, что язык, на котором исполнялись песни, сам по себе весьма популярен и понятен людям.
В этот раз с надрывом исполнялась новая песня «Не суждено» – в целом про любовь и, конечно, без ненормативной лексики. Массовка в студии прихлопывала в такт, пританцовывала и подпевала исполнительнице. Гребнев подумал, что новогоднее выступление могло бы быть повеселее и не отправлять в подсознание императив «не суждено…», пусть и относительно личной жизни зрителей. «Не будем обобщать до уровня всех программ», – решил он, тем более что номер показался ему интересным.
Пощёлкав кнопкой переключения каналов ещё немного, Гребнев попал на выступление актёра, известного по роли в сериале советского времени о расследовании уголовных дел. Он рассказывал собственную притчу о подземном переходе, который построили, но выход из-под земли сделать забыли. Гребнев спросил сам у себя: «Это о чём? – но минуту спустя уже думал: – Рассказал человек придуманную историю, чтобы развлечь. Какой-то я стал подозрительный. Всё равно не поймут…»
Не собираясь погружаться в меланхолию, Олег Петрович допил шампанское и тоже отправился спать.
* * *
Утром Гребнев проснулся чуть позже обычного и в восемь часов понял, что оставаться в постели не хочет. Окончательно пробудившись ото сна, он почувствовал едва ощутимую тревожность и первыми мыслями обратился к справке, которую читал накануне. Олег Петрович испытывал потребность продолжить чтение, ничто другое его не интересовало.
Стараясь не шуметь и не будить жену, Гребнев встал и прошёл в свой кабинет, где, приехав с работы, оставил портфель. Достав из него справку, Олег Петрович отправился на кухню. Он приготовил себе чашку растворимого кофе, сел за стол и, как полагается первого января, собрался продолжить жизнь в новом времени.
Справка лежала перед ним. Опустив взгляд на страницы с текстом, написанным им самим, Гребнев почему-то подумал, что вчера задание ему дали серьёзные люди.
Бумага составлялась почти два с половиной года назад, когда Олег Петрович приступал к выполнению обязанностей в должности консультанта на съёмках кинофильма «Дуэль». С получением работы открывалось новое направление в его личной практике: предстояло оказать консультационное сопровождение, а фактически – проследить за соответствием идеологии создававшегося фильма о последней дуэли Пушкина государственному ви́дению этого исторического события, а также российским духовно-нравственным ценностям. Выходило, что, поручая Гребневу работу, в министерстве не очень задумывались, как поставленная задача согласуется со специализацией консультанта по политическим вопросам. Он же, в свою очередь, воспринял задание как доверие к его профессиональным оценкам событий и от работы не отказался. Никто из причастных к работе над фильмом, как и сам Олег Петрович, не считал, что консультант Гребнев назначен произвести цензуру кинокартины. Лично он думал, что помогает создателям фильма в реализации их замыслов и тем самым делает картину яснее и доступнее для разумения зрителей.
В один из первых дней работы по собственной инициативе помощники Гребнева составили справку на несколько страниц, собрав и перечислив неофициальные оценки Пушкина, а также выводы о месте поэта и дуэли с Дантесом в иерархии ценностей, которые делались в соответствии с историческими периодами жизни общества и государства. Гребнев прочитал, например:
Гениальность Пушкина была феноменальна… Один из величайших поэтов мира, зачинатель прославленной русской прозы… замечательный драматург-новатор, выдающийся историк литературы… умнейший политический мыслитель… Великий гуманист… – 1970 год.
И:
Пушкин представляет собой высочайшую и всеобъемлющую нашу духовную ценность, не поддающуюся какому-либо логическому объяснению… Говорить о Пушкине – почти то же самое, что говорить о России во всех возможных её ракурсах. – 1986 год.
А ещё:
…Наёмника безжалостную руку
Наводит на поэта Николай. – 1924 год.
Помощники объяснили, что времени потратили немного, поскольку всё уже системно сведено в публицистические работы и в таком виде представлено на обозрение общественности. Олег Петрович похвалил за проявленное рвение, сказал, что справка может пригодиться, и убрал бумагу со стола в канцелярскую папку. Углубляться в поэтические оценки исторических событий он не стал и работникам запретил.
Общее описание задания Гребневу выдали. Объём обязанностей в соответствии с назначением виделся немалым и выражался в экспертизе кинокартины по разным направлениям: от оценки идеологической составляющей образов и социальных типажей до подтверждения исторической достоверности событий. Разбираться планировалось вплоть до нюансов и деталей, например прослушать, с какой интонацией актёры произносят реплики, чтобы подтвердить, что интересы, о которых Гребнев должен беспокоиться, соблюдаются. При этом следовало помнить о стереотипе знаний о дуэли Пушкина, укоренившемся в массовом сознании граждан, чтобы не подвергать их шоку от узнавания, возможно, неожиданных подробностей. Кино всё-таки про любовь, её цену, стрельбу из пистолетов и красную кровь на белом снегу, а в таких историях могло открыться что угодно. Главным же было установить, соответствует ли то, как в фильме показано и рассказано о дуэли Пушкина, государственному пониманию этой истории.
Работа не предполагала затруднений. Гребнев хорошо понимал всё, что должен делать, начиная с вопроса, почему это делается, и кончая вопросом, какой воспитательный посыл получат зрители, посмотрев фильм. Консультирование режиссёра не предполагалось: Гребнев, по существу, работал на чиновников министерства. Раз в месяц Олег Петрович в письменном виде докладывал о ходе выполнения поручения.
Определяя традиционные духовно-нравственные ценности, Гребнев не мог полагаться на собственные или чьи-то субъективные представления, поскольку материальная основа для проверки мира идей имелась под руками: перечень ценностей содержался в нормативных актах. Недавнее принятие соответствующих документов сопровождалось дискуссией, носившей не деловой, но несколько скандальный характер. Публично задавался вопрос: «Зачем это надо?», и складывалось впечатление, что единые духовные традиции и нравственные ценности в обществе не утвердились. Власти навели порядок и высказались однозначно, перечислив их через запятую.
С историей дуэли ситуация сложилась иная. Сначала Гребневу требовалось определить позицию государства в её оценке, чтобы потом иметь возможность проверить идеологию кинофильма на соответствие государственной установке. Как все, Олег Петрович учился в школе и для него обстоятельства гибели Пушкина умещались в одном предложении: поэт стрелялся, потому что хотел отомстить подлецу за поруганную честь семьи. Гребнев понимал, что у него недостаточно знаний для работы консультантом и, чтобы оправдать оказанное доверие, требуется подготовиться самому и снабдить необходимой информацией помощников.
Подготовка происходила следующим образом. Сотрудников КПП Гребнев проинструктировал, потребовав выполнять работу скрупулёзно и докапываться до истинной сути. По всплеску активности он понял, что ребята постараются, потому что дело всем интересно. Распределив обязанности, Олег Петрович выдал задание работникам, те в свою очередь подключили к его выполнению историков и пушкинистов. Специалисты десятилетиями изучали дуэль и всё, что ей предшествовало, и изложили результаты исследований в многочисленных трудах. Их и принялись штудировать работники Гребнева. На основе сведений, в большинстве бесспорно признанных достоверными, они составили материалы с описанием дуэльной истории в виде цепочки последовательных событий с указанием времени и места их совершения, участников и других деталей. В дальнейшем сверить полученный массив данных со сценарием и отснятыми эпизодами и выявить возможные несоответствия не составляло особого труда. И Гребнев контролировал этот процесс, но интересовался иным.
Он занялся главной и наиболее ответственной частью работы – прояснением и изучением официального заключения об обстоятельствах дуэли, то есть задокументированного мнения государства по вопросу, как погиб Пушкин. Гребнев не столько разбирался в последовательности дуэльных событий, сколько хотел понять, как государство описывает дуэль, её причины и мотивы поступков людей, причастных к поединку. Для этого требовалось избрать источник сведений.
Подспорьем в работе могли послужить оценки дуэли, высказанные высшими должностными лицами, например министром культуры, в публичных выступлениях или статьях. Полностью полагаться на них Гребнев не стал бы, потому что отказываются от своих слов легко и неизвестно, как следующий преемник по должности посмотрит на мнение предшественника. Но после проверки выяснилось, что ни министр, ни другие высшие чиновники по этому вопросу не высказывались. Помощники принесли справку, где значилось, что «на государственном уровне первым поэтом России Пушкина “назначил” И. В. Сталин». В передовице газеты «Правда» 17 декабря 1935 года говорится, что Пушкин – создатель русского литературного языка, а этот язык стал достоянием миллионов трудящихся, и через любовь к Пушкину будет правильно воспитываться советская молодёжь. В июне 1950 года Сталин в работе «Марксизм и вопросы языкознания» указал, что «современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина». Гребнев всё обозначенное запомнил, но к делу, которым он занимался, это не относилось.
Сориентировавшись в наличии официальных документов и узнав мнение некоторых знакомых, Гребнев решил получить представление о том, как государство видит событие дуэли, посредством ознакомления с материалами расследования и суда над её участниками. Кроме судебного дела, иных официальных письменных материалов по рассмотрению на государственном уровне дуэльного поединка Пушкина и Дантеса не существовало. Конечно, изучая судебное дело не с процессуальными целями, можно по-разному истолковывать его результаты из-за особой формы и содержания документов. Однако имелись и плюсы: наличие письменных подлинников давало возможность при необходимости предъявить их для собственного оправдания, а уголовно-процессуальная и судебная специфики обеспечивали то, что факты установлены и разложены в документах по определённым правилам и порядку.
Гребнев принял во внимание, что за прошедшие почти двести лет со дня дуэли и более ста лет с момента первой полной публикации военно-судного дела, произведённой в октябре 1899 года, государство ни разу не подвергало сомнениям истинность обстоятельств дуэли и выводов, изложенных в официальном расследовании. «Из этого и следует исходить», – решил он. Вековая незыблемость описания, почему и как застрелен Пушкин, с одной стороны, упрощала исследование, но с другой – вызывала вопрос: не устарели ли выводы и оценки суда? «Вот и проверим», – заключил Гребнев.
При изучении материалов дела Гребнев решил не опираться на мнения профильных специалистов и пушкинистов, то есть представителей научного сообщества. Он считал их личными оценками исследователей, обусловленными историко-литературными позициями авторов, изучавших одни и те же документы. Если ему говорили, что известный специалист уже высказался по теме, Гребнев отвечал: «Никто не знает, зачем он это написал, а сам он уже не расскажет». Ко всему спектру профессиональных мнений можно обратиться и позднее, если потребуется привлечь на свою сторону научный авторитет.
Более Гребнева интересовали выводы какого-нибудь, как и он, политического консультанта, однако люди такой специальности материалы дуэли не изучали, а если изучали, то ничего об этом не публиковали. А его личная предвзятость, на которую Гребнев соглашался, нуждаясь именно в собственном понимании фактов, была обусловлена профессиональным воззрением – точкой зрения политического консультанта. Особенность такого подхода к вопросу состояла в том, что, в отличие от историков, которые ищут «историческую правду», политический консультант Гребнев выяснял, как историю использовали и как её использовать дальше. Избавиться от этого «фона» было трудно и, как он считал, не нужно. Ход размышлений Гребнева всегда профессионально окрашивался, что и позволяло проводить анализ и делать выводы, которые интересовали его как политического консультанта, а не историка или литературоведа – нюансы важны везде.
Гребнев старался смотреть на вещи объективно и не усложнять смысл простого. Изучая материалы, он формулировал обобщённые тезисы, по которым делал заключения, и получал представление о предмете. Решив, что изучить судебно-следственные материалы ему по силам, Гребнев доверял собственным выводам и мог использовать их, как сочтёт нужным. В помощники он взял работника КПП, аспиранта социологического факультета МГУ Алексея Смирнова, которого почитал за аналитика с хорошими способностями. Алексей быстро улавливал, что хотел руководитель, и Гребневу иногда казалось, что тот научился у него говорить вслух меньше, чем на самом деле думает.
Методика анализа и изложения информации в справке соответствовала методу, обычно применявшемуся Гребневым для работы с объёмным фактическим материалом. Он наставлял Алексея, какие данные следует выделять и группировать и как вносить в справку конкретные и обобщенные сведения, которые по разным причинам существенны для изучения поставленного вопроса. На практике им приходилось анализировать уголовные дела, в том числе старые – репрессированных родственников сегодняшних клиентов. Гребнев говорил: «На дело мы смотрим с точки зрения юристов сегодняшнего дня. Мы не собираемся ломать судебное решение, но проверяем, насколько хорошо следователи и судьи сделали свою работу». «Так я же не юрист…» – вставил Алексей, получив задание в первый раз, и тут же осёкся под взглядом Гребнева. После первых попыток, правки и дополнительных разъяснений Алексей составлял документы так, как требовалось Гребневу, и он в очередной раз подумал, что работник у него хороший.
Перед началом работы Гребнев объяснил Алексею, что в итоге необходимо определить, насколько полно и всесторонне проведено официальное расследование причин и обстоятельств поединка, удостовериться, что выводы суда основаны на результатах рассмотрения материалов дела, и сформулировать, как царская Россия описывала и оценивала обстоятельства дуэли. С учётом объявленных задач и составлялась справка.
Предстояло изучить военно-судное дело в виде материалов трёх производств: «канцелярии Аудиториатского департамента о предании военному суду поручика Кавалергардского Её Величества полка барона Геккерена», «Военно-судной комиссии, учреждённой при лейб-гвардии Конном полку», «переписки Аудиториатского департамента и определения генерал-аудиториата» – всего двести тридцать четыре листа допросов обвиняемых и свидетеля, документов, справок, судебных определений, служебной переписки. Работали Гребнев и Алексей слаженно, обсуждали текущие результаты и проверяли друг друга. Оба находились под впечатлением от узнавания истории, ведь не каждый день доводилось читать исторические документы о расследовании обстоятельств трагической смерти человека, признанного олицетворением национального гения России.
Приступив к анализу, они заметили мелкие ошибки и путаницу, допущенные при оформлении материалов, содержавшихся в документах. Однако это не мешало выполнению поставленной задачи. Затем обнаружилось, что, если составлять справку только по материалам уголовного дела, отдельные обстоятельства истории будут отражены схематично, без уточнений и существенных деталей, потому что в указанных материалах, как правило, таких данных не содержалось. Их требовалось восполнять: без необходимого уровня конкретности не получится сделать выводы. Решили, сохраняя приоритет уголовного дела, расширить справку сведениями из других достоверных источников – в небольшом объёме использовали информацию о фактах, не заимствуя их оценки.
После недельного труда получился систематизированный аналитический материал со сведениями разного плана, позволявшими ответить на поставленные Гребневым вопросы. В результате он пришёл к пониманию картины произошедшего, восстановленной государственным расследованием в процессе проведения суда над участниками дуэли. Да, это была картина, излагающая преступные действия, но другой не имелось.
Дуэль в судебных документах представилась ему событием, юридически описанным достаточно полно. Генерал-аудиториат, проверяя дело после завершения работы Комиссии военного суда, изменил формулировки первоначально предъявленных обвинений, дал действиям подсудимых другую квалификацию по уголовным статьям и внёс указание на анонимные письма как причину дуэли. Правка сентенции объяснялась более высокой, по сравнению с полковым судом, квалификацией вышестоящих чиновников и необходимостью устранения ошибок. Гребнев отметил, что обвинения конкретны и представляют собой действия, подлежащие наказанию по уголовным статьям. Вина подсудимых в совершении преступлений, в которых они обвинялись, как говорят юристы, подтвердилась материалами дела.
Гребнев и Алексей составили сжатое извлечение из судебных материалов с изложением официального, как его понял Гребнев, ви́дения дуэли, что позволяло определить концептуальные акценты, ту самую идеологию, с которой предстояло работать на съёмках кинокартины.
Описание дуэли вышло следующим.
Между Пушкиным и бароном Геккереном несколько месяцев существовали личные неприязненные отношения, обусловленные поведением Геккерена, который своими открытыми преследованиями склонял жену Пушкина к нарушению супружеской верности, чем оскорблял её и Пушкина. Данная ситуация была известна в обществе.
В ноябре 1836 года Пушкин вызывал Геккерена на дуэль, но позже отказался от вызова, узнав, что Геккерен решил жениться на его свояченице, Катерине Гончаровой. После свадьбы Геккерена отношения между ним и Пушкиным продолжили ухудшаться, так как поведение Геккерена оставалось оскорбительным для чести Пушкина и его жены.
Кроме того, Пушкин получил анонимные оскорбительные для чести письма, в авторстве которых подозревал Геккерена, однако причастность последнего к письмам не установлена.
После получения анонимных писем 26 января 1837 года Пушкин послал отцу Геккерена, министру нидерландского двора, частное письмо с обвинениями в помощи сыну в его недостойном поведении, где также содержались оскорбительные для обоих Геккеренов выражения и требование прекратить непозволительное поведение. В ответ на это Геккерен-старший, считая себя оскорблённым, прислал через атташе французского посольства виконта д’Аршиака письмо Пушкину с вызовом на дуэль, которое подписал и Геккерен-сын, выразивший желание непосредственно участвовать в дуэли. Приняв вызов, Пушкин обращался к советнику британского посольства Артуру Мегенсу с предложением быть его секундантом, но тот предложение не принял. Тогда Пушкин обратился с данным предложением к инженер-подполковнику Константину Данзасу. Данзас согласился быть секундантом Пушкина. Секундантом Геккерена стал д’Аршиак. В результате состоявшейся между Геккереном и Пушкиным дуэли 27 января 1837 года Пушкин был ранен и 29 января умер, Геккерен неопасно ранен.
Обобщение, подготовленное Гребневым, почти совпадало с итоговым описанием дуэли в судебных материалах, сохраняя и стиль изложения. Оно включало установленные при расследовании обстоятельства и учитывало, как эти обстоятельства отражены в документах дела, чтобы обосновать судебные выводы. Объём извлечённой информации оказался небольшой, однако выделенные сведения обеспечивали возможность дать ответы на вопросы из круга обязанностей Гребнева на съёмках кинокартины.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе